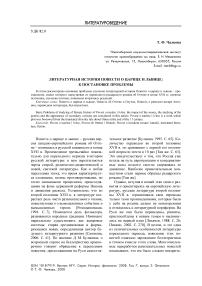Литературная история повести о царице и львице: к постановке проблемы
Автор: Чалкова Т.Ф.
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 2 т.7, 2008 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрены основные проблемы изучения литературной истории Повести о царице и львице - произведения, сюжет которого заимствован из переводного рыцарского романа об Оттоне в конце XVII в.: влияние источника, изучение поэтики, появление вторичных редакций.
Повесть о царице и львице, повесть об оттоне и олунде, повесть о римском цесаре антонии, переводная литература, беллетристика
Короткий адрес: https://sciup.org/14736973
IDR: 14736973 | УДК: 82.0
Текст научной статьи Литературная история повести о царице и львице: к постановке проблемы
Повесть о царице и львице – русская версия западно-европейского романа об Оттоне – появилась в русской книжности в конце XVII в. Произведение чрезвычайно показательно для переходного периода в истории русской литературы: в нем переплетаются черты старой, религиозно-дидактической и новой, светской литературы. Как и любая переходная эпоха, это время характеризуется сложными, подчас противоречивыми, но тесно связанными процессами, происходящими на фоне церковной реформы Никона и движения раскола. Установлено, что во второй половине XVII в. в литературе возрастает роль чисто развлекательного чтения, повествующего о вымышленных событиях и вымышленных героях [Ромодановская, 1994. С. 7]. Изменяется роль фольклора, развиваются народные традиции. Начинают параллельно существовать две жанровые системы: старая средневековая и формирующаяся новая, определившая вектор будущего литературного развития [Сазонова, 2006. С. 41]. По мнению Д. М. Буланина, о возросшем спросе на беллетристику красноречиво говорит обращение к переводным повестям, продолжавшим на Руси самостоя- тельное развитие [Буланин, 1995. С. 65]. Количество переводов во второй половине XVII в. по сравнению с первой его половиной возросло почти в 10 раз [Там же. С. 63]. Это свидетельствует о том, что Россия уже встала на путь европеизации и консервативные силы недолго смогли сдерживать ее движение. Наиболее примечательным новшеством стали первые образцы рыцарского романа [Там же].
Однако, вступая в новый этап своего развития и ориентируясь на европейскую литературу, русская литература второй половины XVII в. ограничивала свои переводы только теми произведениями, которые были у себя на родине далеко не новаторскими и относились к литературной периферии. На Руси же они были переведены, развиты, приспособлены к новым темам и выдвинулись на первый план [Лихачев, 1988. С. 26; Пиккио, 2002. С. 270]. В целом, и это одна из отличительных особенностей литературы переходного периода, появление этих повестей означало зарождение беллетристики в точном смысле этого слова. Многочисленные переработки развлекательных повестей показывают, что им было сложно внедрить-
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2008. Том 7, выпуск 2: Филология © Т. Ф. Чалкова, 2008
ся в литературу средневекового типа с ее прагматичным подходом к каждому тексту [Буланин, 1995. С. 63].
Трудно переоценить влияние этого переломного периода на дальнейшее развитие русской литературы, и прежде всего на литературу Петровского времени, на что было указано еще А. И. Соболевским [Соболевский, 1903. С. 38–51]. Большинство современных исследователей также отмечает тесную связь этих эпох. Так, например, говоря о литературе Петровского времени, Д. М. Буланин подчеркивает, что мы не вправе забывать предшествующий ей период [Буланин, 1995. С. 14]. Л. И. Сазонова в своем фундаментальном исследовании показывает, что в России, не знавшей Ренессанса, разделительный период между культурными эпохами относится не только к Петровскому времени, как было принято считать, а начинается гораздо раньше и продолжается весь XVII век, захватывая отчасти и век XVIII [Сазонова, 2006].
Несмотря на огромное историческое значение, этот сложный период в истории русской литературы все еще остается недостаточно изученным, не исследованы и отдельные литературные произведения данного периода. Так, до сих пор не рассмотрен круг памятников, объединенных сюжетом о приключениях оклеветанной и несправедливо осужденной царицы, – это русский перевод Повести об Оттоне и Олунде и созданные на его основе Повесть о царице и львице и Повесть о римском цесаре Антонии. По своей жанровой сути Повесть об Оттоне – рыцарский роман. Между тем проблема адаптации рыцарского романа вызывает огромный интерес, что и определяет актуальность изучения Повести о царице и львице как одного из популярных произведений древнерусской книжности. Очень важно наметить перспективы и направления изучения литературной истории повести. В дальнейшем это поможет выявить пути русификации западно-европейского романа в конце XVII в., определить место произведения в литературно-эстетическом контексте эпохи и тем самым показать его своеобразие как явления эпохи переходного периода от средневековой литературы к литературе Нового времени.
Сюжет Повести об Оттоне и Олунде был известен почти всей средневековой Европе [Повесть о цесаре Оттоне…, 1998]. Повесть об Оттоне, как и многие другие псевдоры-царские романы, пришла в Россию через польское посредство, скорее всего, от переводчиков Посольского приказа [Кудрявцев, 1963. С. 179–244]. На Руси западноевропейский сюжет лег в основу оригинального русского произведения – Повести о царице и львице.
В ней рассказывается о приключениях оклеветанной свекровью царицы, изгнанной супругом с двумя сыновьями-близнецами в пустыню. Здесь одного из детей похищает львица и затем воспитывает его. Вскоре царица с другим ребенком останавливается «у некоего христианина». На царство отца изгнанных детей нападает неприятель. Услышав об объявлении войны, юноши выходят на поле битвы. После их победы выясняется, что они – братья и сыновья царя. Царь посылает за царицей, она возвращается. Повесть кончается прославлением Бога 1.
Сопоставляя Повесть о царице и львице с ее источником, мы видим последовательно проводимый авторский замысел, обусловивший и объединивший все частные изменения. Целью автора было создать на основе занимательного рассказа христианско-дидактическое произведение. Благодаря сокращениям различного характера (исключение описаний рыцарских подвигов, диалогов, мелких подробностей), русский редактор выделил одну из тем рыцарского романа, показавшуюся ему особенно важной, а именно тему оклеветанной и изгнанной царицы, ставшую основной в русской повести.
В рукописях Повесть о царице и львице чаще всего имеет название: «Повесть зело полезна, выписана от древних летописцов, из римских кронников, коя царица, моляся пресвятей Богородице, спасена бысть от смерти (вариант: “милость получи”)». Как показало текстологическое изучение списков Повести о царице и львице (изучено около 200 рукописей), большинство ее списков представляет стабильный текст. В рукописях конца XVII в. его следует отнести к Основной, наиболее известной редакции Повести. Данные текстологического анализа позволяют считать эту редакцию первона- чальной, т. е. самой ранней переделкой Повести об Оттоне.
Впервые в научный оборот Повесть о царице и львице ввел А. Н. Пыпин [Пыпин, 1857. С. 240]. Бытование двух произведений на один сюжет вызвало интерес исследователя, но сопоставление Повести о царице и львице с ее источником ограничилось лишь констатацией факта их одновременного распространения и указанием на сходство сюжета. А. Н. Пыпин отказал русской повести в каком бы то ни было художественном своеобразии, назвав ее из-за отсутствия собственных имен довольно бледной и безличной. Однако представляется крайне спорным утверждение исследователя о связи художественных достоинств произведения с наличием имен у его персонажей, тем более что мы рассматриваем произведение средневековой литературы, для которой нередко была характерна безымянность действующих лиц.
-
А. Н. Веселовский, вслед за А. Н. Пыпи-ным отмечая сходство содержания обеих повестей [Веселовский, 1880. С. 451], также, к сожалению, не уточнил, в чем оно состоит, касается ли оно только фабулы произведения или также характеристики персонажей, его структуры и жанра.
-
В. П. Клингер, сравнив сюжеты двух повестей, показал, какие изменения внесены при создании Повести о царице и львице. Исследователь отметил, что, в отличие от западноевропейского сюжета, в ней нет упоминаний о времени и месте событий, опущено все лишнее, и, наконец, главное – покинутая в лесу мать лишается одного, а не обоих детей, что обусловило и остальные сюжетные отличия [Клингер, 1903. С. 55]. Однако он не пояснил, как отразились эти изменения на художественных особенностях Повести о царице и львице, и этот вопрос остался открытым.
При изучении русских версий Повести об Оттоне В. П. Адрианова-Перетц выделила особую группу текстов, озаглавленных ею Повесть о римском цесаре Антонии, и именно их считала промежуточным звеном между Повестью о царице и львице и ее источником – переводным рыцарским романом. Исследовательница отметила постепенное расширение нравоучительных сентенций в Повести о римском цесаре Антонии и приобретение Повестью о царице и львице явно дидактического характера
[Адрианова-Перетц, 1948. С. 384]. Повесть об Антонии, как и Повесть о царице и львице, В. П. Адрианова-Перетц считала Сокращенной редакцией Повести об Оттоне и Олунде. Однако вряд ли правомерно говорить только о сокращении, если изменения коснулись и идейного содержания, и сюжетного построения, и жанра. Представляется более верным считать, что перед нами самостоятельные произведения, связанные лишь генетически, а не основной текст и его сокращенные редакции.
Концепция В. П. Адриановой-Перетц о промежуточном положении Повести о римском цесаре Антонии между рыцарским романом и нравоучительной повестью нашла отражение в справочно-информационном издании «Древнерусская повесть», составленном ею совместно с В. Ф. Покровской [Адрианова-Перетц, Покровская, 1940. С. 183–192]. Четыре списка отнесены к этой группе ошибочно: они представляют собой другие произведения [Повесть о римском цесаре…, 1990. С. 223]. В «Библиографии древнерусской повести» А. А. Наза-ревского [Назаревский, 1955. С. 119–125] Повесть об Антонии также рассматривается как Сокращенная редакция Повести об Оттоне. Эту точку зрения в дальнейшем разделяли многие другие исследователи [Разночинно-демократический…, 1956; Державина, 1964. С. 240; Гудзий, 1966. С. 461; Итигина, 1974; Маłek, 1978; Повесть о цесаре Оттоне…, 1998. С. 235].
В настоящее время известно пять списков Повести об Антонии. Наши предварительные текстологические наблюдения позволили выявить большие расхождения между Повестью об Оттоне и Повестью об Антонии и наряду с этим несомненную близость последней к Повести о царице и львице. Анализ показал вторичность Повести о римском цесаре Антонии по отношению к Повести о царице и львице [Повесть о римском цесаре…, 1990]. Следует отметить, что на протяжении всего текста религиозно-назидательного произведения – Повести о царице и львице – последовательно осуществлен «светско-государственный» (в духе Петровского времени) характер переработки, в результате чего и возникла Повесть об Антонии.
Палеографическое исследование рукописей позволяет датировать Повесть о царице и львице не позднее 1690-х гг., а Повесть об
Антонии – второй половиной XVIII в. Таким образом, утверждение В. П. Адриа-новой-Перетц о первичности Повести об Антонии по отношению к Повести о царице и львице, по-видимому, должно быть пересмотрено.
Итак, единого мнения о взаимосвязях Повести о царице и львице и Повести об Оттоне нет, а вся ее последующая литературная история требует специального изучения. К настоящему времени существуют лишь фрагментарные упоминания Повести о царице и львице в специальных исследованиях на другие темы [Щеглова, 1932; Разночинно-демократический…, 1956; Кузьмина, 1964. С. 7; Истоки…, 1970. С. 482; Итигина, 1974; Акт…, 1976. С. 404–437, 778–789; Ромодановская, 1994. С. 144–147; Буланин, 1995; Силантьев, 1999. С. 373–375]. На необходимость изучения такого популярного произведения, как Повесть о царице и львице, еще в 1964 г. указывала О. А. Державина [1964. С. 240]. Таким образом, задачи дальнейшего исследования определяются до сих пор не решенными проблемами в изучении литературной истории Повести о царице и львице.
В плане нашей темы очень важно следующее замечание Р. Пиккио о роли средневековых традиций книжной литературы: «Повести XVII века и породившую их духовную атмосферу необходимо оценивать скорее в их внутреннем и непосредственном значении, сопоставляя с достижениями предыдущей литературы, а не только с расцветом более поздней литературы, которую они, по всей вероятности, предвосхищали» [Пиккио, 2002. С. 271]. Русская литература раннего Нового времени опиралась на огромный опыт своих национальных традиций и была готова воспринять новые для себя и по сюжету, и по форме западно-европейские романы.
В Повести о царице и львице мы наблюдаем параллелизм в построении сюжета, синкретизм различных жанрообразующих элементов, переменчивость в судьбе главных героев, их экзальтированность, значащие имена персонажей в позднейших редакциях и т. д. Все это черты, характерные для произведений нового литературного направления второй половины XVII в. – барокко [Сазонова, 2006]. Впрочем, и это очевидно, что новый сюжет, который привнес западно-европейский роман об Оттоне, не мог уместиться в рамки средневековой традиции, и русскому редактору пришлось искать для него новые формы.
Выяснив причины повторного, кроме дословного перевода, обращения к рыцарскому роману, мы сможем понять, с одной стороны, общие закономерности адаптации рыцарских романов, а с другой – проследить отражение в произведении культурноисторического фона эпохи и в конечном итоге пути европеизации русской литературы XVII в. По нашему мнению, повторное обращение к рыцарскому роману свидетельствует не только о популярности переводной беллетристики, но и о том, что Повесть об Оттоне «отталкивала» своей новизной читателя, воспитанного на средневековой литературе. В таком противоречивом восприятии переводного произведения мы видим отражение характера переходной эпохи.
Очень важно детально изучить редакционные изменения, которым был подвергнут заимствованный источник при создании русской обработки. Это позволит прояснить, действительно ли перед нами другая повесть, как считали А. Н. Пыпин и А. Н. Веселовский, или Повесть о царице и львице является Сокращенной редакцией Повести об Оттоне (В. П. Адрианова-Перетц, А. С. Орлов, О. А. Державина, Л. В. Соколова и др.). При этом необходимо обратить внимание на то, какие изменения претерпел переводный рыцарский роман на Руси и как в них отразился переходный характер эпохи. С одной стороны, обработки этих романов в духе религиозно-христианской идеологии свидетельствуют, что процесс секуляризации русской литературы не был простым и прямолинейным. Кроме Повести об Оттоне, можно в качестве примера привести Агиографическую редакцию Повести о Петре Златых Ключей [Покровская, 1940. С. 176–186; Кузьмина, 1964. С. 275–331] и Тихонравов-скую редакцию Повести об Аполлонии Тирском [Соколова, 1982. С. 10–12]. С другой стороны, обнаруживалось сильное влияние фольклорных традиций на процесс ассимиляции рыцарских романов, которые представляют «низовую народную книгу», чем объясняется их быстрая интеграция с национальным устным народным творчеством [Кузьмина, 1964. С. 7].
Новизна и оригинальность Повести о царице и львице проявились в ее поэтике. В этом плане важно показать художествен- ное своеобразие Повести, уточнив ее жанровые особенности, структуру и систему действующих лиц. Русское произведение было намного богаче по количеству представленных в нем жанрообразующих элементов, чем его источник. В Повести о царице и львице мы находим сходство с Житиями, на что указывали еще В. М. Жирмунский [1979. С. 62] и Ю. Кржижановский [Krzyžanowski, 1961. P. 59] (переделка повести И. С. Мяндиным также осуществлена в рамках агиографической традиции [Повесть о царице…, 1987]), с волшебной сказкой [Чалкова, 1985. С. 93–113], плачами, притчей, воинской повестью. Кроме того, в ней встречаются цитаты из других произведений древнерусской литературы (например, для характеристики злой свекрови – из Беседы отца с сыном о женской злобе [Титова, 1987]). Как мы уже отмечали, большинство списков повести относится к Основной редакции, но не менее перспективно текстологическое исследование немногочисленных вторичных редакций и переделок.
Повесть о царице и львице – чрезвычайно яркое и характерное произведение конца XVII в. Как в капле воды, в нем отчетливо отразились все противоречия переходной эпохи: светские, занимательные эпизоды соседствуют с христианско-дидактическими, заимствованная фабула переплетается с сюжетом русских сказок, жанровые элементы западно-европейского романа и новеллы – с притчей и исконно русской воинской повестью. Благодаря увлекательному сюжету, с одной стороны, и «душеполезно-сти» – с другой, повесть удовлетворяла самым разным, в том числе и новым читательским вкусам. Будучи одним из популярных произведений древнерусской литературы, Повесть о царице и львице стала важным этапом на пути русской литературы к беллетристике и дала богатый материал для изучения общих закономерностей развития русской литературы XVII–XVIII вв. Исследование конкретного произведения позволит воссоздать общую картину историколитературных явлений и процессов второй половины XVII в.