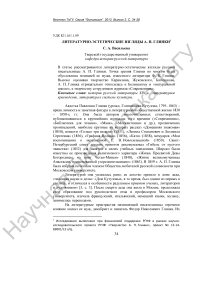Литературно-эстетические взгляды А. П. Глинки
Автор: Васильева Светлана Анатольевна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 3, 2013 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются литературно-эстетические взгляды русской писательницы А. П. Глинки. Точка зрения Глинки во многом была обусловлена позицией ее мужа, известного литератора Ф. Н. Глинки. Высоко оценивая творчество Карамзина, Жуковского, Батюшкова, А. П. Глинка отрицательно относилась к Белинскому и «натуральной школе», к творчеству сотрудников журнала «Современник».
История русской литературы xix в., литературное краеведение, литература в системе культуры
Короткий адрес: https://sciup.org/146121197
IDR: 146121197 | УДК: 821.161.1.09
Текст научной статьи Литературно-эстетические взгляды А. П. Глинки
Авдотья Павловна Глинка (урожд. Голенищева-Кутузова, 1795–1863) – яркая личность и заметная фигура в литературной и общественной жизни 1830 – 1850-х гг. Она была автором многочисленных стихотворений, публиковавшихся в крупнейших журналах того времени («Современник», «Библиотека для чтения», «Маяк», «Москвитянин» и др.), прозаических произведений, наиболее крупные из которых рассказ «Домашняя знакомая» (1850), повести «Только три недели» (1851), «Леонид Степанович и Людмила Сергеевна» (1856), «Графиня Полина» (1856), «Катя» (1858), мемуаров «Мои воспоминания о незабвенной Е. В. Новосильцевой» (1850). Санкт-Петербургский совет детских приютов рекомендовал «Гибель от пустого чванства» (1852) для занятий в своих учебных заведениях. Широко были известны ее произведения религиозного характера «Жизнь Пресвятой Девы Богородицы, из книг Четьи-Минеи» (1840), «Житие великомученицы Анастасии, поименованной узорешительницею» (1863). В 1859 г. А. П. Глинка была избрана почетным членом Общества любителей русской словесности при Московском университете.

Литературой она увлеклась рано, ее детство прошло в доме деда, «человека науки и дела»: «Дом Кутузовых, в то время, был одним из первых в столице, и отличался в особенности радушным приемом ученых, литераторов и художников» [5, с. 3]. После смерти деда она жила в Москве, продолжала свое образование под руководством отца и профессоров Московского университета, изучала французский, итальянский, немецкий языки, музыку, занималась переводами.
На литературные пристрастия начинающей писательницы огромное влияние оказал ее муж, декабрист и писатель Федор Николаевич Глинка. Их
69001/13 а/Ц.
свадьба состоялась в 1830 г., к этому времени Ф. Н. Глинка был уже признанным литератором, автором «Писем русского офицера», стихотворного сборника «Подарок русскому солдату», книги «Опыты священной поэзии». Он не причислял себя ни к какой литературной школе, ни к какому направлению. В письме к В. В. Измайлову (1826) он утверждал: «Я не классик и не романтик, а что-то сам не знаю, как назвать!» [7, с. 474] По мнению современных исследователей, литературные взгляды Глинки развивались на удивление автономно, «его нельзя причислить ни к романтикам, ни к сентименталистам, ни к классицистам, ни к откровенным реалистам» [10, с. 7].

С 1835 г. Глинки жили в Москве, где Ф. Н. Глинка быстро втянулся в литературную жизнь, много писал, печатался в журнале «Москвитянин», в газете «Московские ведомости». А. П. Глинка еженедельно устраивала в своем доме литературные вечера, которые стали заметным явлением московского быта того времени и посещались «людьми великого ума и дарований»: «В каждый понедельник съезжались на вечер все, того времени, писатели, мыслители, артисты. Нередко сбиралось до сорока человек, и, несмотря на тесноту помещения, гости оставались до двух и трех часов за по Разумеется, что Авдотья Павловна, с ее музыкальным и литерат талантом, была душою этих московских понедельников» [5, с. 6]. знакомых и друзей Глинок в этот период были многие известные литер очь.
реди оры:
М. А. Дмитриев, Ф. Б. Миллер, И. И. Лажечников, Ф. И. Тютчев, М. П. Погодин, С. П. Шевырев, А. С. Хомяков, В. И. Даль, М. Н. Загоскин, Аксаковы и др. По своим взглядам Глинки были близки к славянофилам, поэтому в их дом приходили многие, разделявшие их убеждения.
В литературно-критических заметках А. П. Глинка среди лучших называет писателей, которых ценил ее муж. Ссылаясь на слова критика о «преданиях прошлого золотого века», она пишет: «Если это век Державина, Карамзина, Жуковского и Батюшкова, то и я скажу, что это был золотой век и готова оставаться ему навсегда верною, как верна и преданна всему истинному, высокому и прекрасному» [3, с. 4].

Имена Г. Р. Державина и Н. М. Карамзина встречаются уже в «Письмах русского офицера» Ф. Н. Глинки. Что касается В. А. Жуковского, то Глинки были с ним знакомы. В 1820-е гг. Ф. Н. Глинка считал «первыми поэтами нашего времени» В. А. Жуковского и А. С. Пушкина [7, с. 493], а творчество Жуковского, старшего современника, оказало влияние на поэзию Ф. Н. Глинки, в частности, его «культ тайны», «интерес к мистике и потустороннему» [8, с. 157]. Один из первых опубликованных литературных опытов А. П. Глинки, перевод «Песни о Колоколе» Ф. Шиллера, получил одобрительный отзыв Жуковского, сказавшего: «Я несколько раз принимался за Колокол, но никогда не был доволен собою и оставлял; ваш же перевод так отчетист и красив, что сам Шиллер полюбовался бы им!» [5, с. 7]. А. П. Глинка посвятила знаменитому поэту стихотворение «Василию Андреевичу Жуковскому» (сборник «Задушевные думы»). Отношение мужа к Пушкину А. П. Глинка не разделяла, очевидно, помнила критические высказывания последнего о произведениях Глинки. По воспоминаниям одной из слушательниц «Таинственной капли», она сказала ей: «Напрасно вы пришли, – сказала она мне сухо. – Это писал не какой-нибудь негодяй Пушкин или пьяница Лермонтов, а апостол Федор» [5, с. 6].
Зарубежная литература также включалась в круг интересов Глинок. А. П. Глинка считала, что «для Гомера, Шекспира и других гениев нет ни прошлых, ни настоящих веков. Века, украшенные их именами, бессмертны их бессмертием» [3, с. 4]. Ф. Н. Глинка в «Письмах русского офицера» неоднократно называет Гомера, причем демонстрирует прекрасное знание его произведений, цитирует «Илиаду», «Одиссею» и отсылает читателя к гомеровским сюжетам. В этом же ряду называются Вергилий и Тасс.
А. П. Глинка преклонялась перед творчеством мужа, особенно это относилось к его поэме «Таинственная капля». Отрывки из поэмы, вышедшей в России лишь в 1871 г., читались уже в 1840-е гг. Известно, что летом 1846 г. Глинки читали ее в Сокольниках: «Начало поэмы прочел Федор Николаевич, между тем как Авдотья Павловна за него делала жесты; некоторые стихи она говорила вместе с ним, с каким-то завыванием» [11, с. 169].
Несмотря на приведенное выше негативное высказывание об М. Ю. Лермонтове, лермонтовские мотивы часто встречаются в поэзии А. П. Глинки. Прежде всего это мотивы скуки и грусти, отсылающие к стихотворению «И скучно, и грустно» («Господи! я изнываю…», «Странница», «Болезнь»). По-лермонтовски решаются темы поколения, пустоты светского общества, маскарада жизни, тема поэта-пророка («Не беспокойтесь, я подале…», «Не люди судят нас, не люди…», «Иди, иди путем страданий…» и др.) [2, с. 5–20].
Глинки негативно относились к эстетическим принципам «натуральной школы». О главном идеологе школы Ф. Н. Глинка писал: «Белинский, как известно, писал резко, запальчиво и самоуверенно о всех авторах, пользовавшихся известностью. Он и во мне уничтожил всякий талант, всякую способность (ну, и Бог с ним!). Я не всегда огорчался его отзывами потому, что и сам не подозревал в себе большого таланта, а писал для утешения себя, в минуты грусти, во время больших моих несчастий. Но жена моя, любившая меня и мою поэзию, часто огорчалась резкими отзывами Белинского» [6, с. 7]. А. П. Глинка и к творчеству Н. В. Гоголя относилась двойственно: высоко оценивая его талант, она не принимала творчества писателей «гоголевского» направления: «Вот и Гоголь, несмотря на его огромный талант, много сделал вреда. Пошли, без его таланта, его последователи и накидали грязи в литературу» [4, с. 52]. В 1850-е гг. позиция Ф. Н. Глинки «по отношению к “натуральной школе” несколько смягчилась: она, по его мнению, должна выполнять просветительские задачи, так как адресатом ее является “простой” ль, не способный оценить истинных произведений искусства» [9, с. 44–


А. П. Глинка высоко ценила творчество А. И. Герцена, не разделяя, правда, его убеждений; о «Былом и думах» она писала автору: «Вы большой мастер в описаниях, лица у вас живые; вы и сердечные ощущения глубоко и верно перебираете. Но тут вы сами же и портите все. Вдруг, посреди живого рассказа или речей дельных ни с чего ни с сего у вас является горький, обидный сарказм, и хорошее впечатление вами сделанное неприятно исчезает» [4, с. 43]. Резкость, по мнению Глинки, нашла отражение и в речи: «Ваш язык в иных местах опускается очень низко, до неприличия в хорошем обществе, а если вы пишете только для нашего народа, то он и подавно не поймет ваш ученый язык, нашпигованный иноземными словами» [4, с. 45].
С 1853 г. Глинки жили в Петербурге, на «понедельники» стали вновь собираться писатели, поэты, артисты. Частыми гостями были П. А. Вяземский, Н. И. Греч, П. А. Плетнев. Отношения с петербургской журналистикой складывались непросто. В 1856 г. в «Современнике» появилась негативная рецензия на повесть А. П. Глинки «Графиня Полина». Разбирая эту рецензию по пунктам, А. П. Глинка дает оценку и всей современной журналистике: «С некоторого времени, в некоторых журналах, присвоивших себе право суда и расправы, стали появляться (под названием критических обзоров) статьи, в которых неизвестные люди, утаив имена свои, играют именами известных писателей – судят, рядят и, осудив своим самосудом, печатают приговоры свои во всепрочтение всей читающей России» [3, с. 1]. Больше же всего Глинку задели ссылки на детали и события, которых в ее повести нет: «Но пусть бы осуждали сочинения, пусть бы и на белом отыскивали черные точки, пусть бы выставляли опечатки, обмолвки, ошибки грамматические , погрешности против состава речи, здравой логики и тому подобное! – Совсем не то! – Они берут в руки сочинение только для вида, а все свои виды, намеки, остроты и колкие иносказания обращают прямо на сочинителя. Личность преследует лица, безымянность позорит имена!!» (выделено авт. – С. В .) [3, с. 1].
В Петербурге Глинки поддерживали отношения с П. А. Вяземским. Известно, что еще в 1848 г. Ф. Н. Глинка читал главы из «Таинственной капли» у Вяземского для петербургских литераторов, а на следующий день в письме предлагал ему устроить более основательное прослушивание. До конца жизни Глинки дружили с Погодиным, сохранились письма Глинки Погодину 1850-х—1870-х гг., известно, что он заезжал к Глинке в Тверь в 1872 г.
В целом же, отношение Глинок к литературе было во многом обусловлено их христианским мировоззрением. Они считали, что литература должна воспитывать, способствовать нравственному совершенствованию читателя. Поэтому они так много писали о религии, поэтому занимались переложением Священного Писания. И в литературе, и в быту Глинки пропагандировали духовность и служение высшим идеалам:
Нет у меня блестящего наряда,
Нет у меня двух тысяч душ;
Какая ж людям в нас отрада?
Поэты мы – и я и муж!..