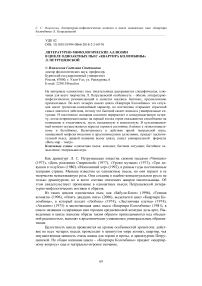Литературно-мифологические аллюзии в цикле одноактных пьес "Квартира Коломбины" Л. Петрушевской
Автор: Имихелова Светлана Степановна
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Философия @vestnik-bsu
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 2 т.2, 2018 года.
Бесплатный доступ
На материале одноактных пьес писательницы раскрывается специфическая, ключевая для всего творчества Л. Петрушевской особенность - обилие литературномифологических реминисценций в сюжетах насквозь бытовых, преувеличенно приземленных. Во всех четырех пьесах цикла «Квартира Коломбины» эта ситуация носит гротескно-комедийный характер, но постепенно открывает серьезной смысл диалога и действия, потому что бытовой сюжет вписан в универсальные ситуации. И постепенно основная коллизия перерастает в коммуникативную встречу, когда непривлекательные на первый взгляд герои оказываются способными на понимание и отзывчивость, пусть искаженную и мимолетную. В кульминационный момент осуществляется переход героев в состояние, близкое к экзистенциальному и бытийному. Включенность в действие яркой театральной игры, освященной мифологическими и архетипическими аллюзиями, придает заключительной пьесе, давшей название всему цикла, смысл универсальной формулы «Весь мир - театр».
Одноактная пьеса, комедия, бытовая ситуация, бытийное осмысление, театральная игра
Короткий адрес: https://sciup.org/148315473
IDR: 148315473 | УДК: 82 | DOI: 10.18101/1994-0866-2018-2-2-69-76
Текст научной статьи Литературно-мифологические аллюзии в цикле одноактных пьес "Квартира Коломбины" Л. Петрушевской
Как драматург Л. С. Петрушевская известна своими пьесами «Чинзано» (1973), «День рождения Смирновой» (1977), «Уроки музыки» (1973), «Три девушки в голубом» (1980), «Московский хор» (1992), в разные годы поставленные театрами страны. Меньше известны ее одноактные пьесы, но они играют в ее творчестве немаловажную роль. Они созданы в идейно-концептуальном русле не только драматургии, но и всего состава эпических жанров писательницы. Об этом свидетельствует проявление в одноактных пьесах Петрушевской литературно-мифологических мотивов и образов.
Из таких циклов одноактных пьес, как «Бабуля-Блюз» (1996), «Темная комната» (1996), «Опять двадцать пять» (2006), выделяется цикл «Квартира Коломбины», в который входят «Любовь» (1974), «Лестничная клетка» (1974), «Анданте» (1975) и заключающая цикл пьеса «Квартира Коломбины» (1981), в самом названии содержащая имя героини средневековой комедии дель арте. Выведенные в цикле женские образы таким образом приподымаются над обыденной реальностью, выводят к архетипически узнаваемым универсальным образам-типам.
Целостность цикла проявляется на уровне особенностей хронотопа: действие во всех четырех пьесах происходит в замкнутом мире комнат, квартир, чья имущественная ценность очень важна для героев и прозы, и драматургии Петрушевской. Но общее название цикла – «Квартира Коломбины» придает «квартирному вопросу» еще и театрально-игровое значение.
Цикл как целостная структура развивает общие для всего творчества Л. Петрушевской темы семьи, дома, женской судьбы, а своеобразие циклу придает противопоставление героев по принципу, имеют ли они свой дом или не имеют и являются бездомными. Основные коллизии как раз и связаны с этим противопоставлением и обеспечивают драматизм, который усиливается от первых двух пьес «Любовь» и «Лестничная клетка» к третьей – «Анданте» и рассеивается в заключительной, четвертой пьесе. Последовательное развертывание «квартирного вопроса» и составляет общее развитие действия всего цикла, т. е. становится действообразующим. Не менее важным для цикла является апелляция к комедийно-игровому характеру действия, которое часто пародирует форму и содержание средневековой комедии дель арте с любовным треугольником в центре: Пьеро, Коломбина и Арлекин.
Действие первой пьесы «Любовь» происходит в комнате коммунальной квартиры, «тесно обставленной небогатой мебелью, повернуться буквально негде, и все действие идет вокруг большого стола» [4, c. 133]. Новобрачные Света и Толя в первый же совместный вечер выясняют отношения «через стол», так и не сядут за него в качестве только что образовавшейся семьи. Из их диалога становится ясным – правда, на первый взгляд, – что они заключили брак не по любви, а по расчету, и подробно перечисляют в диалоге причины их скоропалительного бракосочетания.
Хронотоп тесной комнаты в их диалоге расширяется за счет сведений из прошлого Толи, который рассказывает Свете об учебе в Нахимовском училище в Ленинграде, о службе на подводной лодке, потом о работе на буровых в степях Казахстана, наконец, об университете в Москве, где встретился со Светой, а после окончания учебы уехал по направлению в Свердловск. Автору нужно отметить при этом, что, в сущности, он на настоящий момент бездомный, т.к. сорвался из Свердловска, продал дом матери в родном городке и теперь мечтает о собственном доме и о семье, строит планы приобрести кооперативную квартиру. А Свете есть где жить и, хотя она прожила всю жизнь в Москве, у нее есть мать, общая с ней комната, но она тоже одинока и хочет любви и семейного счастья. Обо всем этом они говорят, спорят, и в спорах, ревнивых подозрениях Светы и повторах одних и тех же объяснений и оправданий Толи возникает момент нешуточной ссоры, которая завершается сгоряча принятым обоюдным решением аннулировать брак.
И здесь, согласно итальянской комедии положений, в пьесе появляется третье лицо, и оно готово воспользоваться размолвкой героев и окончательно разрушить их любовные взаимоотношения, – это мать Светы Евгения Ивановна, но ее попытки лишь укрепляют союз дочери и зятя. Она заявляет им, что ей не нравится брак дочери с человеком, который ради московской прописки посягает на ее жилые метры, хочет разрушить их с дочерью привычную жизнь. Увидев прямое отсутствие любовных отношений между дочерью и новоиспеченным зятем, она прогоняет – «вытесняет его за дверь». Но именно в этот момент, играющий роль драматической развязки, двум молодым людям вдруг становится ясно то, что еще только намечалось в длинном диалоге: друг без друга они уже не смогут жить. Вытесненный за дверь Толя «приоткрывает дверь силой». Света «хватает его за протянутую в щель руку» и кричит: «Толик!». Сцену ухода Светы и Толи Евгения Ивановна комментирует словами: «Начинается житье» [4, с. 147].
Пьеса «Любовь», на первый взгляд, напоминает бытовую психологическую драму (именно так интерпретирован жанр пьес, поставленных на сцене, например, «Три девушки в голубом» в постановке М. Захарова в 1983 г.), но жанровой доминантой становится комический диалог героев: это неуклюжие объяснения Толи, который все убеждает Свету, что не в состоянии кого-то любить («…это не в моих силах», «Я урод в этом отношении»), что он ее выбрал, потому что множество кандидатур «отпадали» и что «из всех одна ты мне подходила»; это мелочные ревнивые придирки Светы, считающей, что Толя думал о ней «как о последнем варианте, который остается, когда все другие отпадают» [4, с. 143].
Диалог трех героев открывает внутренние движения трех героев, перемены в их настроении составляют основные перипетии действия. Автор работы о поэтике одноактной драматургии Петрушевской Е. А. Меркотун так определяет функции диалога, составляющего все содержание пьесы «Любовь»: «При лаконичности и схематизме действия внешнего, основной драматургический потенциал смещается в речевую сферу. Процесс диалоговедения предстает содержательным и внутренне драматичным, выстраивается в особое действо со многими участниками… действо, происходящее, в основном, в сфере языка и сознания героев, завершается подлинно драматургической развязкой и катарсисом – принятием решения, поступком, организующим реальную действительность и судьбу персонажей» [2, с. 12].
Вместе с тем имеющийся в пьесе скрытый за каждой фразой психологический план выявляется только в комическом поведении героев. Как бы Света ни хотела услышать Толино признание в любви, она его так и не получит, зато зритель ощущает несоответствие слов героя манере его речи, вызванное нежеланием громких слов и пылких объяснений. Комичны реплики, сказанные невпопад или с каким-то умыслом (например, украинизм в Толиной речи, когда на вопрос Светы, точно ли он был уверен в ее согласии на его предложение выйти замуж, он шутливо отвечает: «А як же»), комичны фразы, не имеющие отношения к только что сказанному собеседником или опровергающие только что сказанное самим героем. Так, Толя одно за другим может произнести утверждения самые противоположные: «Я тебя не любил. Но я тебя наметил еще в университете» [4, с. 138]; в одном месте он говорил, что дом, который он продал, «хороший и двухэтажный почти», а в другом – «хороший двухэтажный дом». Или мысль о том, что во время учебы в университете у него «все кандидатуры отпадали», кроме одной – Светы, не раз повторяется в разных выражениях, вот почему та раздраженно отвечает: «Оставь, я это уже слышала» [4, с. 140].
Эти повторы у Толи, иногда утрированные, сказаны монотонно, даже в форме вопросительных предложений, звучащих как утвердительные, потому что в них уже заложен его ответ. Так, неожиданно пришедшая Светлана Евгеньевна, полуоправдываясь, почему не поехала к родственникам, замечает, что постель не смятая, а значит, «фиктивный, оказывается, брак», а Толя на это отвечает вопросом: «Почему фиктивный» – без вопросительной интонации. И затем комично звучит двойное подтверждение: «Она не фиктивно, мы не фиктивно» [4, с. 146– 147]. Правоту этих слов можно увидеть в словах матери Светы, выпроваживающей Толю:
Евгения Ивановна. …Я его не пускаю, он все нахрапом действует… Иди, иди. Один день побыл в Москве – предложение, а она приняла. Потом ис- чез, где неизвестно время проводил, а ты все ждала, все бегала к телефону за других. Уходи-ка, не стой на дороге. (Наступает на Толю.) [4, с. 147].
Эти слова опровергают мнение о том, что любовь молодых героев возникла только в данный момент [1, с. 28]. Действие пьесы включает и время внесцени-ческое, поэтому любовь Светы и Толи выступает вполне сформировавшейся, несмотря на то, как двусмысленно и туманно «оформляет» свое чувство герой.
Комизм не закрывает серьезной, бытийной подоплеки диалога и действия, потому что сюжет, бытовой и психологический, вписан в универсальные ситуации, как пишет Н. Каблукова, моделирует «процесс существования человека в разных слоях одновременно: жизнь человека в конкретной бытовой реальности; ненацеленное и недейственное положение человека в обществе, государстве; внутренние противоречия человека и алогизм отношений, вызванный несовпадением душевных порывов и опыта их бессмысленности; универсальный план обозначает ситуации проявления универсального бытия. Этот план выводит к авторскому пониманию» [1, с. 297].
Универсальность здесь подчеркнута и перекличкой с итальянской народной комедией дель арте, и если учесть пьесу как открывающую цикл под названием «Квартира Коломбины», то становится понятным распределение ролей-масок трех героев: неуверенной Коломбины, влюбленной в незадачливого Пьеро, а роль житейски опытного Арлекина отдана матери, за ней же стоит Автор, ее устами произносящий финальную фразу: «Начинается житье». Почти как в русской версии комедии дель арте – драме «Балаганчик» А. Блока, поставленной В. Мейерхольдом в 1906 г.
Финальная сцена связывает первую пьесу цикла со второй, где действие происходит на лестничной площадке, – пьеса так и называется: «Лестничная клетка». Снова перед нами треугольник: Юра и Слава встречаются с Галей по ее брачному объявлению. Снова действие-диалог происходит в тесноте пространства, обозначающего вход в коммунальную квартиру – у Гали есть соседка. Пространство может расшириться, раздвоиться в контексте вечного «квартирного вопроса, например, в момент, когда Юра передает свой страх от будущей семейной жизни и рисует ее после «расписки» в загсе: «А потом в одной комнате теща, и семья, и ребенок. Каша какая-то» [4, с. 155]. И на примере друга Славы, который «гуляет» от семьи с тещей, потому что имеет свое житейски-социальное знание: «…семья в наше время не существует... Существует женское племя с детенышами и самцы-одиночки» [4, с. 156].
Дальнейший диалог, дважды прерываемый приходом соседки, делится также на две части: в какой-то момент разочарованные в том, что Галя не впускает их в квартиру (она безуспешно роется в сумочке в его поисках), Юра и Слава делают вид, что ушли ни с чем, и сразу же возвращаются. Разыгрывая женихов, они хотят всего лишь выпить, закусить и приятно провести время. Видят, как Галя стучит кулаком дверь, а потом стоит, прижимаясь лицом к двери:
« Юра зажимает Гале глаза .
Г а л я. Ой! Ну кто это?
Юра не пускает Галю.
Ю р а ( тонким голосом ). Угадяй! Ктё этё?
Галя сразу успокаивается, стоит неподвижно, как бы прислушиваясь к своим ощущениям.
Г а л я. Вы, Юра?
Юра отпускает. Между Галей и Юрой что-то в это мгновение произошло, их интонации меняются [4, с. 153].
Неожиданно для героев меняется и ситуация: Юра от неожиданности переходит на «вы», а у Гали исчезает настороженность. Вторая часть пьесы «Лестничная клетка» развивается как диалог, не лишенный искренности: Галя откровенно говорит о желании угодить больной матери, подарив ей «внучонка», даже Слава разговорится и будет давать советы Гале, как прожить день, «чтобы не было мучительно больно. А было мучительно хорошо» [4, с. 157]. И когда понимают, что в квартиру они так и не попадут из-за вернувшейся соседки Гали, все-таки не уходят, продолжают разговор вроде бы в привычном тоне, но договорятся до того, что оба выразят согласие жениться. И непонятно, шутят или говорят серьезно эти прожженные циники, поскольку неожиданно для себя столкнулись с неопытностью и наивностью новой знакомой. Они сыплют расхожими цитатами, прибаутками вроде «Сплю на новом месте – приснись жених невесте», невпопад повторяя: «Два друга и подруга». Окажется, два друга играют в похоронном оркестре и даже обещают сыграть марш Шопена, если понадобится, «если мама, не дай бог…». Смягчившись, Галя откликается на их согласие получить желаемое угощение прямо на лестничной клетке, уходит и возвращается со словами: «Вот тут… Хлебушко. Колбаски нарезала… Сыр. И вот» [4, с. 159]. Получив и закуску, и выпивку, двое мужчин удаляются, а современная Коломбина молча смотрит им вслед.
Бытовое до анекдотичности или абсурдности действие, как и в первой пьесе, реализуется в речевой и внутрисубъектной сферах. Автор при этом отказывается от какого-либо модально-оценочного плана, и только предъявляет противоречивость, незавершенность комически-бытовой ситуации, перерастающей в событие коммуникативной значимости, когда герои ощущают момент перехода в состояние, близкое к экзистенциальному и бытийному. Юра и Слава, глядя на Галю, произносят фразы, которые звучат одновременно обыденношутливо и необычайно серьезно: «Вы нас не знаете», «Мы способны на чудо» [4, с. 158].
Конкретный комедийный план любовного треугольника (или его подобия) переводится в план встречи трех сознаний, наполненных динамикой повседневного быта, за которой обнаруживается драматизм бытийного существования отдельного человека. Об одноактных пьесах Л. Петрушевской один из исследователей так и напишет: «Установление диалога, налаживание коммуникации воспринимается здесь как ценность бытийного порядка» [2, с. 7].
В следующей, третьей пьесе «Анданте» также имеется любовный треугольник в лице мужчины по имени Май (он посол в восточной стране) и двух женщин – жены Юли и любовницы Бульди (сокращенная кличка от фамилии Бульдина). Действие построено на игровом, шуточном диалоге, направленном в адрес еще одной героини – наивной Аурелии, сокращенно Ау, которая снимает квартиру, принадлежащую Маю. Он приезжает в Россию лишь на время отпуска, в свою квартиру, которую снимает Аурелия. Именно ей по ходу действия Юля рассказывает о современных способах, делающих женщин «неотразимыми» с помощью особых таблеток: «бескайтов», «метвиц», «пулов», собеседница же не понимает, что речь идет о наркотиках.
В общении Ау – бездомной молодой женщины с вернувшейся из-за границы троицей происходит под влиянием тех модных, активно тиражируемых в массовой среде социальных стандартов, которые так действуют на нее – недаром ее укороченное имя звучит, как эхо, улавливая в рассказах Юли признаки достойного существования, заключающиеся во внешне-вещевых атрибутах. Причем эти атрибуты причудливо перемешаны с символами, знаками подлинной культуры, когда Ау поверила, чем она сможет овладеть в ответ на ее наивные угрозы вывести на чистую воду двоеженца Мая.
А у. …Ладно, дубленку... Бумажный трикотаж. Сапоги... Косметику... белье, только не синтетику... Духи: Франция, книги: Тулуз-Лотрек, все импрессионисты. Детективы: Америка. Аппаратура: хай-фай, квадрофония, как у Левина. Музыка! Графика Пикассо, альбом эротики, Шагал, репродукции… Билеты на Таганку. Русские церкви! Интересная высокооплачиваемая должность! Бах, Вивальди, пластинки» [4, с. 170].
В финале, когда троица под влиянием бескайтов полна любви ко всему миру и к молодой шантажистке, узнавшей о тайне их «треугольника», обещают ей целый набор атрибутов «счастливой» жизни, героиня идет дальше в перечислении желаемого и «проговаривает» затаенное желание в конце списка, перемешав материальные ценности с ценностью, оправдывающей существование женщины: «Фарфор “Кузнецов и сыновья”! Дом на набережной! Машина! Машина времени! Поездка на воды! Фрегат Паллада! Сына!» [4, с. 171]. Вторя «иностранной» речи, которая похожа на ругательства («чурчхела», «кишкильды», «кындырбыр», «шантэ кранты» и т.п.) и которую Ау не понимает, она тоже входит в транс, желая хотя бы в мечтах устроить свою неудавшуюся жизнь.
Все три героини – это очередные «три девушки в голубом» Л. Петрушевской, они не имеют дома, семьи, образования, профессии. Юля, как и Ау, не имеет своего угла, находится в полной материальной зависимости от мужа, соглашаясь с жизнью втроем. Бульди не может жить в квартире своих родителей, где очередной «капитальный ремонт санузла. Как раз к нашему приезду все затопило». Самой Ау – Аурелии тоже некуда и не к кому идти: «Муж со мной разошелся, когда я в больнице лежала, ребенка потеряла» [4, с. 167]. В то же время все три женщины живут как в виртуальном мире, а свое бедственное положение считают временным, надеясь на скорое выгодное замужество, на волю обстоятельств. И мужчина также мирится с двойственным положением, называя себя однолюбом, потому что «женат на одной и живет с одной».
В финале трое поют в экстазе любви к своей глупенькой жилице: «…ты устала… Подставь щеку! Подставь другую!.. Мы тебя, малюточку, так любим в этот час! Анданте, анданте, анданте!» [4, с. 171] и вчетвером «ходят хороводом». В соответствии с «анданте» (умеренный, средний, темп в музыке) происходит замедление действия, освобождение на миг от тревог и волнений, разрешение коллизий снятием всех противоречий и неустроенностей. Библейская фраза выглядит более чем уместной в таком событии, где три Коломбины и один Арлекин объединены общим хороводом, игрой и розыгрышем. Состоялось их примирение в коллективном архаическом хороводе, пусть иллюзорное, пусть оно вскоре исчезнет одновременно с действием наркотических веществ. Но в этом примирении (почти библейском) соединяются бытовые и универсальные смыслы образов, бытовые проявления жизни и бытийный смысл существования, ощущаются и комизм человеческих притязаний, и общий драматизм жизни.
Игровая окрашенность действия усилится в последней, четвертой пьесе, которая и дала название всему циклу – «Квартира Коломбины». Она наиболее точно отвечает классическим жанровым сценкам с традиционным треугольником – муж появляется в момент свидания жены с любовником, с переодеваниями мужчины в женщину, с наклеенными и отваливающимися усами. Имена и амплуа персонажей повторяют ведущие маски комедии дель арте: Коломбина, Пьеро, Арлекин. Монологи и диалоги имитирует импровизационный характер итальянской комедии, всегда учитывающей злобу дня: о советском общепите («в кулинарии... из их ресторана отходы... У меня соседи этими котлетами собаку кормили... Вызвали ветеринара. Он собаке искусственное дыхание сделал, говорит: эти котлеты сами ешьте, а собаке это вредно») [4, с. 173], о маленьких зарплатах молодых специалистов, о вечном дефиците и спекуляциях импортом и пр. Веселая комедийная тональность пьесы, как всегда у Л. Петрушевской, неоднозначная и противоречивая, подразумевает и другую, оборотную сторону «закулисной» театральной жизни. А в ней ведущее место принадлежит не актерам, а режиссеру.
«Коломбина. Он давно уже ушел из дома!
Пьеро ( вскакивает ). На репетицию.
Коломбина. Чудачок! Ко мне.
Пьеро ( выходит из-за стола ). Давно?
Коломбина. Да уже месяца два будет. Садитесь» [4, с. 173].
Пародийные и пародирующие сценки театральной жизни в пьесе передают бездомность и семейную неустроенность, драму непризнанных талантов, годами играющих «котиков с усами» на детских утренниках (Пьеро), стареющих «субреток» (Коломбина), разбитые семьи и выгодные браки.
Театральные имена героев указывают на их жизненные амплуа, в них стерта личностная, индивидуальная идентичность. Коломбину Арлекин называет «Колей», она пытается на домашней репетиции играть Ромео, у Пьеро не растут ни борода, ни усы, а когда приклеенные усы «котика», сожравшего колбасу со стола Арлекина, отваливаются, он предстает в облике «девочки», к которой начинает питать склонность режиссер. И тогда Коломбина, только что теряющая голову из-за молодого Пьеро, начинает увещевать режиссера: «Арик, приди в себя», «Арик, уймись» и т.д. А когда увещевания не действуют, происходит неожиданное, по-театральному талантливое перевоплощение Коломбины в «председателя комиссии по борьбе... по работе с молодыми», которая(ый) объявляет повестку заседания и командным голосом разрешает ложную ситуацию. О репрессивном дискурсе власти в советскую эпоху, других ритуальных практиках уже было сказано не раз применительно к одноактной драматургии Л. Петрушевской [3, с. 30; 5].
Причудливое соединение бытовой повседневности и театральнокарнавальной стихии приводит к тому, что маски-амплуа у Петрушевской получают возможность свободного перемещения из образа в образ, импровизированного жонглирования ролями. Автор в «Квартире Коломбины» создает эффект обыгрывания формулы «Весь мир – театр» в самых обыденных ситуациях, и эта возможность внесения в быт яркой игры, освященной древними (мифологическими и архетипическими) основами театрального искусства придает пьесе бытийный, универсальный смысл.
Таким образом, каждая пьеса цикла в отдельности представляет собой автономное завершенное художественное произведение, отличное от других по жанру, сюжету, системе действующих лиц. «Любовь» – лирическая комедия, «Лестничная клетка» – бытовая драма, «Анданте» – эксцентрическая комедия,
«Квартира Коломбины» – комедия-фарс, и все они одинаково подчеркивают социально-бытовую повседневность. В то же время в соседстве с другими каждая из пьес актуализирует условную, богатую ассоциациями реальность, где знаковые имена, заглавия, культурные и литературные аллюзии и реминисценции придают тексту универсальный, бытийный характер.
Скрепляющей основой для пьес из цикла Л. Петрушевской служит, как было сказано, литературно-мифологическая перекличка с текстами культуры, на что указывают библейская символика, образы и приемы комедии дель арте, которые когда-то были обыграны в пьесе А. Блока «Балаганчик». Впечатление художественного единства поддерживается в семантических связках между пьесами, в динамике ритма и жанровой специфики: от лиризма – к пародии и фарсу, в развитии перехода от реалистической стилистики («Любовь», «Лестничная клетка») к условно-игровой («Анданте», «Квартира Коломбины»).
Список литературы Литературно-мифологические аллюзии в цикле одноактных пьес "Квартира Коломбины" Л. Петрушевской
- Каблукова Н. Освоение абсурда и поэтика абсурда в реалистической драме Л. Петрушевской // Русская литература в ХХ веке. Имена, проблемы, культурный диалог. -Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 2009 - Вып. 10. - С. 294-310.
- Меркотун Е. А. Поэтика одноактной драматургии Л. С. Петрушевской: авто-реф. дис.. канд. филол. наук. - Екатеринбург, 2009. - 288 с.
- Никулина Е. В. Драматический цикл одноактных пьес Л. Петрушевской «Квартира Коломбины» как художественное целое // Вестник Том. гос. ун-та. Филология. -2009. - № 328. - С. 27-30.
- Петрушевская Л. С. Песни ХХ века. Пьесы. - М.: СТД РСФСР, 1988. - 240 с.
- Плеханова И. И. Природа ритуального в пьесах Л. Петрушевской (цикл «Темная комната») // Русская литература в ХХ веке: имена, проблемы, культурный диалог. -Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 2009. Вып. 10. - С. 272-293.