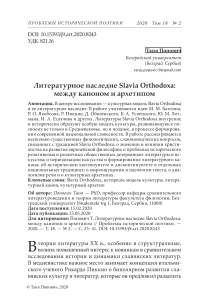Литературное наследие Slavia Orthodoxa: между каноном и архетипом
Автор: Попович Таня
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 2 т.18, 2020 года.
Бесплатный доступ
В центре исследования - культурная модель Slavia Orthodoxa и ее литературное наследие. В работе учитиваются идеи М. М. Бахтина, Р. О. Якобсона, Р. Пиккио, Д. Оболенского, Б. А. Успенского, Ю. М. Лотмана, И. А. Есаулова и других. Литературы Slavia Orthodoxa внутренне и исторически образуют особую модель культуры, развивающуюся по-своему не только в Средневековье, но и позднее, в процессе формирования современной национальной словесности. В работе рассматриваются несколько существенных филологических, славяноведческих вопросов, связанных с традицией Slavia Orthodoxa: о значении и влиянии христианства на развитие европейской философии; о проблемах исторического релятивизма и различных общественных детерминант литературы и искусства; о периодизации искусства и формирования литературного канона; об историческом континуитете и дисконтинуитете в отдельных национальных традициях; о мироощущении и идеологии текста, о диалогизме речи и о культурных архетипах.
Историзм, модель культуры, литературный канон, культурный архетип
Короткий адрес: https://sciup.org/147227196
IDR: 147227196 | УДК: 821.16 | DOI: 10.15393/j9.art.2020.8243
Текст научной статьи Литературное наследие Slavia Orthodoxa: между каноном и архетипом
Втеории литературы ХХ в., особенно в структурализме, возник повышенный интерес к новинкам в сравнительном исследовании истории и динамики славянских литератур. В медиевистике важное место занимает концепция итальянского ученого Рикардо Пиккио о биполярном развитии славянских культур и литератур, которые он предложил разделить на две группы: Slavia Orthodoxa и Slavia Romana. Если западные славяне развиваются под влиянием католической церкви и латинского языка, то культура и словесность восточных хотя и формируется под сильнейшим византийским влиянием, но все-таки на основе не древнегреческого, а церкoвнославянско-го языка, сотворенного общеславянскими просветителями св. Кириллом и св. Мефодием. Многообразные стилистические, жанровые и социальные функции языка были определены различными модульными системами культур, что оказало огромное влияние на особую динамику развития восточнославянских литератур. Понимание идеологии текста связано с вопросами употребления языка и стиля и риторическими приемами, причем эти вопросы рассматриваются не с внешней, а с внутренней стороны, имманентно. Библейские цитаты выполняют семантическую и образовательную роль: с их помощью утверждается общая семантика текста или уровни значений [Picchio, 1991], [Picchio, 1998].
О двойственности мира европейского Средневековья упоминает и британский историк Дмитрий Оболенский, описывая «Византийское содружество наций» (термин Д. Д. Оболенского) — Тhе Byzantine Сommonwealth . Это содружество, сложившееся в пределах и под влиянием Византийского царства, представляет своеобразное единство греко-славянских культур. Оболенский подчеркивает космополитизм Восточной империи, дух которой переняли и другие восточные нации. Он говорит о двух решительных «встречах» славянства с Византией — переводе святых книг, созданных св. Кириллом и Мефодием, и духовной деятельности Афона, где переводились, переписывались и прочитывались разнообразные славянские и греческие тексты. Духовное единство «Византийского содружества наций», конечно, было изменчиво, разделено на отдельные народы и государства, нередко воевавшие между собой. И все-таки восточному содружеству наций удалось сохранить «различность в единстве» начиная со второй половины IX и до середины XV в. [Obolensky].
Данные концепции Р. Пиккио и Д. Обoленского, а также другие более или менее сходные интерпретации наследия и миссионерства Кирилла и Мефодия, точнее, переводa библейских книг на славянский язык, приобщение к церковнославянскому языку или отречение от него, поднимают несколько существенных вопросов: о значении и влиянии христианства на развитие европейской философии; о проблемах исторического релятивизма и различных общественных детерминант литературы и искусства; о периодизации искусства и формирования национальных литератур; об историческом континуитете и дисконтинуитете в отдельных национальных традициях; о функции литературных идиом; о развитии литературных форм; о мироощущении и идеологии (понимании) текста, о диалогизме речи, о модели культуры и т. д.
Рассмотрим некоторые из перечисленных вопросов.
Периодизация и литературный канон
Уже к концу XIX в. во французской историографии динамика европейского искусства и культуры рассматривается имманентно, так как ее периодизация основывается на сти-листическо-исторических принципах, которые существенно определили значение терминов Возрождение, барокко, а позже — классицизм, романтизм, реализм и т. д. Сравнительное литературоведение ХХ столетия во главе с Рене Уэллеком считает, что именно взаимообусловленность течений и стилей является гарантией целостности и единства европейского наследия, его культуры, искусства и литературы [Wellek]. С другой стороны, в конце ХХ столетия появилась теория Гарольда Блума о литературном каноне Запада. Г. Блум о каноне пишет как о своеобразном выражении «индивидуального потребления», причем прочтение «элитарных» представлений, которые «сами себя канонизируют», он определяет как личный поступок как автора, так и исследователя [Блум].
Обе приведенные концепции, хотя и имеют разное теоретическое направление, порождают очень важный вопрос в современной славистике: возможно ли литературы Slavia Orthodoxa считать частью выстроенной в таких рамках европейской традиции, или же они представляют какой-то иной духовный и эстетический мир? (См. об этом: [Поповић, 2019]).
Литературные направления в западноевропейской традиции и в Slavia Orthodoxa не совсем совпадают хронологически;
прежде всего они неодновременны. Так, например, те направления ренессанса и барокко, которые возникали и развивались в Западной Европе, не были в православных странах. Сомнительно и существование «мелких» стилевых течений XVIII в. (сентиментализма, роккоко, пиетизма). Современные искусствоведческие исследования, в которых упоминаются художественные характеристики ренессанса или барокко в сербском или русском искусстве XV–XVIII вв., прежде всего основываются на сходных стилистических и типологических особенностях, которые можно считать результатом прямого влияния западноевропейских течений. Более того, в творчестве одного поэта или писателя нередко очевидна своеобразная смесь разных стилевых течений.
Например, в сербской истории литературы вместе с эмансипацией народного языка очень медленно и стихийно проявлялись лишь некоторые черты новых европейских стилевых направлений. Начало сербской литературы Нового времени (вторая половина XVIII в. — 30-е гг. XIX в.) связано с откликами на западноевропейский сентиментализм и бидермайер. Точнее, формы светской сентиментальной культуры и литературы в то время связываются с фольклорным наследием; а в течение 30–40-х гг. XIX в. доминирующий стиль приближается к европейскому классицизму, унаследованному из французской культуры XVII столетия. В сербском литературоведении существует понятие «объективная лирика», обозначающее «нормативную поэтику» [Павић].
Заметим также, что четкого разграничения между разными течениями не было. Более того, стилевые признаки отдельных течений наблюдаются одновременно в одном и том же произведении. Например, в художественных эпопеях первой половины XIX в. сплетаются воедино формальная метрическая строгость классицизма, сентиментальный повествовательный тон и романтическая мятежность.
Стихийное восприятие разных стилей влияло на специфическое развитие литературных форм и на динамику жанровой эволюции, на формирование и / или понимание литературного канона.
Язык. Речевые формы. Жанры. Стиль
На специфику речевых форм в славянской письменности указал Роман Якобсон, подчеркивая, что именно язык —
«главное, что объединяет славян». Общеславянское языковое родство обеспечено родством фонетики, морфологии и синтаксиса. Поэтому для сравнительного изучения славянских литератур естественнее всего было бы сосредоточиться на тех элементах художественного творчества, которые наиболее тесно связаны с языком. Говоря об общих характеристиках поэтики, Якобсон пишет о влиянии языкового материала на словесность: на аллитерацию, на этимологические фигуры (парегемнон, полиптотон, параномазия), сходную структуру стиха (метрических моделей и структуры рифмы). Применяя распространенную в ХХ в. теорию взаимообусловленности мифа и языка в диахроническом, равно как и в синхроническом отношении, известный ученый настаивает на необходимости сравнительного изучения славянского фольклора, так как «языковое родство — наиболее отчетливое проявление славянского единства», и это родство «указывает на принадлежность человека к славянскому миру» [Якобсон: 25].
Когда речь идет об общеславянской письменной традиции, Якобсон обращает внимание на общий характер древнецерковнославянской литературы. Христианское ответвление классической греческой культуры через церковнославянский язык глубоко проникло в славянский мир.
В сущности, «главный герой» славянского сравнительного литературоведения — общеславянское наследие и его воздействие на славянские литературы в целом. Якобсон выделяет три типа общего наследия: родство славянских языков, общую устную традицию и древнецерковнославянский язык. С точки зрения истории литературы (литературной эволюции), важнейшим фактором межславянского взаимопроникновения оказались греческая и латинская культуры. Таким образом, частные славянские литературы и общеславянское наследие должны исследоваться в тесной связи друг с другом. Кроме того, славянские литературы также необходимо считать частью общеевропейской (мировой) культурной традиции.
Но есть и разница. Первоначальное разделение стилевых функций латинского и народного языков в Slavia Romana или Slavia Latina довольно рано позволило использовать народный язык как язык литературы (XV–XVI вв). Одновременно принятый литературой народный язык стал основой свободного усваивания фольклорного наследия. Влияние народной традиции, с одной стороны, и античной литературы, с другой, оформили новую жанровую систему, обозначив таким образом новый этап в развитии литератур, а также в становлении отдельных национальных литератур на европейском Западе (см.: [Curtius]).
«Судьба» литературы и языка у православных славян была другая благодаря, между прочим, сближению церковнославянской и разговорной речи, свойственному в начале их письменности, т. е. в Средние века. Именно потому в XVIII и XIX вв., когда литературы православных славян искали новые пути, произошел разрыв с культурной моделью Средневековья и, вместе с ним, с церковнославянским языком. Отдалявшиеся от древнего наследия литературы одновременно усваивали как народный язык, так и новые темы, жанры и стили. Новые литературные принципы православные (восточные) славяне искали не только в наследии собственного фольклора, но и в западноевропейской традиции.
В поиске новых поэтических форм поэты опирались на национальную фольклорную традицию, из которой взяли язык и его устойчивые формы выражения, а также на византийское или церковное наследие, из которого заимствовали религиозные темы, библейские и апокрифические сюжеты и мотивы, связывая их с современной, западноевропейской жанровой системой. В результате такой эстетической и творческой деятельности возникают гибридные жанры: религиозная поэма, стихотворные апокрифы, лирические переложения псалмов, исповедь и проповедь в романной форме (например, «Записки сумасшедшего» Н. В. Гоголя или «Записки из подполья» Ф. М. Достоевского).
Борьба народного и литературного языков
Естественный (разговорный) язык — один из главных компонентов национальной культуры. «Языковая модель мира становится одним из факторов, регулирующих национальную картину мира», — писал Ю. Лотман в монографии «Анализ художественного текста» [Лотман: 34]. В связи с этим вспомним и теорию Б. А. Успенского о переходе церковнославянско-русской диглоссии к церковнославянско-русскому двуязычию и к дальнейшему синтезу двух языковых стихий в поэтическом творчестве Пушкина [Успенский].
Борьба с языком играла важнейшую роль в развитии славянских литератур. Принятие народного языка как языка литературы привело одновременно к отказу от древней, преимущественно церковной традиции и возобновлению фольклорных жанров. Языковые реформы православно-славянских литератур протекали неоднозначно и неодновременно. Борьба и полемика происходили лишь в вопросах грамматики и правописания, затрагивая иногда и проблемы слога. Например, в прозе, как правило, находим торжественную риторику церковнославянского языка, а в жанровом отношении — влияние апокрифа, библейских книг, агиографии и летописей. Поэтические произведения, с одной стороны, искали формы выражения либо в фольклорном наследии, либо в современной западной литературе. Заимствуя из фольклора структуру стиха (метрические модели) — десятисложный стих народной поэзии, восьмисложный стих гражданской лирики или тринадцатисложный польский стих, — поэты одновременно перенимали и их выразительные средства, формулы, а также их идиомы. Выбор сюжета, как правило, подразумевал и выбор языка. Жанровая функция стихосложения обусловила выбор народного языка. В лирике ощущаются влияния разных литературных традиций: национального фольклора, итальянского стихосложения, стихосложения французского классицизма, гражданской поэзии. «Чужая» метрическая модель влияла и на преобразование словесного материала, касаясь преимущественно торжественной риторики. С другой стороны, в прозе заметим своеобразную смесь народной и церковной идиом.
Значит, выбор идиом был обусловлен жанровой и стилевой функциями. Языковая диглоссия в литературах Нового времени вызвана именно разными жанровыми и стилевыми функциями языка. Причем в поэзии преобладает народный язык, тогда как в прозе сохранилась торжественная церковная риторика.
Художественное понимание литературных форм и их места в иерархии жанров нередко сопровождалось постановкой проблемы стиля и языка. Лишь позднее поэты и критики начали говорить о конструктивных принципах, о внутренних правилах отдельных литературных произведений. Взаимодействие эпического и лирического принципов, народности и влияний извне, правды и вымысла обсуждались в дискуссии В. С. Караджича, Дж. Малетича, Й. Стерии-Поповича и др. [Скерлић], [Деретић], [Поповић, 2010], в полемике между архаистами и новаторами [Тынянов, 1929]. Одновременно речь шла и о вопросах «высокого» и «низкого» стилей. Но, в отличие от предыдущих эпох, торжественный стиль больше не был обусловлен языком (идиомой). Литературное внимание сосредоточилось на приемах, на выборе тем и жанров и особенно на конструктивных принципах прозы и поэзии [Тынянов, 1977].
Диалог национальной и чужой традиции
Проблема языка и стиля, очевидно, крепко связана с проблемой происхождения идиом и жанра. В национальном наследии встречались лишь фольклорные и церковные формы. Диапазон их был не широк, заключаясь в героических или религиозных поэмах, или в мелких речевых жанрах. Именно поэтому славянские писатели, получившие образование за границей, заимствовали жанры из чужого литературного наследия. Результаты такого процесса особенно видны в лирике, в использовании жанров элегии, ottava rima , анакреонтики, сонета, однако принятие западноевропейских жанров всегда учитывало национальную традицию. Так, например, очень популярная форма идиллии, или баллады, в сербской литературе деформировалась благодаря эпическому десятисложному стиху и героическим формулам выражения.
В этот же период особенно популярны были ода и анакреонтика. В русской традиции ода оформилась в результате взаимодействия с традициями французского классицизма, а также эллинского стихосложения; в сербской она усваивалась благодаря русскому влиянию. Похожий процесс появляется и в оформлении других жанров, таких как, например, анакреонтика. Заметим, что почти одновременно с изданием сборника Державина «Анакреонтические песни» (1804) в Будиме в 1809 г. напечатан первый сборник лирических стихотворений на сербском языке (И. А. Дошенович), в котором кроме сонета и оды самую важную часть получила анакреонтика (особенно переложение русского стихотворения «Разговор с Анакреоном» М. В. Ломоносова).
Смешение лирических западноевропейских форм и народного стихосложения можно обозначить как период становления национальной поэзии, взаимодействие лирики и эпики обусловило самобытное развитие славянских литератур в наступившей эпохе.
Континуитет и дисконтинуитет
О дисконтинуитете и континуитете в русской словесности XVIII в. писал Ю. М. Лотман в своем труде «Русская литература послепетровской эпохи и христианская традиция» [Лотман: 254–265]. «Послепетровская эпоха» в историю вошла как время разрыва со средневековой традицией и создания новой культуры, полностью секуляризованной. Но реальность была сложнее. Секуляризованная культура самими ее создателями замышлялась в традиционных формах как новое крещение Руси (похожий процесс, заметим, проходил и в ХХ в., в проекте большевиков по созданию научного атеизма). Кроме того, традиция русской (православной) средневековой культуры не была однозначна: она создала двойную модель религиозной и светской письменности с различной степенью влияния. Тем самым разрыв со Средневековьем так и не совершился до конца.
Лотман подчеркивал одну из важнейших характеристик письменности, унаследованную от древних времен: писатель, книга и текст — носители высшей истины. Литературе приписывалась пророческая функция, что естественно вытекало из средневеково-религиозного представления о природе Слова. Создание светской, полностью мирской литературы на основе русской светской культурной традиции, с одной стороны, и европейских влияний — с другой, должно было лишить Слово его мистического ореола и превратить его в слово человеческое, подлежащее проверке и критике.
Не случайно слово «художник» в языке XVIII в. применяется к ремесленнику. Поэт — не художник, он выступает в роли носителя высшей истины, он — пророк. Таким образом, поэтическое слово получает ценность Слова, дарованного свыше, наделенного особым авторитетом (ср. стихотворения «Пророк» у Пушкина и Лермонтова; или в сербской традиции стихотворение Л. Костича «Вилованка»).
Появляется новый вдохновитель — государство, например, в творчестве М. В. Ломоносова. Вследствие этого возникают гимны и оды, посвященные не светителю, а Государству. Похожий процесс очевиден и в сербской традиции. Например, Захарие Орфелин в середине XVIII в., в эпоху «безгосударствен-ности», написал «Плач Сербии» и «Горестный плач Сербии» (1761); через полвека Доситей Обрадович в ходе Первого сербского восстания против турок и восстановления сербского государства написал гимн «Востани Сербије» (1808). Стихотворная метафизика государственности встречается и позже в лирике Ф. Тютчева («Умом Россию не понять…», 1866), А. Блока («Русь», 1906; «Россия», 1908), С. Есенина («Русь», 1914) — в русской литературе, а в сербской — в стихотворениях Й. Дучича («Ave Serbia») или М. Црнянского («Сербия», 1925).
Лотман также заметил, что благодаря пониманию «высокой общественной миссии поэта-прорицателя», интерес к ветхозаветным сюжетам и мотивам проявлялся более, чем к новозаветным. В русской поэзии очень много переложений псалмов, которые становятся отдельным жанром; в сербской литературе конца XVIII и первой половины XIX в. господствующий жанр — поэма с ветхозаветным сюжетом об Абраме, об Иосифе и его братьях, об Юдифи, о Товии, в поэтическом творчестве Викентия Ракича, Гаврила Ковачевича и Милована Видакови-ча, а позже и у одного из крупнейших поэтов сербского романтизма, Лазы Костича («Самсон и Делила»).
Ю. Лотман указал и на роль писателя-мученика, отшельника («Именно эта способность подкрепить авторитет слова мученическим подвигом дает право на место пророка»), на писателя, который писал о юродстве и, как юродивый, «возлюбил свою бедность» [Лотман: 258]. В качестве примеров он привел Н. В. Гоголя, Л. Н. Толстого, их бездомный образ жизни и отказ от быта.
В настоящее время, т. е. в современной русской литературе, похожие сюжеты и идеологию находим, например, в романе «Лавр» (2012) Е. Водолазкина. В этом смысле интересны сходства и различия между современными мировыми романами с историческим сюжетом из Средневековья: «Имя розы» (1980) У. Эко, «Меня зовут Красный» (1998) О. Памука, в сербской литературе: «Хазарский словарь» (1984) М. Павича и «Совершенная память о смерти» (2008) Р. Петковича. В их центре — уединенный герой, подвижник, монах, отшельник. Но их сюжетная обработка неодинакова. В русском и сербском романах отсутствует «незатейливая детективная фабула», хотя она, по словам У. Эко, в западном романе поставлена на второй план. Разное отношение и к любви, к Другому, особенно к женщине, к «личной жертве»; из чего возникает и (не)готовность к полному отказу от светской, мирской жизни (такая готовность присуща только «восточному» роману). Разное понимание этических и государственных (юридических) категорий, таких как месть и милосердие (милосердие отсутствует в «западных» романах). С другой стороны, в центре почти каждого произведения стоят идеологические вопросы, относящиеся к современному пониманию культуры и истории; общее — тяготение к экуменизму или к примирению Востока и Запада; разница — в подходе: рациональном — в западном романе и эмоциональном — в восточном.
Вернемся к XVIII в., для которого, по мнению Лотмана, характерно стремление отделить христианство от церковности, а также возникновение «политической религии» (выражение П. Чаадаева). Все эти черты противоречивого развития русской постпетровской культуры, или постсредневековой культуры в Slavia Orthodoxa в целом, определили и развитие искусства и литературы в Новое время. «Секуляризация культуры не затронула глубоких структурных основ национальной модели, сложившихся в предшествующие века. Набор основных функций сохранился, хотя и изменились материальные носители этих функций» [Лотман: 256]. Лотман как бы обозначил новые темы и новые подходы исследования Slavia Orthodoxa в постмодернизме или постструктурализме.
Далекий контекст понимания и культурные архетипы
Существует и иная научная установка, которая актуализу-ет «далекий контекст понимания» и которая тоже оказала большое влияние на идеологию постструктурализма. Речь идет о теориях Бахтина и их восприятии на Западе. Согласно его подходу, великие литературные произведения «разбивают грани своего времени», они «как бы перерастают то, чем они были в эпоху своего создания». В «своей посмертной жизни» произведения «обогащаются новыми значениями, новыми смыслами» [Бахтин: 361–373].
Так, например, Е. Водолазкин указал на два возможных подхода в сравнении современной литературы и наследия Средневековья: искать в Средневековье, в прошлом то, чего нет в современном мире, и наоборот — определить, что в современном мире есть от предшествующих времен [Водолазкин: 37].
С. Бочаров упоминает о генетической памяти литературы, говоря о «странных сближениях» более или менее удаленных друг от друга в пространстве и времени произведений и текстов, которые невозможно или трудно объяснить прямым влиянием текста на текст и сознательной целью писателя [Бочаров: 5–44]. Андрей Ранчин рассматривает библейскую образность в древнем и нововековом искусстве, мотивы смирения и кротости в словесных произведениях, обращаясь одновременно и к сфере литературного генезиса, и к сфере миросозерцания [Ранчин: 66–82].
В центре исследований Ивана Есаулова — идеология текста. В словесном наследии Slavia Orthodoxa он подчеркивает своеобразный христоцентризм, присущий не только древнерусской словесности, но и русской литературе Нового времени. Однако христоцентризм является также важнейшим атрибутом христианской культуры как таковой. Годовой литургический цикл ориентирован как раз на события жизни Христа. Основными из них являются Его Рождение и Воскресение. Поэтому важнейшие события литургического цикла — празднование Рождества и Пасхи. Если в западной традиции можно усмотреть акцент на Рождество (и, соответственно, говорить о рождественском архетипе), то в традиции Восточной Церкви Воскресение остается главным праздником не только в конфессиональном, но и в общекультурном плане, что позволяет высказать гипотезу о наличии особого пасхального архетипа и его принципиальной значимости для православной культуры. С этой точки зрения, И. Есаулов в литературном и культурном текстах интерпретирует понятия благодать, соборность, юродство, ипостась и т. д. [Есаулов]. Похожая обстановка наблюдается и в сербском культурном архетипе. Пасхальный архетип, о котором писал И. Есаулов, особенно ярко проявляется в косовском мифе, в отвержении «царства земного» и выборе «царства небесного» [Поповић, 2019: 46–47].
Выводы
Несмотря на различия между Западной и Восточной славянскими литературами, процесс взаимопроникновения народной культуры, языка и письменного наследия всегда происходил по тождественным правилам. Частично он был связан с современным пониманием нации и отношениями между принципами индивидуального и коллективного иден-титета. Но если исторические течения восточных и западных европейских литератур шли разными путями, то это различие отразилось и на динамике их развития. Современные литературы, некогда принадлежащие Slavia Orthodoxa , в процессе перехода с книжного на разговорный язык имели иногда более разнообразное художественное наследие, чем литературы Slavia Romana в эпоху Ренессанса или барокко. В частности, интересна литературно-лингвистическая ситуация в русской культуре, которая с XVIII в. и позже интенсивно развивает диалог с западноевропейским наследием. Влияние французского, немецкого, а также английского языков как языков дворян и образованных общественных слоев обеспечило внутреннее приобщение к западноевропейскому наследию в целом. С другой стороны, на юго-западе Европы, у сербов, которые получили образование в итальянских и австрийских университетах, ощущается влияние среднеевропейских стилевых и жанровых тенденций. Именно с этой точки зрения можно говорить о тенденциях барокко, классицизма или рококо в художественном творчестве Slavia Orthodoxa . Причем эти разнообразные художественные тенденции взаимопро-никновенны с фольклором и местным наследием.
Особенность литературного развития в Slavia Orthodoxa должна учитываться и при исследовании ее современного творчества. Тогда исчезает вопрос, существует ли дисконти-нуитет в историческом развитии болгарской, сербской, русской или новогреческой литератур. Источники европейской литературы одни и те же — соответственно, родственной необходимо считать и их эволюцию. Разница между наследием Востока и Запада в большинстве случаев обусловлена внелитера-турными факторами. Эта разница воздействовала на динамику литературной эволюции, но не оказала влияния на структуру и закономерность самого процесса.
В заключение следует подчеркнуть, что литературы и язык Slavia Orthodoxa , без всякого сомнения, внутренне и исторически образуют особую модель культуры, развивавшуюся по-своему не только в Средневековье, но и позднее, в процессе формирования современной национальной словесности. Этот факт не означает их отстранения от общеевропейской литературы и культуры, но требует от каждого исследователя учитывать их своеобразие.
Tanja Popović ]
Список литературы Литературное наследие Slavia Orthodoxa: между каноном и архетипом
- Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. — М.: Искусство, 1979. — 424 с.
- Блум Г. Западный канон. Книги и школа всех времен / пер. с англ. Д. Харитонова. — М.: Новое литературное обозрение, 2017. — 671 с.
- Бочаров С. Генетическая память литературы. — М.: РГГУ 2012. — 341 с.
- Водолазкин Е. Г. О средневековой письменности и современной литературе // Текст и традиция: альманах, 1. — СПб.: Росток, 2013. — C. 37-65.
- Есаулов И. А. Русская классика: новое понимание. — СПб.: Алетейя, 2012. — 448 с.
- Лотман Ю. М. О поэтах и поэзии. — СПб.: Искусство-СПб., 2011. — 848 с.
- Ранчин А. Древнерусская словесность и русская литература Нового времени: к проблеме преемственности // Текст и традиция: альманах, 1. — СПб.: Росток, 2013. — С. 66-82.
- Тынянов Ю. Н. Архаисты и новаторы. — Л.: Прибой: 1929. — 598 с.
- Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. — М.: Наука, 1977. — 578 с.
- Успенский Б. А. Краткий очерк истории русского литературного языка. — М.: Гнозис, 1994. — 242 с.
- Якобсон Р. О. Работы по поэтике / ред. М. Л. Гаспаров. — М.: Прогресс, 1987. — 464 с.
- Curtius E. R. European Literature and the Latin Middle Ages. — Princeton: Princeton University Press, 1953. — 662 p.
- ДеретиЬ J. Историка српске кн>ижевности. — Београд: Нолит, 1983. — 706 с.
- Obolensky D. The Byzantine Commonwealth: Eastern Europe, 500-1453. — New York: Praeger Publishers, 1971. — 445 p.
- ПавиЬ М. Историка српске кн>ижевности класицизма и предромантизма. Класицизам. — Београд: Нолит, 1979. — 570 с.
- Picchio R. Letteratura della Slavia ortodossa. — Bari: Edizioni dedalo, 1991. — 546 p.
- Picchio R. Open Questions in the Study of the 'Orthodox Slavic' and 'Roman Slavic' Variants of Slavic Culture // Contributi italiani al XII Congresso Internazionale degli Slavisti. — Napoli, 1998. — Pp. 1-23.
- ПоповиЬ Т. Песници и поклници. — Београд: Службени гласник, 2010. — 257 с.
- ПоповиЬ Т. Источни канон. — Нови Сад: Издавачка кн>ижарница Зорана Стол'ановиЬа, 2019. — 277 с.
- СкерлиЬ J. Историка нове српске кн>ижевности. — Београд: Просвета, 1967. — 581 с.
- Wellek R. The Concepts of Criticism. — New Haven: Yale University Press, 1963. — 420 p.