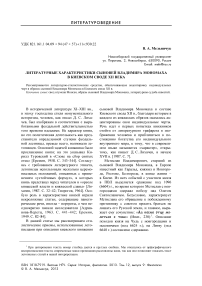Литературные характеристики сыновей Владимира Мономаха в Киевском своде XII века
Автор: Мельничук Валентина Александровна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 9 т.12, 2013 года.
Бесплатный доступ
Рассматриваются литературно‐стилистические средства, обеспечивающие акцентировку индивидуальных черт в образах сыновей Владимира Мономаха в Киевском своде XII в.
Свод игумена моисея, образы сыновей владимира мономаха, литературная судьба известий
Короткий адрес: https://sciup.org/147218951
IDR: 147218951 | УДК: 821.161.1
Текст научной статьи Литературные характеристики сыновей Владимира Мономаха в Киевском своде XII века
В исторической литературе XI–XIII вв., в эпоху господства стиля монументального историзма, человек, как писал Д. С. Лихачев, был изображен в соответствии с выработанными феодальной действительностью того времени идеалами. Не характер князя, но его политическая деятельность как представителя определенной ступени феодальной лестницы, прежде всего, волновали летописцев. Основной задачей книжника было прославление князя; на это указывал Кирилл Туровский в «Слове на сбор святых отец» [Еремин, 1958. С. 343–344]. Согласуясь с требованием литературного этикета, летописцы использовали несколько церемониальных положений, описанных с применением «устойчивых формул», в которых князь представал перед читателем в «ореоле княжеской власти и княжеской славы» [Лихачев, 1987. С. 32–42; Творогов, 1964]. Особую роль в характеристике князей играли некроложные статьи, содержащие панегирические речи, иногда – портреты, о чем неоднократно писали исследователи [Адриа-нова-Перетц, 1963. С. 441–442; Еремин, 1949. С. 82–84].
В данной статье мы рассматриваем стилистические приемы, использованные летописцами при описании киевского княжения сыновей Владимира Мономаха в составе Киевского свода XII в., благодаря которым в каждом из княжеских образов оказались акцентированы свои индивидуальные черты. Речь идет о первых попытках книжников отойти от литературного трафарета в изображении человека и приблизиться к постижению богатства его индивидуального внутреннего мира, к тому, что в современном языке называется «характер», открытому, как пишет Д. С. Лихачев, в начале XVII в. [1987. С. 7].
Мстислав Владимирович, старший из сыновей Владимира Мономаха, в Европе известный как Гаральд, княжил в Новгороде, Ростове, Белгороде, в конце жизни – в Киеве. Из всех событий с участием князя в ПВЛ выделяется сражение под 1096 (6604) г., во время которого Мстислав с новгородцами одержал победу над Олегом Святославичем. Безусловно, характеризует Мстислава его обращение к побежденному противнику с советом просить братьев не лишать его Русской земли, и главное, выражает ему сочувствие: « Аз послю отцу молиться о тебе » (Ипат., 230) 1 . Описание походов князя на Чудь с новгородцами и псковичами (под 6624 г.), на Литву (под 6640 г.) составлено сдержанно.
1 При цитировании текста номер столбца дается в круглых скобках. Мы отказались от орфографического воспроизведения текста; современные знаки препинания расставлены нами, так как они позволяют показать текст летописных статей в нашей интерпретации.
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2013. Том 12, выпуск 9: Филология
Известие, сообщающее о восшествии на киевский престол Мстислава Владимировича, составлено лаконично, однако из всех сыновей Владимира Мономаха только про Мстислава под 1126 (6634) г. сказано, что и отец князя занимал киевское княжение: « Мстислав, старейший сын его, седе на столе в Киеве, отца место своего, мая в 20 …» (Ипат., 289). В Лаврентьевском своде дополнительно к Киевскому своду содержится характеристика княжения Мстислава: « И седе Кыеве Мстислав, сын его старейший, княжа с кротостью » (Лавр., 280).
Под 1128 (6636) г. сообщается, что Всеволод Ольгович выгнал своего дядю, Ярослава Святославича, из Чернигова. Мстислав Владимирович, к которому обратился за помощью обиженный Ярослав, не вступил в конфликт, так как иерейский собор был против этого, взяв вину князя (нарушение данного обещания) на себя 2. В завершение сюжета сказано: « И створи волю их, и соступи креста Мстислав к Ярославу, и плакася того вся дни живота своего » (Ипат., 291). Окончание сюжета подсказывает, что летописец писал ближе к концу жизни князя либо после смерти; кроме того, в нем содержится редкое для летописного повествования XII в. указание на чувства князя, всю жизнь помнившего о своем поступке.
Под этим же годом сообщается о походе Мстислава против полоцких князей; под 1130 (6638) г. сказано о высылке полоцких князей в Константинополь: « Се же лето поточи Мстислав полотскии князе с женами и с детми в Грекы » (Ипат., 293). По мнению А. В. Рукавишникова, «ссылка Изяславичей явилась закономерным итогом борьбы двух враждебных друг другу линий внутри княжеского дома Рюриковичей за право обладания определенной территорией – Полоцкой землей <...> Изгнание по возможности всех Изяславичей за пределы Руси было одним из пунктов плана Мстислава по включению Полоцка в состав своих владений» [2003. С. 111].
Прямую характеристику Мстислава Владимировича (уже умершего к тому времени)
содержит фрагмент под 1140 (6648) г., разрывающий повествование о начале княжения в Киеве черниговского князя Всеволода Ольговича. Называя князя «великим», летописец восхваляет его за то, что он, продолжая дело своего отца, Владимира Мономаха, защитника земли Русской, « мужи свои посла, загна половци за Дон, и за Волгу, за Гиик » (Ипат., 303–304). Перед нами – один из первых примеров зарождающейся традиции прославления исторического деятеля через его предка, начало которой В. П. Ад-рианова-Перетц связывает со «Словом о законе и благодати» митрополита Илариона [1963. С. 431]. Сравнение с подвигами отца является литературным приемом летописца: победа над половцами, описанная сразу после сообщения о смерти Владимира Мономаха, была одержана (согласно Киевскому своду) Ярополком Владимировичем.
В некрологе князя под 1133 (6641) г., содержащем указание даты и места захоронения, не столько акцентированы заслуги самого князя 3, сколько подчеркнуты интересы его сыновей [Литвина, Успенский, 2006. С. 75–76]: « Преставися благоверный князь Мстислав, Володимер сын, оставив княжение брату своему Ярополку, ему же и дети свои с Богом на руце предасть. Преставися Мстислав априля в 15 праз-ной неделе в пяток, положен бысть у церкви святого Федора, юже бе сам создал » (Ипат., 294).
С именем Мстислава Владимировича связано одно из первых титулований князя царем. Первое упоминание данного титула относится к 1054 г. – его сохранила запись на стене киевского Софийского собора о смерти Ярослава Мудрого. На Мстиславовом Евангелии сохранилась запись, сделанная тиуном князя по имени Наслав: « Съпи-сах памяти деля царю нашему и людем о съкончании Евангелия … Дай Бог мъне худому Наславу обрести честь и милость от Бога, и от своего царя, и от братие » (цит. по: [Щапов, 1999. С. 9]).
Житие Мстислава, составленное при участии его сына Ростислава Мстиславича, встречающееся в ряде списков Пролога краткой редакции, содержит более развер- нутую характеристику князя: в нем рассказывается о постройке им церквей, указано, что он был милостив, не любил богатства, заранее знал день смерти. Житию особенно посчастливилось в югославянской письменности: оно встречается во всех списках Пролога, содержащих в себе русские статьи; кроме того, помещено в сербской богослужебной минее XIV в. Нахождение имени князя в одном ряду с равноапостольной княгиней Ольгой, страстотерпцами Борисом и Глебом свидетельствует о широком почитании князя [Серебрянский, 1915. С. 15–16; Лосева, 2009. С. 188–190].
Ярополк Владимирович был князем переяславским, затем киевским. Известия о его восшествии на киевский престол под 1133 (6641) и о смерти под 1139 (6647) г. составлены сдержанно и не содержат характеристик: « А Ярополк вниде в Киев в 17 день в неделю » (Ипат., 294); « Того же лета преставися князь Ярополк месяца февраля в 18 день, и положен бысть в Янцине манастыри у святаго Андрея » (Ипат., 302). По сравнению с Киевским сводом в Лаврентьевском и Никоновском сводах под 1133 (6641) г. сказано, что князя пригласили люди: « И седе по нем брат его Ярополк, княжа Кыеве, людье бо Кыяне послаша по нь » (цит. по: Лавр., 286); в Лаврентьевском своде дополнительно с варианту Киевского свода сказано: « преставися благоверный князь » (Лавр., 291).
Прямую авторскую характеристику князя содержит рассказ о битве Ярополка с половцами, происшедшей под 1126 (6633) г. сразу после сообщения о смерти Владимира Мономаха и вокняжении в Киеве его брата Мстислава. Летописец подчеркивает правоту Ярополка указанием на помощь Бога довольно часто используемым летописцами приемом, называет его « благоверным князем »: « Ярополк же князь укрепився и иде по них с Божьею помощью, не жда от брата помощи, ни от другаго, толко с Пе-реяславци, постиже я »; « Тогда же благоверного князя корень и благоверная отрасль Ярополк призва имя Божие и отца своего, с дружиною своею дерзну »; « И поможе ему Бог и отца его молитва, и прославиша Бога вси людие о таковом даре и помощи » (Ипат., 290).
Известия под 1135 (6643) и 1136 (6644) гг. повествуют о вражде между Всеволодом
Ольговичем (иногда с братьями) и Яропол-ком. В описании конфликта оказались утраченными факты, важные для понимания мотивировки Всеволода Ольговича, в то время князя черниговского, сохранившиеся в сводах более поздней традиции [Мельничук, 2012]. В известии под 1136 (6644) г., сообщающем о битве Ольговичей и войск Яро-полка, во время которой был убит внук Владимира Мономаха, зафиксирован эпизод, где, как нам кажется, в неприглядном свете представлен Ярополк, покинувший место сражения: « Видивше же братья вся: Яро-полк, Вячеслав, Гюрди и Андреи полки свои взмятены, отъехаша всвояси »; « боя-ры их <…> не обретоша княжьи своея и упадоша Олговичем в руче » (Ипат., 298). Другой фрагмент под этим же годом повествует о том, что Ольговичи снова начали воевать возле Треполя. Ярополк, собрав многочисленные войска «из всех земель», вышел навстречу, однако решил отказаться от кровопролития. Значительную часть этого краткого известия занимает похвала Яро-полку за решение примириться с противником, в которой автор цитирует Евангельский текст: « Ярополк же бяше собрал множьст-во вои на нь изо всих земль, и прием расмотрение в сердци, не изиде на нь противу, ни створи кровопролитья, но убоявся суда Божия, сотворися мнии в них, хулу и укор прия на ся от братье своея, и от всих по рекшему: “ Любите враги ваша ” [Мф. 5:44], и створи с ними мир ». Использование эпитета « благооум-ный » подчеркивает правоту князя: « И тако yтеши благоyмный князь Ярополк брань тy лютоyю » (Ипат., 299–300).
В известии под 1139 (6647) г., описывающем еще один конфликт Всеволода Оль-говича и Ярополка Владимировича, правота Ярополка подчеркнута в речах черниговских людей, исторически враждебных племени Владимира, обратившихся к Всеволоду Ольговичу с требованием оставить « высокоумие » и просить Ярополка о мире: « Мы бо ведаем милосердие Ярополче, яко не радуется кровипролитью, но Бога ради восхощет мира, то бо соблюдает землю Русьскую » (Ипат., 301).
Сдержанно сообщается о восшествии на Киевский престол под 1139 (6647) г. Вячеслава Владимировича: « И вниде брат его Вячеслав в Киев того же месяца в 24
в среду мясопустную » (Ипат., 302). В Лавр. добавлено, что князь был встречен митрополитом, и указано, что и прадед князя занимал Киевский престол: « И вниде Вячеслав, брат его, в Кыев, и людем с митрополитом сретшим его, и посадиша и на столе прадеда своего Ярослава месяца февраля в 22 день » (цит. по: Лавр. 291). В Никоновском своде сказано: « И благослови его пресвященный Михаил митрополит Киевский и все Руси » (Никон., 163).
В ответ на резкие слова племянника в известии под 1150 (6658) г.: « Изяслав же ... посла к Вячеславу и рече ему : “ Я есмь позывал тебе Киеву седеть, а ты еси не восхотел; а ныне ци сего еси дозрел, оже брат твои выехал, а ты ся садиши в Киеве; ныне же поеди Вышегород свои ”» князь проявляет твердость: « Аче ти мя убити, сыну на сем месте, а убии, а я не еду ». (Ипат., 396–397). Дублировка данного известия представляет для читателя иную версию: Изяслав Мстиславич возражает киевлянам, призывающим захватить дружину Вячеслава словами: « А се ми есть яко отец стрый свои »; самому князю советует ехать в Вышгород, ссылаясь на возмущение людей (« а много ти лиха замысливают ») (Ипат., 397). Слова Изяслава Мстиславича, содержащиеся в дублировке, в полной мере согласуются с отношениями, установленным между сюзеренами и вассалами в феодальной Руси.
Сниженным оказывается образ князя в двух других известиях, в которых подчеркнута роль других князей. Под 1150 (6658) г. на престол Вячеслава предлагает Юрий Владимирович: « Тогда князь Дюрги пова-би Вячеслава на стол Киеву. Бояре же размолвиша Дюрга, рекуче: “ Брату твоему не удержати Киева, да не будет его ни тобе, ни оному ”» (Ипат., 394). Под 1151 (6659) г. подчеркнута роль Изяслава Мстиславича: « Уведе Изяслав стрыя своего и отца своего Вячеслава в Киев. Вячеслав же уеха в Киев, и еха к святой Софьи, и седе на столе деда своего и отца своего » (Ипат., 418).
Напротив, в известии под 1154 (6662) г., сообщающем о восшествии на киевский престол Ростислава Мстиславича, значение и роль Вячеслава Владимировича акцентированы за счет прямых речей киевлян, которые выдвигают Ростиславу требование чтить Вячеслава так же, как это делал его брат: «Начало княжения Ростиславля в Киеве. И посадиша Кияне рекуче: “Якоже и брат твои Изяслав честил Вячеслава, тако же и ты чести, а до твоего живота Киев твои”» (Ипат., 471).
В создании образа князя играют роль прямые речи, в которых он не только выражает свою позицию, но раскрывает внутренние переживания в связи с теми или иными происходящими событиями. Например, обращаясь к Изяславу и Ростиславу Мстиславичам под 1151 (6659) г., он объясняет, почему терпеливо сносил от них обиды: « Оже мя переобидила, и первое, и другое, и бещестье на мене еста положила, а полкы имею, а силу имею, и Бог ми дал, но аз Рускыя деля земли и хрестъян деля, того всего не помянул » (Ипат., 429).
Кроме того, летописец формирует для слов князя, которые могли бы остаться незамеченными в плотном событийном ряде летописного текста, выразительный контекст. Под 1149 (6657) г. в описании конфликта, в котором были задействованы несколько князей, Вячеслав Владимирович просит Юрия Долгорукого примириться. Цитируя Евангелие от Матфея и послание Иоанна Богослова, летописец сформировал контекст, в котором обращение князя приобретает особый вес. Кроме того, автор дает князю прямую характеристику «незлобив сердцем»: « Си слышав, князь Вячеслав преклонися на любовь, тем же речеться: “ Блажени смиряющеся, яко те сынове Божии нарекуться; блажен ” (Мф. 5:3-11) ...ноя бы земля Руская расплодилася и розмогла в братолюбьи князии. Князь же Вячеслав послуша брата своего и свата Володимира, прием в сердци слова его, поткнуся к ряду и к любви. Бяшеть бо князь Вячеслав незлобив сердцем, хваля преславного Бога, поминая писание: “ Аще имеете веру, яко зерно синапно 4, речете горе сеи: преди преидеть ” (Мф. 17:20), и пакы помянув слово глаголющее: “ Бога люблю, а брата ненавидя, ложь еси. Аще Бога любиши, люби брата ” (1-е Иоанна,
4:20). Вячеслав же нача брату молвити Гюргеви: “ Брате, мирися; хочеши ли не уладився поити прочь, то ты ся прочь, а Изяслав мою волость пожжеть ” . Гюрги же то слышав, и тако уладишася » (Ипат., 392–393).
В другом примере под 1151 (6659) г. «нарративное обрамление» (термин А. А. Гиппиуса; см.: [Гиппиус, 2009. С. 185]) слов князя: « И рече Вячеслав, озряся на святую Богородицу, яже есть над Золотыми вороты, а той ныне Пречистей Госпожи суди-ти с сыном своим и Богом нашим в сии век и в будущии » (Ипат., 431), - свидетельствует, как нам кажется, об осознанном насыщении текста нужными автору деталями, конструировании определенного «повествовательного пространства» [Дергачева-Скоп, Алексеев, 2004]: в данном случае обращение взором к иконе является штрихом к образу князя, выстраивающего свои действия в соответствии с текстом Писания.
Под этим же годом находим редкий случай, когда не летописец, но князь, участник описываемых событий, оценивает происходящее как результат Божественного вмешательства. Обращаясь к своим союзникам при виде бегства князя Юрия, князь произносит: « Сыну, се есть начало Божии помочи. Сде приехавше не вспели ли што, но толико сорома добыли » (Ипат., 432433). Самохарактеристикой Вячеслава Владимировича можно считать другие его слова: « От рожения моего не охвотив есмь был на кровопролитие, но сего мя довел брат мой » (Ипат., 437).
Смерть Вячеслава Владимировича под 1154 (6662) г. представлена для читателя через восприятие случившегося князем Ростиславом Мстиславичем: « Утрии же день пригнаша к Ростиславу ис Киева и пове-даша ему: “ Отца ти Вячеслава Бог поял ”. Ростислав же рече : “ А мы вчера ехали, а он добр и здоров ” <_> Ростислав же то слышав, и тако оставя полкы своя, а сам гна Киеву, и тако плакася по отци своем и проводи его до гроба с честью великою с множеством народа » (Ипат., 472-473). Известие о смерти князя сохранилось в НI младшего извода, где сказано: « Той же зиме преставися Вечеслав в Киеве » (HI, 216).
О восшествии на Киевский престол Юрия Долгорукого сообщается впервые в известии под 1149 (6657) г. Содержащийся в нем генеалогический экскурс представляет собой редкий для повествования XII в. случай: «Начало княжения в Киеве князя великого Дюргя, сына Володимира Мономаха, внука Всеволожа, правнука Ярославля, пращюра великого Володимира, крестившего всю землю Рускую. Гюрги же поеха у Киев и множество народа выде противу ему с радостью великою, и седе на столе отца своего, хваля и славя Бога» (Ипат., 383–384). Любопытно, что текст Никона, привычно прибавляющего генеалогию к имени всех князей, восходящих на Киевский престол, таких сведений о Юрии Владимировиче не содержит.
Вынужденным выглядит приглашение князя людьми под 1150 (6658) г: « Кияне же, убоявшеся Володимера галичьскаго, увядоша князя Дюргя в Киев » (Ипат., 403), хотя в тексте чуть выше читается фрагмент, в котором сказано: « приде Гюрги <...> над берег противу Киеву , кияне же мнози поехаша в насадех к Гюргеви » (Ипат., 402). Известие, сообщающее о еще одном восхождении князя на Киевский престол под 1155 (6663) г., составлено намного скромнее, чем предыдущее: « Начало княжения Юрьева в Киеве. И тако Дюрги благодаря Бога вниде в Киев. Выиде противу ему множьство народа, и седе на столе отец своих и дед, и прия с радостью вся земля Руская » (Ипат., 478).
Летописные известия, описывающие события с участием Юрия Долгорукого, начинаются с 1120 (6628) г.: именно под этим годом сообщается о походе князя на болгар. В вопросе происхождения ранних известий, в которых упоминается имя князя, в литературе нет единого мнения [Приселков, 1996. С. 108, 117; Насонов, 1969. С. 112–118]. В целом сведения о князе 20–40-х гг. незначительны.
Под 1135 (6643) г. Юрий Владимирович упоминается в описании конфликта, развернувшегося между Ольговичами и Владимировичами в качестве претендента на владение Переяславлем Русским. Мотивировка князя Юрия, выгнавшего Всеволода Мстиславича из Переяславля, раскрывается в НI старшего извода под 1132 (6640) г.: по велению Ярополка Переяславль должен был отойти Мстиславу 5 : « И рече Гюрги и Анд-
5 Претензии Ю. В. Долгорукого как старшего в роду на переяславское княжество были законными.
рей: “ Се Ярополк, брат наю, по смерти своей хощеть дати Кыев Всеволоду, братану своему ” . И выгониста ис Переяславля » (НI, 22).
С именем Юрия Владимировича связано первое упоминание города Москвы: именно здесь под 1147 (6655) г. состоялась встреча его со Святославом Ольговичем, предваряя которую сын Святослава Ольговича, Олег, дарит Юрию Долгорукому пардуса. Подарок в виде пардуса – случай не редкий. Так, в «Девгениевом деянии» Стратиг дарит своему зятю «тридцать коней, а покрыты они дорогими паволоками, а седла и уздечки золотом окованы; и подарил ему двадцать конюхов, и пардусов, и тридцать соколов с сокольничими<…>» [2004. C. 85, 87]; в самом Киевском своде под 1160 г. пардус упомянут среди других подарков, полученных Ростиславом Мстиславичем от Святослава Ольговича.
В нашем известии под 1147 г. упомянутый пардус представляет собой деталь, поданную крупным планом (в отличие от других приведенных примеров), приобретает ассоциативные возможности, становится «словом художественным», определенным Д. С. Лихачевым как возбудитель не всегда ясных значений, эмоций, ассоциаций; как слово, приобретающее смысл при включении в контекст эпохи [1979. С. 510]. Пардус «литературный» был, безусловно, книжнику знако́ м: сравнение с пардусом, известным своим яростным нравом и способностью внезапно прыгать на врага, использовано, например, для характеристики Игоря Святославича в ПВЛ [Гиппиус, 2008].
Любопытно, что пардусом мог называться царь: в литературе более позднего времени, сербской редакции Александрии, Философ объясняет Александру: «Александр, в дни еврейского пророка Даниила слышали мы, что в писаниях наших западный царь пардусом называется» [Александрия, 2003. С. 43]. К перечню произведений остается добавить «Витязя в тигровой шкуре» Шота Руставели, произведение одного текстологического ряда со «Словом о полку Игореве», «Песнью о Роланде», в котором символика названия играет важную роль в создании образа главного героя [Робинсон, 1984. С. 431–432].
Повествование 40–50-х гг. довольно подробно описывает междоусобную войну за Киев между Юрием Владимировичем
(имевшим законные права на владение Киевом) и его племянником Изяславом Мстиславичем, который выступил против установленного порядка замещения Киевского стола. В описании этих событий содержатся отрывки, восходящие к разным источникам: автор одного из них сочувствовал Юрию Владимировичу, другой – Изяславу Мстиславичу.
Безусловно, сказывается на образе Юрия фрагмент под 1148 (6656) г., служащий завязкой длительного конфликта между князьями, в котором сообщается о приходе его сына, Ростислава, с жалобой на отца фактически к его врагу, Изяславу Мстиславичу. В словах Изяслава Мстиславича содержится нелестная характеристика Юрия Владимировича: « Всих нас стареи отец твой, но с нами не умеет жити; а мне даи Бог вас, братью свою, всю имети и весь род свой в правду, ако и душю свою; ныне же, аче отец ти волости не дал, а яз ти даю » (Ипат., 367). Когда оклеветанный Ростислав вернулся домой, то отец его « в сороме сына своего, сжалив собе, рече: “ Тако ли мне части нету в Руской земли и моим детем ”» (Ипат., 374). Те же слова о Юрии Долгоруком: « с нами не умеет житии », - произносит Изяслав Мстиславич под 1150 (6658) г. в обращении к другому сыну князя, Глебу.
В одном из эпизодов под 1149 (6658) г., описывающих решение Юрия Долгорукого выступить против Изяслава Мстиславича, подчеркнута правота князя Юрия: как пишет летописец, он выступил « надеяся на Бога », в то время как Изяслав « надеяся на множество вои ». Сочувствующему автору принадлежит обращение Ростислава к Юрию под 1154 (6662) г.: « Отце, кланяю ти ся, ты переди до мене добр был еси, а аз до тебе, а ныне кланяю ти ся, стрыи ми еси, яко отец »; и ответ Юрия Владимировича: « Право, сыну, с Изяславом есмь не моглъ быти, а ты ми еси свои брат и сын. Не помяня злобы брата его, отда ему гнев » (Ипат., 477). Положительно характеризует князя зафиксированный в тексте под 1157 (6665) г. отказ от первоначального плана передать Владимир Волынский от Мстислава Изяславича Владимиру Андреевичу, мотивированный желанием не губить людей: князь « сжалиси о погыбели людьсте » (Ипат., 487).
Значительная часть фрагментов, описывающих битву за Киев между Юрием и его племянником, Изяславом Мстиславичем, сторону которого принял старший брат Юрия, Вячеслав, составлены автором, настроенным к Юрию враждебно. Особой выразительностью отличается обращение к нему Вячеслава Владимировича под 1151 (6659) г.: « У тебя сынов 7, а я их от тебе не отгоню, а у мене одина два сына, Изя-слав и Ростислав, а инии моложьшии суть же; но я, брате, тобе молвлю: “ Рус-кы деля земля и хрестьян деля: поеди же в свои Переяславль и в Куреск и с своими сыны ”» (Ипат., 430-431). Князь Вячеслав, в силу своего старшинства являющийся знаменем легитимности для племянников [Литвина, Успенский, 2006. С. 78], обеспечивает политическим действиям Изяслава Мстиславича законность. Как установлено Т. Л. Вилкул, под 1151 (6659) г. в описании противостояния Изяслава Мстиславича и Юрия Долгорукого в Ипатьевском своде на стороне Изяслава Мстиславича выступает коалиция князей, тогда как в Лаврентьевском своде, излагающем те же события, – выступает лишь Изяслав [2005. С. 31, 34–36].
Известие о смерти князя под 1158 (6666) г. явно записано не его сторонником: указаны причина смерти, не лестно характеризующая князя, и факт разорения его владений: « Пив бо Гюрги в осменика у Петрила, в тъ день на ночь разболеся, и бысть же болести его 5 днии, и пре-ставися в Киеве Гюрги Володимеричь, князь Киевск ы й, месяца мая в 15, в среду на ночь, а заутра в четверг положиша у манастыри святаго Спаса. И много зла створися в тъ день: розграбиша двор его Красный и другый двор его за Днепром разграбиша, егоже звашеть сам Раем, и Василков двор, сына его разграбиша ; в городе избивахуть Суждальцы по городом и по селом, и товар их грабяче » (Ипат., 489). Сопоставление некроложной статьи Юрия Долгорукого с типологически сходными известиями в пределах Киевского свода XII в. позволяет сделать вывод о сознательной фиксации нелицеприятных для князя фактов, очевидно, сказывающихся на формировании его облика.
Яркая характеристика Мстислава Владимировича как продолжателя военных успе- хов отца, названного летописцем «великим», содержится во вставке под 1140 (6648) г., сделанной, вероятнее всего, составителем Киевского свода игуменом Моисеем. Штрихом к образу князя является зафиксированная под 1096 (6604) г. в разговоре с побежденным противником, Олегом Святославичем, готовность молиться за него. В образе Ярополка, согласно Аристотелю, подчеркнуты нравственные добродетели князя, относимые к «нраву» [Аристотель, 1984а. С. 77]. Образ князя, беспокоящегося о мире в земле Русской, храбро отразившего набег половцев, князя «благоверного», «благоумного» и милосердного сформирован с помощью прямой авторской характеристики в виде эпитета; положительной характеристики, вложенной в уста его противников; объяснения победы над половцами помощью Бога и молитв отца. Бегство Ярополка с поля сражения под 1136 (6644) г. остается фактически незамеченным на фоне других эпизодов с участием князя, в которых мастерски акцентированы его добродетели. Кроме того, в результате редактирования, по нашему мнению, игуменом Моисеем рассказов под 1135 (6643) и 1136 (6644) гг. оказались утраченными важные для черниговских князей, противников Ярополка, подробности.
Несмотря на то что в некоторых эпизодах образ Вячеслава Владимировича оказался «сниженным» (исполняющим волю племянника, Изяслава Мстиславича), доминирующими его чертами являются христианские ориентиры, готовность уступить братьям, забота о мире. Образ князя сформирован в значительной степени за счет приведенных в тексте прямых речей, раскрывающих мотивировку его поступков. Применимо к Вячеславу Владимировичу можно говорить о первых попытках книжника изобразить характер 6.
Образ Юрия Долгорукого складывается из полярных характеристик. Упование на Божью помощь в описании одного из эпизодов сражения с Изяславом Мстиславичем (имеющее положительную коннотацию в летописном тексте), отмеченная Ростисла- вом Мстиславичем доброта князя, отказ от планов захвата Владимира Волынского ради спасения людей под 1157 (6665) г., – положительно характеризующие князя, сочетаются с негативными оценками, вложенными в уста его соперника Изяслава Мстиславича, а также объединившегося с ним старшего брата Вячеслава. В некрологе, жанре, традиционно используемом книжниками для восхваления князей 7, подводящем итог княжескому жизнеописанию, указаны факты, характеризующие князя отрицательно. Между тем в Типографской летописи под 1152 г. сообщается о строительной деятельности князя в Ростово-Суздальской земле: «Георгий князь в Суждале бе, и отверзл ему Бог разумнеи очи на церковное здание и многи церкви поставиша по Суздальской стране, и церковь постави камену на Нерли, святых мученик Бориса и Глеба, и святаго Спаса в Суздале и свя-таго Георгия в Володимери камену же, и Переяславль град перевед от Клещина, и заложи велик град и церковь камену в нем доспе святаго Спаса и исполни ю книгами и мощми святых дивно, и Георгиев град заложи, и в нем церковь доспе камену святаго мученика Георгиа» (Тип., 77). В тексте Лаврентьевского, Никоновского сводов (кроме Лаптевского списка) про смерть князя сказано нейтрально.
Обращает на себя внимание известие, сообщающее о вокняжении князя в Киеве, выделяющееся на фоне иных типологически сходных известий за счет указания четырехчленной генеалогии, подчеркивающее его достоинство. Доведенная до князя Владимира, крестившего Русскую землю, генеалогия свидетельствует о вероятном существовании летописца князя, отраженного в виде фрагментов в составе Киевского свода.
Для составителя Киевского свода, игумена Выдубицкого монастыря Моисея, важным было подчеркнуть линию преемственности власти: от отца Владимира Мономаха к внукам старшего сына последнего, Мстислава. Образы князей формировались путем постепенно накапливавшихся описаний княжеских действий, однако акцентировка их индивидуальных черт определялась, по-видимому, окончательной целенаправленной редакторской правкой, выполненной составителем всего Киевского свода XII в. игуменом Моисеем. Именно от него зависела литературная судьба входящих в его состав источников.
Список литературы Литературные характеристики сыновей Владимира Мономаха в Киевском своде XII века
- Адрианова-Перетц В. П. О связи между древним и новым периодами в истории славянских литератур // ТОДРЛ. М.; Л., 1963. Т. 19. С. 427-447.
- Александрия // Библиотека литературы Древней Руси: Сб. древнерусских текстов: В 20 т. СПб.: Наука, 2003. Т. 8: XIV - первая половина XVI в.
- Аристотель. Никомахова этика // Аристотель. Соч.: В 4 т. М., 1984а. Т. 4.
- Аристотель. Поэтика // Аристотель. Соч.: В 4 т. М., 1984б. Т. 4.
- Вилкул Т. Л. О происхождении общего текста Ипатьевской и Лаврентьевской летописи за XII век (предварительные заметки) // Palaeoslavica. 2005. Vol. 13. No. 1. P. 21-80.
- Гиппиус А. А. Архиепископ Антоний, новгородское летописание и культ святой Софии // Хорошие дни…: Сб. ст. памяти А. С. Хорошева. М., 2009. С. 181-198.
- Гиппиус А. А. Как обедал Святослав? (текстологические заметки) // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2008. № 2 (32). С. 47-54.
- Девгениево Деяние // Библиотека литературы Древней Руси: Сб. древнерусских текстов: В 20 т. СПб., 2004. Т. 3: XI-XII вв.
- Дергачева-Скоп Е. И., Алексеев В. Н. «История Сибирская»: повествовательное пространство и повествовательная достоверность // Искусство грамматики. Новосибирск, 2004. Вып. 1. С. 67-84.
- Еремин И. П. Литературное наследие Кирилла Туровского // ТОДРЛ. М.; Л., 1958. Т. 15. С. 331-348.
- Еремин И. П. Киевская летопись как памятник литературы // ТОДРЛ. М.; Л., 1949. Т. 7. С. 67-97.
- Литвина А. Ф., Успенский Ф. Б. Выбор имени у русских князей в X-XVI вв. Династическая история сквозь призму антропонимики. М., 2006.
- Лихачев Д. С. Избранные работы: В 3 т. Л.: Худож. лит., 1987. Т. 3. С. 3-164.
- Лихачев Д. С. К специфике художественного слова // Изв. АН СССР. Серия литературы и языка. М.: Наука, 1979. Т. 38, № 6. С. 509-512.
- Лосева О. В. Жития русских святых в составе древнерусских Прологов XII - первой трети XV века. М., 2009.
- Мельничук В. А. Известия XII века с участием Всеволода Ольговича времени его черниговского княжения в составе промосковских летописных сводов // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2012. Т. 11, вып. 12: Филология. С. 155-163.
- Насонов А. Н. История русского летописания XI - начала XVIII в. Очерки и исследования. М., 1969.
- Приселков М. Д. История русского летописания XI-XV вв. СПб., 1996.
- Робинсон А. Н. Литература периода феодальной раздробленности // История всемирной литературы. М., 1984. Т. 2.
- Рукавишников А. В. Почему полоцкие князья были сосланы в Византию: свидетельства источников // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2003. № 2 (12). С. 99-111.
- Серебрянский Н. Древнерусские княжеские жития (Обзор редакций и тексты). М., 1915.
- Творогов О. В. Задачи изучения устойчивых литературных формул Древней Руси // ТОДРЛ. М.; Л., 1964. Т. 20. С. 29-40.
- Щапов Я. Н. Достоинство и титул царя на Руси до XVI в. // Царь и царство в русском общественном сознании. Мировосприятие и самосознание русского общества. М., 1999.