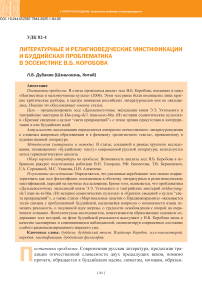Литературные и религиоведческие мистификации и буддийская проблематика в эссеистике В.Б. Коробова
Автор: Дубаков Л.В.
Журнал: Сибирский филологический форум @sibfil
Рубрика: Литературоведение. Актуальные проблемы литературоведения
Статья в выпуске: 1 (30), 2025 года.
Бесплатный доступ
Постановка проблемы. В статье проводится анализ эссе В.Б. Коробова, входящих в цикл «Неизвестные и малоизученные культы» (2006). Этим эссе ранее были посвящены лишь краткие критические разборы, в центре внимания российских литературоведов они не оказывались. Именно это обусловливает новизну статьи. Цель - проанализировать эссе «Дальневосточные экспедиции князя Э.Э. Ухтомского и тантрийские мистерии ni-kha-yung-sle’i man-su-ro-bha. (Из истории семиотических культов)» и «Краткие сведения о культе “света превращений”» с точки зрения присутствия и интерпретации в них буддийских идей. Актуальность исследования определяется интересом отечественного литературоведения к сложным жанровым образованиям и к феномену «религиозного текста», проявленному в художественной литературе. Методология (материалы и методы). В статье, созданной в рамках крупного исследования, посвященного «буддийскому тексту» современной русской литературы, используется метод герменевтического анализа. Обзор научной литературы по проблеме. Возможность анализа эссе В.Б. Коробова в избранном ракурсе подготовлена работами В.Н. Топорова, Р.Ф. Бекметова, Т.В. Бернюкевич, Г.А. Сорокиной, М.С. Уланова, П.В. Алексеева. Результаты исследования. Определяется, что указанные коробовские эссе можно охарактеризовать как эссе философские, помещенные в оболочку литературных и религиоведческих мистификаций, пародий на научные исследования. Кроме того, выявляется, что проблематика «Дальневосточных экспедиций князя Э.Э. Ухтомского и тантрийских мистерий ni-kha-yungsle’i man-su-ro-bha. (Из истории семиотических культов)» и «Кратких сведений о культе “света превращений”», а также статьи «Маргинальные заметки о Праджняпарамите» оказывается тесно связана с проблематикой буддийской, касающейся вопросов о возможности языка изменять реальность, о подлинной идее жертвы, о трудности освобождения с опорой на омраченное сознание. Интеллектуалы-исследователи, повествователи обрамляющих основное содержание эссе историй, на фоне буддийской реальности выступают у В.Б. Коробова лишь в качестве маловерных и сомневающихся наблюдателей, символизируя современное состояние слабого рационализированного мирского ума.
Буддизм, буддийский текст, владимир коробов, эссе-комментарий, пародия, мистификация, буддийская философия
Короткий адрес: https://sciup.org/144163417
IDR: 144163417 | УДК: 82-4 | DOI: 10.24412/2587-7844-2025-1-84-92
Текст научной статьи Литературные и религиоведческие мистификации и буддийская проблематика в эссеистике В.Б. Коробова
остановка проблемы . Современная русская литература, продолжая традиции отечественной словесности двух предыдущих веков, помимо прочего, обращается к буддийским идеям, сюжетам, мотивам, образам.
В связи с этим в работах литературоведов по аналогии с понятием «городской текст» появилось понятие «текст религиозный».
Обзор литературы . Вслед за топоровским петербургским текстом [Топоров, 1995] и его многочисленными производными анализу подвергся мусульманский текст русской литературы в поэтике романтизма 1820–1830-х гг. [Алексеев, 2014]. Позже внимание литературоведов обратилось к «буддийскому тексту» [Бекметов, 2018]. И в целом интерес к влиянию буддизма на русскую литературу достаточно широк [Бернюкевич, 2018; Сорокина, 2017; Уланов, 2009].
Буддийский текст современной русской литературы создается писателями известными, такими, как, например, В.О. Пелевин, Е.А. Шварц, Л.А. Юзефович и др.), и писателями менее известными: А.Л. Иванченко [Дубаков, 2023], Э.Н. Крылова [Дубаков, 2024] и др. Среди последних можно назвать имя В.Б. Коробова (род. в 1957 г.), философа, психолога, буддолога, который с начала 1990-х гг. публикует стихотворения и художественную прозу как под своим именем, так и под псевдонимом Александр Велецкий. Одно из наиболее заметных его сочинений – собрание эссе «Неизвестные и малоизученные культы», отдельные произведения которого с начала 2000-х гг. печатались в философских, культурологических, буддологических журналах, а впервые оформились в цикл и были опубликованы под одной обложкой в антологии Макса Фрая «Пять имен» [Фрай, 2006]. Название цикла, возможно, восходит к вымышленной оккультной книге «Сокровенные культы» (нем. Unaussprechlichen Kulten, англ. Nameless Cults) из произведений американского писателя-фантаста Р.И. Говарда (1906–1936). При этом, хотя некоторые эссе коробовского цикла и могут быть отнесены к жанру фантастики, и отчасти с элементами ужасного, интенция русского писателя несколько иная: он создает не развлекательную литературу, а скорее философскую.
Цель статьи – проанализировать эссе «Дальневосточные экспедиции князя Э.Э. Ухтомского и тантрийские мистерии ni-kha-yung-sle’i man-su-ro-bha. (Из истории семиотических культов)» и «Краткие сведения о культе “света превращений”» с точки зрения присутствия и интерпретации в них буддийских идей.
Методология (материалы и методы). В статье, созданной в рамках крупного исследования, посвященного буддийскому тексту современной русской литературы, используется метод герменевтического анализа.
Результаты и обсуждение . В представленной статье рассматриваются два текста названного цикла – это «Дальневосточные экспедиции князя Э. Э. Ухтомского и тантрийские мистерии ni-kha-yung-sle’i man-su-ro-bha. (Из истории семиотических культов)» и «Краткие сведения о культе “света превращений”», в которых Коробов обращается к буддизму.
По выражению С.П. Костырко, почти сразу же откликнувшегося на первое из них, «автор не скрывает своих “борхесовских” беллетристических приемов: придуманный герой князь Ухтомский, придуманный сакральный текст, история культуры, история некой мистической потаенной пракниги чуть ли не всей русской культуры; интеллектуально-детективный боевик, разработанный как бы
СИБИРСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 2025. № 1 (30)
средствами кондового историко-культурного исследования. Доведенная почти до пародии стилистика научных исследований, явленная, скажем, в популярных ныне культурологических бестселлерах А. Эткинда» [Костырко, 2000, с. 254]. В статье в том же «Новом мире», но от 2003 г., реагируя на замечание, что князь Ухтомский не вымышленное лицо, и, размышляя о причинах своей ошибки, критик приходит к выводу о том, что спутал жанр пародии на эзотерическое исследование с паранаучной фантазией [Костырко, 2003, с. 207]. Думается, однако, что, исправляясь, во второй раз Сергей Костырко ошибся больше: если определять жанр этого коробовского произведения, то правильнее было бы охарактеризовать его как философское эссе, помещенное в оболочку пародии на научную статью. (Впрочем, еще большую ошибку допускает Е.В. Дроботушенко в статье, посвященной православной миссионерской деятельности и ее отражению в публицистике Ухтомского, в качестве одного из источников всерьез приводя эссе Коробова [Дроботушенко, 2019, с. 96].) С формальной же точки зрения можно сказать, что «Дальневосточные экспедиции князя Э. Э. Ухтомского и тантрийские мистерии ni-kha-yung-sle’i man-su-ro-bha. (Из истории семиотических культов)» – это жанр романа-комментария (эссе-комментария), «текстологический аппарат которого намного превышает по объему претекст» [Курницкая, 2012, с. 53].
В одном из псевдокомментариев к этому эссе, оформленном в виде сноски, автор так объясняет логику князя Ухтомского, обретшего и назвавшего таинственную книгу – «Книгой Юнглей Мансурова»: с одной стороны, «тексты, относящиеся к традиции т.н. “запредельной мудрости” (праджняпарамите), традиционно называются Юм (от тиб. Yum – “мать”), с другой – в приводимом Ухтомским тексте есть слово “юнг”, которое в переводе с тибетского означает “желтый” (тиб. yung-ba). Как известно, желтый цвет является отличительным знаком школы гелуг-па» [Коробов, 2005, с. 173]. Можно, впрочем, выстроить и иной «ассоциативный ряд» [Коробов, 2005, с. 173]: в названии «Книги Юнглей Мансурова» слышится фамилия исследователя буддизма К.Г. Юнга (ср. с ономастическим кодом фамилии барона Юнгерна в «Чапаеве и Пустоте» В.О. Пелевина) и, возможно, Г.Э. Лейбница и Д. Юма (в форме «Кн. Ю. М.»), философия которых отчасти близка буддизму, а также отзывается Мансуровский переулок, где собиралась интеллигенция 1970-х гг., и журналистский миф конца девяностых годов прошлого века о неких «тетрадях Мансура», выдуманного темного мага. Фрагмент этой книги, приведенный в начале эссе, видя в транскрипции тибетских слов по системе Вэйли слова русские, можно прочесть как эзотерический текст о запредельной мудрости, что организует «текстуальное пространство таким образом, что для человека, оказавшегося в нем, становится возможным оказаться впереди своего собственного восприятия» [Коробов, 2003, с. 82]. Переведя же тибетский текст на русский язык, его можно прочесть как мистически мотивированные отсылки к Ветхому Завету. По сюжету эссе Ухтомский превращает «Книгу Юнглей Мансурова» в «Частные объявления» в газете «Санкт-Петербургские ведомости», каждое из которых может быть воспринято как идам, божество для медитаций, или как буддийский молельный флаг, обладающий для верующего способностью распространения духовной информации. Эти объявления созданы посредством соединения и/или пародийной перелицовки строк известных стихотворений А.С. Пушкина, И.Ф. Анненского, К.И. Чуковского, А.Е. Крученых, Б.Л. Пастернака, О.Э. Мандельштама, В.В. Маяковского, Данте Алигьери, и при желании их также можно прочесть как зашифрованную мудрость, проявляющуюся через смеховой инсайт. Как указывает автор в одном из псевдокомментариев, анализ и оценка этих текстов выходит за рамки его работы, хотя «непосредственная связь приведенных <…> текстов с русской поэтической культурой ХХ века очевидна» и «это могло бы стать темой отдельного культурологического исследования» [Коробов, 2005, с. 174]. Например, такого. Строки Осипа Мандельштама из стихотворения «Я скажу тебе с последней прямотой…» в «частном объявлении» «Все лишь дхарма, / драхма-брахма, ангел мой» [Коробов, 2005, с. 174] превращаются у Коробова в палимпсест, на который ложится буддийская идея о важности Дхармы, Учения, или о том, что реальность состоит из мельчайших преходящих частиц – дхарм. Обращение «ангел мой», в контексте мандельштамовского текста читающееся в большей степени как обращение к женщине, у Коробова видится скорее как обращение именно к божественному существу: анаграмма Мандельштама дополняется у писателя эхо-редупликацией «драхма-брахма», вводится обращение к богу проявленного мира – Брахме, значение и вес которого для буддизма не абсолютны. Иными словами, этот фрагмент из «Книги Юнглей Мансурова» говорит о важности Учения о спасении – о переходе в нирвану, которое требует избегания высших миров траялоки, буддийского троекосмия.
Все эти попытки вычитать из русской литературы или вчитать в нее эзотерическое содержание получают философское объяснение в финале эссе: Коробов смотрит на все эти внешне юмористические упражнения как на работу с «магическим языком», основанным на «порождающих семиотических структурах (rtsa ba’i ngag)» [Коробов, 2005, с. 173] и скрывающимся в языке естественном. Согласно «Дальневосточным экспедициям», Ухтомский, превращая «Книгу Юнглей Мансурова», написанную «на языке Уддияны» [Коробов, 2005, с. 173], мифологической буддийской райской страны, в газетные частные объявления, а затем распространяя ее среди петербургской культурной элиты, искал того, кому можно передать эту книгу, ее смыслы и ее ритуалы. Ухтомский в эссе – это «Адам Богданович Кадмон», посредник между несовершенным человеком и трансцендентной реальностью, что перед смертью «ощущает литер тяжесть» [Коробов, 2005, с. 178].
Полностью серьезно в эссе звучат последние несколько его предложений: «…тантрийские мистерии трансформировались в литературную традицию, явившуюся по сути своей насыщенной средой, хранящей для последующих прочтений изначальные смыслы “ni-kha-yung-sle’i man-su-ro-bha”. Э.Э. Ухтомский,
СИБИРСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 2025. № 1 (30)
распространяя “Книгу”, видимо, надеялся, что она будет прочитана как некое практическое руководство, однако этого при его жизни не произошло. Мистерия исчезла, превратившись в литературу, которая в России сама стала культом // Сегодня культ литературы умирает. Вернется ли слово мистерией?» [Коробов, 2005, с. 178]. Слово «экспедиция», вынесенное в заглавие эссе, означает не только путешествие на Восток в поисках мудрости, но и «отправку» корреспонденции. Мистическая корреспонденция в коробовском тексте не нашла адресата, и в этом его главный драматизм: русская литература подменила собой религиозный культ (христианский ли, буддийский), став при этом лишь культом семиотическим, эрзац-религией, и не справилась с миссией полноценного духовного преображения человека или, во всяком случае, перестала справляться, утратив сакральность и силу. Слово русской литературы перестало создавать и менять мир.
Таким образом, в этом эссе можно не только увидеть пародийные постмодернистские трансформации религиозных текстов и знаменитых литературных произведений, но и обнаружить размышления о природе языка и реальности, связанных друг с другом, и о перспективах существования русской литературы.
Действие эссе «Краткие сведения о культе “света превращений”» происходит в Кафиристане, территории, в конце XIX в. растворившейся в Афганистане. Кафиристан населяли племена, исповедовавшие политеизм, а в глубокой древности он был буддийским королевством. Герои этого произведения – Иеремия Бартоломью Стейн, секретарь английской дипломатической миссии, и Дангар Бадат, тантрист, последователь буддийского святого Падмасамбхавы. Оба они становятся свидетелями ритуала, совершаемого в рамках культа «света превращений», во время которого жрецы отдают свету «свою кровь, душу, сперму, все свои энергии» [Коробов, 2001, с. 76] для того, чтобы Свет превратился в Слово, чтобы мир продолжать существовать. Участию Стейна и Бадата в ритуале предшествует их разговор о том, что такое жертва. Бадат высказывает мнение, что ни в христианстве, где великую жертву ради человечества совершил Христос, ни в буддизме с его благородной концепцией бодхичитты – «“просветленной мысли”, направленной на благо всех живых существ» [Коробов, 2001, с. 74], идея жертвы не представлена полно. После ритуала, в процессе которого, взаимодействуя с таинственным шаром света, погибли жрецы, Бадат объясняет свои слова тем, что подлинная жертва совершается только теми немногими, кто не питает «совершенно никаких надежд на воздаяние» [Коробов, 2001, с. 76]. В процессе пояснений Бадата становится ясно, что он не подвергал сомнению значимость христианства и буддизма (ведь Христос «был светом и превратился в Слово» [Коробов, 2001, с. 76], а в ритуале «света превращений» участвовали два буддиста), он лишь указывал на то, что жертва – это не единичное деяние, а постоянное: жертва нужна Земле каждые три месяца, – и поэтому настоящая принадлежность к религии требует если не участия, то благодарности к тем, кто совершает жертву.
Финал этого эссе завершается сомнением двух интеллектуалов-маловеров, подводящих итог увиденному/прочитанному. Иеремия Бартоломью Стейн не знает, им был открыт «смысл существования или все случившееся только плод <…> больного воображения» [Коробов, 2001, с. 76]. А повествователь обрамляющей дневниковые записи Стейна истории сомневается, не неизвестное ли науке плотоядное существо скрывается за шаром света, очищающим мир.
Выводы. В.Б. Коробов в содержащих литературные и религиоведческие мистификации, пародирующих научное исследование эссе «Дальневосточные экспедиции князя Э.Э. Ухтомского и тантрийские мистерии ni-kha-yung-sle’i man-su-ro-bha. (Из истории семиотических культов)» и «Краткие сведения о культе “света превращений”» из цикла «Неизвестные и малоизученные культы», а также в не входящем в цикл, но отчасти схожем с двумя другими произведениями эссе-статье «Маргинальные заметки о Праджняпарамите» затрагивает проблемы, касающиеся разрабатываемых в том числе в буддизме философских проблем. В первом эссе он размышляет о том, как язык может формировать и изменять реальность, во втором – о подлинной идее жертвы. Эссе-статья «Маргинальные заметки о Праджняпарамите» посвящено сутрам Праджня Парамиты, которые фиксируют проблему трудности освобождения – выхода за пределы омраченного сознания при помощи этого же сознания. При этом на фоне буддийской реальности Коробов изображает сознание современного человека-интеллектуала, неспособного к жертве, к изменению мира в лучшую сторону, к освобождению, а способного лишь наблюдать за чужими великими деяниями.