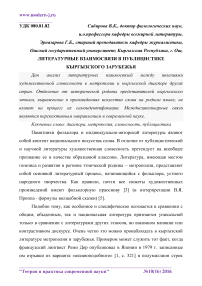Литературные взаимосвязи в публицистике кыргызского зарубежья
Автор: Сабирова В.К., Эрназарова Г.Б.
Журнал: Теория и практика современной науки @modern-j
Рубрика: Основной раздел
Статья в выпуске: 10 (16), 2016 года.
Бесплатный доступ
Дан анализ литературных взаимосвязей между явлениями художественной словесности в метрополии и кыргызской диаспоре других стран. Отделение от исторической родины представителей кыргызского этноса, выраженное в произведениях искусства слова на родном языке, не влияет на процесс их самоидентификации. Междисциплинарные связи являются перспективным направлением в современной науке.
Диаспора, метрополия, словесность, публицистика
Короткий адрес: https://sciup.org/140267342
IDR: 140267342
Текст научной статьи Литературные взаимосвязи в публицистике кыргызского зарубежья
Памятники фольклора и индивидуально-авторской литературы являют собой контент национального искусства слова. В отличие от публицистической и научной литературы художественная словесность претендует на всеобщее признание ее в качестве образцовой классики. Литература, имеющая местом генезиса и развития в регионе этнической родины – метрополии, представляет собой основной литературный процесс, начинающийся с фольклора, устного народного творчества. Как правило, почти все сюжеты художественных произведений имеют фольклорную праоснову [3] (в интерпретации В.Я. Проппа - формулы волшебной сказки) [5].
Подобно тому, как особенное и специфическое осознается в сравнении с общим, обыденным, так и национальная литература признается уникальной только в сравнении с литературами других этносов, во взаимном влиянии или контрастивном дискурсе. Очень четко это можно пронаблюдать в кыргызской литературе метрополии и зарубежья. Примером может служить тот факт, когда французский лингвист Реми Дор опубликовал в Японии в 1979 г. записанные им отрывки из варианта «океаноподобного» [1, с. 321] в полумиллион строк народного эпоса «Манас», бытовавшего в Сарыколе (высокогорная равнина Памира, граничащая с Афганистаном и Пакистаном). Кроме лингвистических тонкостей местного кыргызского диалекта, вызывают удивление и некоторые сцены из широко известных сюжетных линий эпоса, не имеющихся в вариантах знаменитых сказителей метрополии - Саякбая Каралаева и Сагымбая Орозбакова и других менее известных сказителей эпоса.
Для эмигрантов из России после коллапса социалистической системы отношения диаспора/метрополия изменяют свое прежнее значение; актуальными становятся отношения меньшинства / большинства, при этом затрагиваются и вопросы национальной идентичности авторов. Мы находим две модели отношений и две модели процесса: включение в культуру страны проживания и включение в метропольную культуру на правах меньшинственной литературы. Возможен вариант решения проблемы отношений диаспора / метрополия путем создания концепции национальной идентичности, а оппозиция диаспора/метрополия не является релевантной [4].
В историографии кыргызской литературы все намного сложнее, из-за пресловутой «младописьменности». Не будем развивать тезисы о спорных моментах орхоно-енисейского узелкового письма и начертанных с его помощью эпитафиях и прочих письменах в горах Алтая, на равнинных возвышенностях российской Сибири. Достаточно сказать, что часть ученых считают их письменами, даже имели успехи в их расшифровке, в частности, это труды исследовательницы И. Стебловой. Отдельная группа ученых-филологов не считают наскальные изображения литературными памятниками.
Рассмотрим тезис о различиях литературы метрополии и диаспоры на примере тех же памирских кыргызов [6]. В июле 1978 г. сарыколские кыргызы племени тейит начинают переселяться из-за начавшегося советско-афганского военного конфликта в Пакистан, и далее - в Турцию под предводительством Рахманкул-хана в 1979 г. О горестном покидании привычных мест, пережитых ими страданиях, тяжелых людских и материальных потерях сочинили свои песни Малек Рахман «Асли ватан» (Эсил кайран Мекеним, т.е. «Драгоценная оставленная Родина») и Кылыч Табалды «Көч жөнүндө» («О перекочевке»).
Табалды описал панику и горечь при вынужденном бегстве земляков:
|
Ишанба (иусанда) күнү кечеси, |
Вечером субботнего дня |
|
Качышка элдер шых болду ай. |
Людей вынудили бежать. |
|
Анашул гапти укканда, Ичиме дардим жык толду ай. |
Я как услышал эту речь, Весь печали полон стал (перев. - авт.). |
Широкие земли Ак Суу оставлены, везде неразбериха, беспорядки на дорогах, плач и страдания сопровождают памирцев в поисках крова и покоя. Это выражается и личностном отношении у автора строк:
|
Отузга жашим кире элек, Ойлобой пикир көп кылып |
Мне нет пока тридцати лет, Не думаем, но много мнений. |
|
Ак кирип кетти башыма, |
Голова моя стала уже седой, |
|
Нохсан го урдум жашыма. |
Но я и не сожалею об этом. |
Плач, страдания, неуверенность в завтрашнем дне, страх и лишения кыргызов выражены в следующих сравнениях и метафорах:
|
Санабай жерге туш болдук, |
Мы прошли бесчисленные земли, |
|
Канаты сынган куш болдук , |
И как птицы с подбитым крылом, |
|
Чөлүстан жерге туш болдук, Бөдөнө деген куш болдук. |
На пустынные земли прибыли, Словно как птицы перепелки. |
Не менее эмоциональны строки песни «Асли ватан», сочиненной Малик
Рахманом в записи К. Ботоярова и Л. Строилова, переведшего записи Р. Дора:
|
Жаны бир өскөн гүл элем, |
Я был словно ранний цветок, |
|
Ватанимда бир заман, Ойноп бир жүргөн бала эдем, |
На родине в славное время, Я мальчишка шустрый был, |
|
От-төрдү аралап, |
Среди трав и дров пропадал, |
|
Көпөлөк кууган мен эдем. |
И бабочек повсюду гонял. |
Автор вспоминает, что на родной земле все было хорошо: сытная жизнь, бесчисленные стада, благодатная природа, радость и веселье, красота и добро.
Пришло испытание Всевышнего – и кыргызы покинули Памир, переселились в Гилгит, где на них смотрят настороженно, голод и болезни косят народ. Картины этой обездоленной жизни напоминают Апокалипсис:
|
Аксакалдар урматы |
К аксакалам уваженье |
|
Калбаганын хаттайын, |
Не осталось – напишу, |
|
Ата-эне сөздүрүн |
Никто слова родителей |
|
Албаганын хаттайын. |
Не слушает – напишу. |
Где все лучшее осталось – вопрошает автор и отвечает сам – это воля Аллаха, испытание дано свыше, и нельзя к нему не прислушаться. В целом оба произведения полны эмоциональных страданий, горькой ностальгии по оставленной родине как непременное условие жизни диаспоры.
Так, на примере обеих этих песен можно убедиться в том, что они являются типичными текстами, свидетельствующими о достаточно непростой эпохе в жизни кыргызов как метрополии, так и зарубежья.
Разные эпохи изменяли природную структуру, источники идей и условия существования жанра басни, являющейся одним из основных среди дидактиконазидательных видов искусства слова. В системе художественной литературы басенный и поэтические жанры играют важную роль, поскольку несут в себе заряд эстетико-этических и воспитательно-развивающих идей.
Существование богатого фольклорного наследия, историко-религиозных источников, древней и средневековой восточной литературы (Дж.Руми, Саади, Низами, Хафиз, Ибн Сина, Аль Фараби, Джами, Фирдоуси, О. Хайам и др.) создавало благоприятную почву для развития разных жанров в народном творчестве, когда из поколения в поколение изустно передавались идеи назидания, поучения и воспитания молодежи.
Вследствие отсутствия письменности у кыргызов среди широких народных масс многие оригинальные тексты безымянных талантливых авторов канули в лету. Поэтому до сих пор в кыргызском литературоведении не исследованы национальное своеобразие жанров, историческая эволюция и теория кыргызского фольклора и акынской поэзии, формирование и специфика авторского творчества и взаимного проникновения в мировой литературе. Специфика устной и письменной литературы кыргызов, этическая, эстетическая кыргызская культура словесности все еще не полностью изучены в обобщающей форме. Эти пробелы кыргызское литературоведение пытается реализовывать [2]. Особо импонирует стремление авторов научных рукописей обратиться к философским, эстетическим, социологическим, педагогическим, культурологическим, психологическим, этнографическим, историческим находкам. Это улучшает общий дискурс кыргызского литературоведения [7].
Интересно отметить, что труды прежде мало упоминаемых имен К. Мифтахова, Т. Байджиева, Т. Саманчина и др. – также берутся на вооружение современным исследовательским вниманием. Особенно интересно идеи ученых национальных школ литературоведения СНГ и мира (дагестанца А. Абдурахманова, мордвинки Л. Канаевой, казахов Т. Кожакеева, А. Мусаева, азербайджанки Ф. Керимовой, каракалпачки О. Утениязовой, турчанки Е. Маштаковой, туркменов Э.Ашировой, К.Салиханова и ряда ученых Кыргызстана – К. Асаналиева, Х. Бапаева, М. Рудова и мн.др.).
Таким образом, после обретения независимости Кыргызстаном свобода в духовной и общекультурной жизни, пересмотр художественных идей прошлых эпох, в созвучии с новым мышлением требуют обзора эволюции жанров фольклора и пересмотра историко-генетических, идейно-художественных аспектов индивидуального авторства в кыргызской литературе и науке о ней.
Список литературы Литературные взаимосвязи в публицистике кыргызского зарубежья
- Айтматов Ч. В соавторстве с землею и водою. - Фрунзе, 1978. - 406 с.
- История кыргызской литературы. В 7 т. На кырг.языке. - Бишкек, 2002.
- Леви-Строс К. Структура и форма // Зарубежные исследования по семиотике фольклора. - М., 1985.
- Попова М.К. Национальная идентичность и ее отражение в художественном сознании. - М., 2008.
- Пропп В.Я. Поэтика фольклора. - М.: Высшая школа, 1998.
- Sabirova V.K., Ernazarova G.B., Kambarova A.K. Specificity of journalism as art expression in the Pamir kirghiz. // Наука и общество. 2013. № 3. С. 63-70.
- Сабирова В.К. Малоизученные сведения о гонимых кыргызских акынах. // Вестник КРСУ. 2014. Т. 14. № 9. С. 187-189.