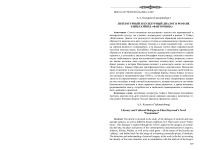Литературный и культурный диалог в романе Элизы Хэйвуд «Фантомина»
Автор: Косарева Анна Александровна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Зарубежные литературы
Статья в выпуске: 4 (63), 2022 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена исследованию диалога как карнавальной и маскарадной культур, так и разных литературных традиций в романе Э. Хэйвуд «Фантомина». Диалог этот реализуется посредством обращения писательницы к образности комедии дель арте, пьесам и стихам ее современников и предшественников (Конгриву, Джонсону, Ширли, Уоллеру), а также языковой игре - все имена героини являются «говорящими», и за каждым таится образ очаровательной плутовки комедии масок, Коломбины. Обнаружение и понимание карнавальной образности в произведении является ключом к раскрытию идентичности главной героини и, в сочетании с анализом биографии писательницы, позволяет ответить на ряд «наболевших» среди исследователей творчества Хэйвуд вопросов, а именно: каково истинное лицо героини; насколько соответствует логике характера финал романа, в котором Фантомина попадает в монастырь; можно ли считать «Фантомину» первым образцом протофеминистского произведения. Выявление присутствующих в тексте романа аллюзий дает простор для новых прочтений сюжета: история главной героини - это и метафора борьбы Элизы Хэйвуд за место под солнцем в литературном мире XVIII в., и участие писательницы в глобальном диспуте её современников о дурном влиянии тех или иных литературных жанров на умы молодёжи, и миф о вечной женственности, которая находится в состоянии бесконечного изменения и сама управляет своим развитием, и драма женщины, разрывающейся между потребностью в свободном самовыражении и желанием быть любимой и принятой.
Английская литература, хэйвуд, фантомина, коломбина, арлекин, комедия дель арте, комедия масок, карнавал, маскарад, пантомима, театр, роман, конгрив, ширли, уоллер, джонсон, феминизм, диалог
Короткий адрес: https://sciup.org/149141356
IDR: 149141356 | DOI: 10.54770/20729316-2022-4-307
Текст научной статьи Литературный и культурный диалог в романе Элизы Хэйвуд «Фантомина»
Для многих исследователей литературы XVIII в. «Фантомина» Элизы Хэйвуд до сих пор остается источником вопросов, ответы на которые найти непросто. Первый: кто такая Фантомина? Какова ее истинная сущность? Одни полагают, что героиня максимально раскрывается в роли «Инкогни-ты»; по мнению других, ее личность априори непознаваема: «Вопрос о ее подлинной идентичности в определенном смысле неразрешим. Ни Бопле-зир, ни читатель никогда не узнают ее настоящего имени, и, подобно Фан-томине, Селии, вдове Блумер и “Инкогните”, ее якобы “истинное” лицо, величавая придворная дама, не более чем очередное представление» [Anderson 2004, 4]. Второй вопрос: можно ли рассматривать игру, затеянную Фантоминой, как символическую победу над противоположным полом? Значительная часть исследований «Фантомины» посвящена интерпретации романа с позиций феминистской критики. Является ли это произведение одной из первых работ, посвященных женской силе? Или Хэйвуд, напротив, создала историю о женской уязвимости и зависимости? Третий вопрос: какова судьба Фантомины? Действительно ли ее отправят в монастырь? Чтобы найти ответы, обратимся к историко-культурному контексту создания романа и биографии Хэйвуд.
Элиза Хэйвуд окрестила «Фантомину» романом-маскарадом, а это значит, что он является частью целого корпуса литературных текстов XVIII в., в которых маскарад был неотъемлемой частью повествования. Маскарад был островком вседозволенности [Castle 1986, viii], а маскарадные фантазии - формой эскапизма, попыткой вернуться к естественной чувственности, не разрушая существующий социальный порядок. «Фантомина» - одна из таких фантазий: мечта о будущем, где женщина перестанет быть пассивной участницей романтических отношений и станет контролировать происходящее в той же степени, что и мужчина, ведь маскарад - пространство не только потенциально опасное, но и открывающее новые возможности. С точки зрения читательского восприятия,
маскарад - поле взаимодействия различных исторических и культурных контекстов: читая «Фантомину», современники Хэйвуд не могли не вспомнить не только хорошо знакомые им английские маскарады, но и не столь отдаленные от них по времени итальянские карнавалы. Следует отметить, что неизменным спутником карнавалов и маскарадов начала XVIII в. была комедия дель арте, комедия масок, традиции которой обогатили как родной итальянский площадной театр (в рамках которого она и зародилась), так и театр английский. Труппы итальянских комедиантов регулярно выступали в Англии с конца XVI в., и к моменту, когда была создана «Фантомина» (1725), не только повлияли на творчество ведущих английских драматургов («дельартовскими» традициями пронизаны пьесы Уильма Шекспира, Бена Джонсона, Джорджа Чэпмена, Джона Марстона, Томаса Миддлтона и других), но и способствовали зарождению новых видов театрального представления - кукольного театра «Панч и Джуди» и пантомимы с участием Арлекина, Коломбины, Панталоне, Пьеро и прочих. Беспрецедентная популярность эстетики комедии дель арте в Англии объяснялась восторгом англичан перед яркими, остроумными и ниспровергающими любые социальные нормы персонажами и привела к тому, что «дельартовские» маски и костюмы стали пользоваться среди завсегдатаев английских маскарадов XVIII в. бешеным спросом.
Воскрешение карнавальных отголосков в романе «Фантомина» реализуется как раз посредством обращения Хэйвуд к эстетике комедии дель арте. Характерные для комедии шутливый тон, беззаботность и счастливый финал контрастировали с современной Хэйвуд действительностью, усиливая драматизм в истории героини. Первое карнавальное эхо, о котором следует упомянуть, - это, по сути, ответ на вопрос критиков об идентичности героини. В романе мы видим пять ее «масок»: куртизанка; Фантомина - «дочь сельского дворянина» [Haywood 2022, 50]; служанка Селия; вдова Блумер; аристократка Инкогнита. Образ Фантомины, очевидно, был вдохновлен Коломбиной: само имя «Фантомина», по сути, представляет собой синтез двух слов: «фантеска» («служанка», «статус» Коломбины в комедии дель арте) - «хитрая и недобрая деревенская девушка», готовая за деньги отдаться кому угодно», и «Коломбина» - «голубка», милое создание. В многочисленных сценариях комедии дель арте Коломбина носила разные имена, включая такие, как Диамантина, Франческина, Эмеральдина, Кораллина и Смеральдина, поэтому созданное Хэйвуд имя «Фантомина» звучит как вполне «дельартовское». Однако возникает вопрос: почему образ аристократки, каковой является главная героиня, на уровне имени был соотнесен автором с образом комедийной служанки? Единственное возможное объяснение кроется в особенностях взаимоотношений героини с ее неверным возлюбленным. Пытаясь раз за разом завоевать сердце Боплезира, Фантомина неизменно оказывается в рабской эмоциональной зависимости от него - так же, как и ее прототип, Коломбина: «Арлекин всегда был, есть и будет любовником или мужем Коломбины. Однако Арлекин не настроен на верность... он ухаживает за другими женщинами и доходит до того, что приводит одну из своих любовниц в их с Коломбиной дом, притворяясь холостяком» [Sand 1915, 171]. Желая одновременно и отомстить, и вернуть возлюбленного, Коломбина примеряет на себя разные роли и маски [Sand 1915, 172]: прикидывается испанкой, француженкой, мавританкой, привидением, картиной, врачом, юристом. «Порхая от сюжета к сюжету, от уловки к уловке, от маскировки к маскировке» Коломбина «слой за слоем создает образ обманщицы, беспрецедентный для женского персонажа» [Radulescu 2014, 90]. Каждый раз, меняя роль, она восклицает: «Вероломный предатель, раз я не могу быть в твоем сердце, я буду у тебя перед глазами!» [Sand 1915, 172]. В итоге Арлекин, «утомленный непрекращающимся преследованием», женится на ней [Sand 1915, 173]. Фантомина проделывает тот же трюк: вновь и вновь исполняет различные роли в надежде, что, в конце концов, любовник женится на ней. Однако, даже столкнувшись с фактом своего нежданного отцовства, Боплезир не только не выражает никакого желания стать мужем Фантомины, но и оставляет ее. Здесь заявляет о себе драматическое пересечение итальянской карнавальной фантазии с «маскарадностью» английского общества XVIII в. - женщина той эпохи была, образно говоря, актрисой: играла роли, соответствующие ее положению, и пыталась достичь своих целей, оправдывая ожидания других людей. Она не могла себе позволить свободы самовыражения, и любые ее попытки выйти из предписанной социумом роли угрожали ее репутации и выживанию.
Образ Коломбины, вероятно, пленял Хэйвуд не только игривостью и авантюрностью, но и тем, что дерзкая фантеска стала первой в истории мировой литературы героиней, которая открыто защищала женщин и высмеивала мужское самодовольство. Тот факт, что образ был создан умной и талантливой женщиной, актрисой Катериной Бьянколелли, усиливал его идейный заряд. Домника Радулеску называет Коломбину борцом с существующим патриархальным порядком: она «в равной степени дестабилизирует и высмеивает фаллическую самоуверенность» [Radulescu 2014, 103] и «смешивает театр и сексуальные отношения, превращая при этом собственное бегство от нежелательного брака в миссию - месть мужчинам за оскорбления, нанесенные женщинам» [Radulescu 2014, 100]. Фантомина тоже своего рода протофеминистка: Кэтрин Крафт-Фэрчайлд отмечает, что она «представляет большую угрозу патриархальному устройству, чем, возможно, любой другой маскарадный текст начала восемнадцатого века» [Craft-Fairchild 2010, 65]. Смелость героини в самовыражении и «презрение к мужчинам», о котором говорится в самом начале романа («она не могла не презирать мужчин, которые.. .проводили свое время таким образом») [Haywood 2022, 43] подчеркивает ее генетическое родство с Коломбиной. Радулеску отмечает: «В финале сцены с Изабеллой в “Les Souhaits”, сцены, прямо названной “Против мужчин”, Коломбина произносит грубую фразу, достойную некоторых современных феминисток, таких как Карен Финли: “Я бегу прополоскать рот, так как достаточно долго говорила о мужчинах” [Radulescu 2014, 90].

Коломбина не могла не очаровать Хэйвуд и тем, что была не только «центром вращающегося колеса» в любом сюжете [Rudlin 2002, 130], но и режиссером своей пьесы: «была не только исполнителем, но и создателем, и режиссером своего спектакля, благодаря которому обрели голос обманутые женщины, униженные актрисы, недовольные жены и угнетенные дочери» [Radulescu 2014, 103]. Такова и Фантомина: она не только персонаж, но и автор. В некотором смысле здесь Хэйвуд, которая была актрисой и драматургом, наделила героиню собственными чертами: актерским мастерством и креативностью. Роман Хэйвуд во многом о праве женщин самостоятельно выбирать свой путь и управлять своей жизнью так же, как писатель управляет сюжетом своих произведений.
Читатель вправе усмотреть определенное внутреннее противоречие в характерах и поведении Коломбины и Фантомины: почему, презирая мужчин, обе героини все же стремятся к замужеству? Радулеску отмечает, что Коломбина «не всегда может бросать вызов патриархальным структурам напрямую, особенно потому, что чаще финалом комедии, как правило, становится замужество Изабеллы, самой Коломбины или их обеих» [Radulescu 2014, 91]. Это противоречие в полной мере раскрывается в финале «Фантомины»: несмотря на стремление героини уравняться в правах с мужчиной в области сексуальности, она создана для любви и материнства, и природа неизменно побеждает в битве с идеями. «Родство» Фантомины и Коломбины не только разворачивает перед нами новую палитру смыслов, необходимых для понимания романа, но и запускает тонкую языковую игру, призванную привнести в роман ироническое звучание. В Англии XVIII в. существительное «коломбина» могло обозначать проститутку. Актрисы, игравшие Коломбин в английских пантомимах, зарабатывали так мало, что им приходилось продавать свои тела, чтобы выжить. Напомним, что проститутка - первая маска, которую примеряет на себя героиня Хэйвуд. «Проституция» здесь также является намеком на нелицеприятное мнение мужчин-писателей к женщинам-литераторам: «Хэйвуд была исключительно плодовитой, известной и пользующейся спросом писательницей во времена, когда женское авторство считалось литературным эквивалентом проституции» [Case Croskery, Patchias 2022, 11]. Подобно тому, как Фантомина изо всех сил старается влюбить в себя Боплезира, Хэйвуд стремится очаровать «мужской» мир литературы, представая перед читателями в разных «образах»: драматург, автор любовных романов, автор писем, мемуаров и стихов. Автор, подобно ее героине, не раскрывала своего истинного лица, не рассказывала о себе и своей личной жизни: «по словам Дэвида Эрскина Бейкера, в 1764 году Хэйвуд сделала всё, чтобы подробности ее личной жизни не были опубликованы [Case Croskery, Patchias 2022, 13], и влечение Фантомины к ненадежному любовнику можно рассматривать как метафору взаимоотношений писательницы с современным ей литературным миром, где доминировали мужчины. За увлечение жанром романа мужчины-писатели прозвали Хэйвуд «миссис Роман» («Mrs. Novel»), но «novel» в английском это также и прилагатель- ное - «новый». Создательнице «Фантомины» и вправду приходилось постоянно придумывать новые способы произвести впечатление на своих читателей и коллег по цеху, чтобы получить литературное признание.
Примечательно, что и во второй своей роли (служанки по имени Селия, соглашающейся на связь с хозяином за деньги), героиня актуализирует мотив проституции. Здесь Хэйвуд остается верной внутренней логике образа своего персонажа: во многих сценариях комедии дель арте Селия является версией Коломбины. Например, в «Вольпоне» Бена Джонсона (1606 г.) Корвино сравнивает себя с Панталоне, а свою жену Селию с Франческиной, то есть Коломбиной. Более того, имя «Селия» появляется в стихотворении «Другу» Эдмунда Уоллера, которое Хэйвуд использовала в качестве эпиграфа к «Фантомине»: «У меня иная судьба, и напрасно я преследовал / Надменную Селию. Однажды моё справедливое презрение / К её холодности побороло мою страсть, / И гордость моя встала против её гордости, и моё презрение противостояло её презрению» [Waller 1730, 100]. Селия Уоллера - роковая женщина, отвергающая своего поклонника, а Фантомина, несмотря на все свои усилия стать роковой женщиной, раз за разом терпит фиаско. Диалог Хэйвуд с Уоллером - размышление писательницы о том, что, несмотря на расхожее в патриархальном обществе мнение о том, что красивая женщина имеет над мужчиной демоническую власть, в реальности соотношение сил прямо противоположное. «Селия» в глазах поэта-мужчины - манипулятивная и капризная, а в глазах женщины - нуждающаяся и зависимая от мужских прихотей.
Следующие роли героини, вдова Блумер и аристократка Инкогнита, отказываются от идеи служения, но продолжают разжигать в Боплезире охотничьи инстинкты. Проститутка и служанка - легкие мишени для ловеласа, в то время как богатая вдова и знатная дама - трофеи. Имя вдовы Блумер, как и два предыдущих «псевдонима» Фантомины, «говорящее»: «Ыоотег» в переводе с английского означает не только цветущее растение, но и юную девушку. Здесь Хэйвуд протягивает нить между первыми двумя ролями героини и ее новой третьей маской, ведь «columbine» в английском это не только обозначение куртизанки, но и название широко распространенного в Британии красивого бело-голубого цветка, аквилегии. Таким образом, героиня Хэйвуд - и актриса легкого поведения, и прекрасный цветок.
Четвертая маска героини, Инкогнита, запускает диалог как с итальянской карнавальной традицией, так и с предшествующей литературной традицией, а именно английским классицизмом. Героиня Хэйвуд предположительно начитанная девушка, поскольку выбранное ею имя, Инкогнита, - персонаж комического романа «Инкогнита: или Примирение любви и долга», написанного Уильямом Конгривом под псевдонимом «Клеофил» в 1692 г. Действие разворачивается во Флоренции эпохи Возрождения во время карнавала, и главные действующие лица - влюбленные: Аврелиан и Джулиана, Ипполит и Леонора. Сам сюжет напоминает типичный сценарий комедии дель арте: влюбленным приходится идти на всевозможные

ухищрения, чтобы быть вместе, поскольку их пожилые опекуны против их брака. Персонаж, который, очевидно, вдохновил Фантомину, - это Джулиана, которая при знакомстве с будущим мужем называет себя «Инког-нитой». Роман заканчивается свадьбой влюбленных и разрешением всех забавных недоразумений. Героиня Хэйвуд, находясь под впечатлением от этой сказочной истории, могла надеяться, что Боплезир, подобно Аврелиану, тоже в итоге женится на ней. Не менее вероятно, что такое же влияние могла иметь на нее и пьеса о Коломбине, пытающейся вернуть Арлекина с помощью бесконечных маскарадных переодеваний. В этом смысле «Фантомина», в частности, роман о том, как художественная литература может подталкивать читателей к неосмотрительным поступкам и, как следствие, превращать их реальную жизнь в хаос.
Диалог с Конгривом, «английским Мольером» - не случайность, ведь Конгрив последовательно высмеивал фальшь и лицемерие английского общества. «Фантомина» могла бы стать отличной пьесой, и, возможно, по своему замыслу ею и является: действие романа начинается в театре, но мы так и не узнаем, на какой спектакль пришла героиня Хэйвуд, когда ей пришла в голову идея сыграть роль куртизанки. Что, если в спектакле, о котором идет речь, Фантомина не зритель, а актриса? Произведения Хэйвуд всегда были глубоко театральны, и она «привнесла в свои более поздние прозаические произведения театральный колорит и множество сценических приемов» [Elwood 1964, 112-113]. В частности, все композиционные элементы «Фантомины» служат идее театральности, которую усиливает в том числе название романа: «Фантомина, или Любовь в лабиринте, тайная история любви двух состоятельных людей». Лабиринт всегда был популярной метафорой английской пантомимы: Де Куинси сравнил английскую пантомиму с «лабиринтом инверсий, эволюций и ар-лекинадных метаморфоз» [Nuss 2012, 15], а поэт К.К. Рис в своем стихотворении «На пантомиме» (1887 г.) восклицал: «Мы заблудились в твоем лабиринте, Пантомима!» [Rhys 1887, 250], а ГК. Честертон в своей книге «Воскрешение Рима» назвал английскую пантомиму «лабиринтом английской клоунады» [Chesterton 2022, 296]. Следует также отметить, что название романа Хэйвуд перекликается с названием пьесы Джеймса Ширли «Перемены, или Любовь в лабиринте» (1639), которая получила второе рождение и стала весьма популярной в период Реставрации. Главный герой, благородный юноша по имени Жерар, не может сделать выбор между двумя прекрасными сестрами (Хризолиной и Аурелией) в той же мере, в какой Боплезир не может выбрать между разными масками Фантомины. Более того, в некоторых английских пантомимах использовалась декорация «Лабиринт иллюзии», а пантомима как жанр «всегда играла с идеей иллюзии» [Nuss 2012, 22]. Справедливо предположить, что Фантомина была задумана Хэйвуд как Коломбина, заблудшая в лабиринте иллюзий -в пространстве пантомимы, где она играла главную роль. В конце концов, надежда героини на то, что Боплезир изменится и станет верным, - такая же иллюзия, как и то, что быть ради мужчины все время разной - рецепт взаимной любви. Взаимопроникновение жизни и театра в романе Хэйвуд раскрывается и на уровне внутренней динамики героини. Фантомина талантлива лишь до тех пор, пока не оказывается в объятиях Боплезира: «Ее опыт показывает и ей, и читателю, каким образом импульсивное поведение женщины может свести на нет всю ее игру» [Anderson 2004, 4]. Хэйвуд акцентирует внимание читателя на том, что в контексте романтических отношений действуют театральные законы. Любовь нельзя хорошо сыграть, если актер опьянен настоящей страстью: актерское мастерство требует дистанции между исполнителем роли и образом, который он играет. Из сказанного следует, что все аллюзии в «Фантомине» на символическом уровне сводятся к сюжету о Коломбине, которая настолько влюблена в Арлекина, что оказывается неспособна найти выход из лабиринта театрального представления, в котором блуждает. Дитя карнавальной культуры (несущей свободу и радость), попадая в пространство маскарада (опасного и лицемерного), она теряется и совершает ошибки, которые приводят ее к поражению. Тонкие аллюзии Хэйвуд на Конгрива, Джеймса Ширли, комедию дель арте и английскую пантомиму выстраивают диалог между театром прошлого и настоящего, и тем самым усиливают вневременной характер сформулированных писательницей проблем. Кроме того, отсылки к комедиям свидетельствуют о том, что Хэйвуд хотела подчеркнуть комичность решений, которые подчас принимают влюбленные.
Почему в заглавии романа - имя «Фантомина», а не «Селия», «Блумер», или «Инкогнита»? Звучание слова «фантомина» вызывает ассоциации не только с карнавальными «фантеской» и «коломбиной», но и с «фантомом»: согласно Оксфордскому словарю английского языка оно означает «иллюзию, нереальность; суету; призрак; напрасное воображение; заблуждение, обман, фальшь». Имя «Фантомина» указывает на то, что персонаж Хэйвуд - воплощение неуловимой красоты, нечто, порожденное воображением. Фантомина, затерявшаяся в лабиринте иллюзий, сама является иллюзией. Она продукт английской пантомимы, авторских проекций и мужского воображения. Игривость, непостоянство и чувственность героини превращают ее в сексуальную фантазию, которая для каждого читателя будет разной. Именно поэтому мы ничего не знаем о внешности Фантомины - ее росте, телосложении, цвете волос и глаз. Таким образом, здесь Хэйвуд вновь обращается к языковой игре, закладывая в имя героини все смысловые оттенки ее сущности. Языковая игра заявляет о себе и в финале романа, когда мы узнаем, что мать Фантомины планирует отправить дочь в монастырь. «Columbines» - цветы, традиционно украшавшие территории британских монастырей в семнадцатом и восемнадцатом веках, а значит, Коломбина-Фантомина с большой вероятностью действительно станет украшением монастырского сада. Не совсем ясно, насколько печальная участь ждет героиню в этом монастыре, но, учитывая «маска-радность» романа, можно предположить, что даже в костюме монахини Фантомина найдет возможность наслаждаться жизнью: «Даже изгнание в монастырь сулит героине дальнейшие приключения, поскольку Хэйвуд с удовольствием спасала своих героинь из монашеского заточения. Героиня умеет носить маскарадные костюмы, да и на английских маскарадах костюм монахини пользовался спросом. <.. .> Для Хэйвуд, как и для Афры Бен, монастыри часто становятся нетривиальным местом действия для дальнейших любовных приключений» [Case Croskery 2014, 91].
Понимание генезиса образа Фантомины является решающим для понимания всего текста романа. «Родство» с Коломбиной - это и ключ к диалогу культур (итальянской и английской, карнавальной и маскарадной), и ответ на вопрос о мотивах героини и ее дальнейшей судьбе. Разные име на героини также являются частью диалога между литературными и театральными традициями прошлого и настоящего. Борьбу Фантомины за любовь Боплезира можно рассматривать как метафору борьбы самой Элизы Хэйвуд за признание в литературных кругах, где доминируют мужчины, тогда как иллюзии Фантомины можно интерпретировать как часть глобального спора XVIII в. о пагубном влиянии определенных литературных жанров на молодых читателей. Фантомина - в равной степени и женщина XVIII в., разрывающаяся между жаждой свободы и потребностью принадлежать мужчине, и вечно меняющийся образ вечной женственности - карнавальный символ творчества, который неявно правит мужским миром.
Список литературы Литературный и культурный диалог в романе Элизы Хэйвуд «Фантомина»
- Anderson E.H. Staging the passions: Female self-expression in eighteenth-century narrative and performance: PhD Thesis. New Haven: Yale University Publishing, 2004. 261 p.
- Case Croskery M. Masquing Desire: The Politics of Passion in Eliza Haywoods’s Fantomina // The Passionate Fictions of Eliza Haywood: Essays on her life and work / edited by K.T. Saxton, R.P. Bocchicchio. Lexington: University Press of Kentucky, 2014. P. 69–94.
- Case Croskery M., Patchias A.C. Introduction to Fantomina and other works. URL: https://archive.org/details/fantominaotherwo0000hayw (дата обращения: 15.01.2022).
- Castle T. Masquerade and Civilization. Stanford: Stanford University Press, 1986. 395 p.
- Chesterton G.K. The Resurrection of Rome. URL: https://archive.org/details/in-.ernet.dli.2015.527578/page/n297/mode/2up?q=maze (дата обращения: 15.01.2022).
- Craft-Fairchild C. Masquerade and Gender: Disguise and Female Identity in Eighteenth-Century Fictions by Women. State College: The Pennsylvania State University Press, 2010. 204 p.
- Elwood J.R. The Stage Career of Eliza Haywood // Theatre Survey. 1964. Vol. 5. No. 2. P. 107–116.
- Haywood E. Fantomina and other works. URL: https://archive.org/details/fantominaotherwo0000hayw (дата обращения: 15.01.2022).
- Nuss M. Distance, Theater, and the Public Voice, 1750–1850. New York: Springer, 2012. 197 p.
- Radulescu D. Women’s Comedic Art as Social Revolution: Five Performers and the Lessons of Their Subversive Humor. Jefferson: McFarland, 2014. 267 p.
- Rhys C.C. Minora Carmina: Trivial Verses. London: Swan Sonnenschein, Lowrey, 1887. 319 p.
- Rudlin J. Commedia Dell’Arte: An Actor’s Handbook. London; New York: Routledge, 2002. 296 p.
- Sand M. The History of Harlequinade. London: Ripol Classic, 1915. 311 p.
- Waller E. The Works of Edmund Waller, Esq. in verse and prose. London: J. Tonson, 1730. 295 p.