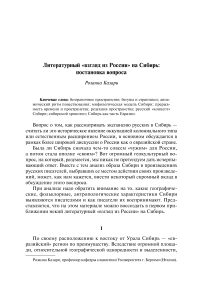Литературный «взгляд из России» на Сибирь: постановка вопроса
Автор: Казари Розанна
Журнал: Вестник Евразии @eavest
Рубрика: Евразийство
Статья в выпуске: 1, 2006 года.
Бесплатный доступ
Безграничное пространство, бегуны и странники, динамический ритм повествования, мифологическая модель сибири, прерывность времени и пространства, редукция пространства, русский "концепт" сибири, сибирский хронотоп, сибирь как часть евразии
Короткий адрес: https://sciup.org/14911939
IDR: 14911939
Текст статьи Литературный «взгляд из России» на Сибирь: постановка вопроса
Вопрос о том, как рассматривать экспансию русских в Сибирь — считать ли это историческое явление оккупацией колониального типа или естественным расширением России, в основном обсуждается в рамках более широкой дискуссии о России как о евразийской стране.
Была ли Сибирь сначала чем-то совсем «чужим» для России, а потом стала вполне «своим»? Вот огромный геокультурный вопрос, на который, разумеется, мы никак не претендуем дать исчерпывающий ответ. Вместе с тем анализ образа Сибири в произведениях русских писателей, выбравших ее местом действия своих произведений, может, как нам кажется, внести некоторый скромный вклад в обсуждение этого воспроса.
При анализе надо обратить внимание на то, какие географические, фольклорные, антропологические характеристики Сибири выявляются писателями и как писатели их воспринимают. Представляется, что на этом материале можно воссоздать в первом приближении некий литературный «взгляд из России» на Сибирь.
I
По своему расположению к востоку от Урала Сибирь — «евразийский» регион по преимуществу. Вследствие огромной площади, относительной географической однородности и выделенности,
Розанна Казари, профессор кафедры славистики Университета г. Бергамо (Италия).
Сибирь является значительнейшей частью континента Евразии; в то же время конфигурация ее территории такова, что Сибирь можно считать продолжением Западной России в Азии.
Однако параллельно географическим реалиям существует тесно связанный с культурой русский «концепт» Сибири. Он складывается из совокупности произведений литературы и искусства, из рассказов очевидцев — тех, кто путешествовал по Сибири, исследовал страну. В основе концепта Сибири лежит, несомненно, ее необъятная горизонтальность, широтная протяженность, неустойчивость ее границ: как будто простор Западной России продолжается в Сибири, раздвигается в ней, не встречая преград. С этой точки зрения можно было бы утверждать, что Сибирь представляет собой «возведенную в энную степень» Россию.
Видение Сибири из России можно найти в русской литературе до того, как появились современные сибирские писатели (В. Распутин, В. Астафьев), в творчестве которых Сибирь раскрывается «изнутри».
Первое свойство Сибири, бросающееся в глаза в произведениях русских авторов, — это простор. Сибирский простор имеет у них свою мифопоэтическую потенциальность, порождает тип повествования, характеризуемый особым ритмом, особыми динамическими и движущими мотивами и структурами, как если бы по таким просторам можно было двигаться только беспрерывно, без остановки.
Это вовсе не означает, что мы имеем дело исключительно с литературой путешествий: в данном случае термин «путешествие» не совсем правильный, так как в Сибири одна из существенных фаз путешествия — приезд, завершение пути, его конечная точка — часто остается в тени. В сибирских путешествиях пункт назначения все время удаляется, не определен и туманен, вследствие чего движение часто воспринимается как замедленное и в любом случае не адекватное пространству. Иными словами, движение находит оправдание в самом себе, тогда как его конечный пункт утрачивает первичное значение цели, отходит на задний план.
Уже протопоп Аввакум во второй половине ХVII века рассказывает именно о таком движении по Сибири: приговоренного к ссылке в Сибирь увозили все дальше и дальше по ее дикой беспредельной территории. Поездка была настоящей пыткой 1. Проходят два с лишним века — и А. Чехов в записках «Из Сибири» утверждает: «Сибирский тракт — самая большая и, кажется, самая безобразная дорога во всем свете» 2.
Следует заметить, что в литературе о Сибири — в ее классических образцах — действие часто разворачивается именно на сибирском тракте, причем ритмы времени, движения и повествования оказываются на этой дороге неровными: фазы ускорения чередуются с фазами крайнего замедления, даже остановки. Эта неравномерность — свойство движения по пространству Сибири вообще.
Фактически, таким образом характеризуемому литературному времени и литературному движению соответствует видение пространства, имеющего аналогичные характеристики. Пространство переживается как чередование изображений бескрайней шири — и ее редукций. Оно может сводиться к линии, когда с необъятного горизонта взгляд переходит к дороге — к узкому коридору, идущему через всю Сибирь; а далее на дороге фокусируется место встречи героев, приключение, то есть пространство сжимается уже до одной только точки.
Роман Пастернака «Доктор Живаго» словно превознес эти свойства «сибирского пространства» в почти навязчивом повторении топоса «чрезвычайной встречи» на дороге на Восток. Роман можно считать показательным по отношению к движению этого типа — движению одновременно и непрерывному, и совершающемуся рывками (что предполагает если не полную остановку, то приближающееся к ней предельное замедление), и одновременно символизирующим собой такое движение. Это влияет и на протекание времени — не случайно Б. М. Гаспаров называет тип повествовательного времени в романе Пастернака «контрапунктным» 3.
Параметры изображения, свойственные у Пастернака литературному пространству Сибири, можно считать действительно применимыми к сибирскому пространству вообще, а потому и устойчиво повторяющимися в его описаниях. Пастернак тут не был первым. Уже в рассказе Н. Лескова «На краю света» 4, где события происходят примерно в 30-е годы XIX века и речь идет о богатой приключениями зимней поездке епископа Иркутска по незнакомой ему епархии, связь героя рассказа с территорией Сибири представляется еще раз длинным путешествием с непредвиденным исходом, где ритм передвижений задается случайностями, например метелью, и где быстрому линейному движению в начале пути, когда путешественник предается иллюзии, что легко сможет преодолеть пространство, противопоставляется остановка в предельно ограниченном, тесном месте (это яма в снегу, где укрывается герой), после чего... следует изображение безграничной тайги.
Можно сказать, что в литературе переживание сибирского пространства осуществляется через рассказ не о традиционном пути к конечной точке, а о движении наощупь, характерном для пришельцев при освоении ими незнакомой территории. Уверенными хозяевами территории чувствуют себя языческий вождь у Лескова, Дерзу Узала у В. Арсеньева 5. Ибо они — уроженцы этих мест, знают их тайны. Русский же приходит в Сибирь «извне»; потому приходится ему познавать ее территорию через трудный опыт. А еще у русского в Сибири сравнительно слабое чувство «конечного»: его движение не предусматривает окончательной остановки — словно что-то все время толкает его вперед, сменяется паузами в мизерных убежищах, кабаках, маленьких избах на берегах широких рек или среди болот. В Сибири длительная остановка для литературных русских героев (а часто и для исторических лиц) равнозначна трагическому опыту, в особенности опыту лагеря. Останавливаются пленные в лагерях, ссыльные в местах ссылки.
Сибирский простор «засасывает» человека, и потому для героев русской литературы в Сибири нет «дома» в традиционном смысле этого слова, означающем малое пространство интимности и стабильности жизни. Домом в русской литературе о Сибири может быть разве что палатка или жилье кочевника, которое легко собирается и разбирается, либо какое-то временное укрытие.
Мы определили пространство и время в Сибири как неровные и изменчивые. Но они обретают в литературе также несколько абстрактное мифологическое значение. Сибирь как мифологическое место в русской литературе исследовал Ю. Лотман. Комментируя типично русский романный сюжет, где герой, большой грешник, находит искупление вследствие внезапного духовного кризиса, Лотман утверждает, что именно в Сибири свершается путь героя: смерть — ад — воскрешение. Эта глубинная мифологическая модель обнаруживается в Чичикове и Раскольникове, в Мите Карамазове и князе Нехлюдове 6. И для нас очевидна связь между Сибирью, понимаемой как место не- укоренения и бесконечного ухода (то есть как место внутренних поисков), и Сибирью как мифологическим местом смерти и воскрешения. В Сибири на самом деле традиционно помещаются всякое Эльдорадо, всякий Эдем. Достаточно вспомнить легенду о Беловодье — счастливой земле, лежащей где-то далеко на Востоке.
II
Выше, пытаясь более полно определить, что представляет собой русский литературный «концепт» Сибири, мы выявили некоторые характерные черты, неразрывно связанные с представлением о сибирском пространстве: беспокойство, кинетизм, непрерывное передвижение, поиск чего-то духовно высокого. Их совокупным символическим выражением можно считать образ бегуна или странника .
Бегуны и странники — отдельная группа внутри исторического движения старообрядцев-беспоповцев. Группа эта формируется во второй половине ХVII века по инициативе инока Евфимия. Он проповедовал крайний отказ от всякого авторитета как проистекающего от царя, который считался Антихристом. По его проповеди, необходимо было непрерывно бежать от мира: от этого название «бегуны» для его последователей. Их бегство имело одновременно переносный смысл (они в духовном, высшем поиске святой жизни избегают всякого смешения с греховным миром) и абсолютно реальный и буквальный: у них не было паспортов, следовательно, не было и гражданской идентичности; они должны были странствовать непрерывно из деревни в деревню, укрываться в глубине лесов 7.
«Специфика истории странничества в Сибири — в его меньшей, чем в европейской части России, зависимости от мира. В силу географических особенностей Сибири... наличия больших труднодоступных таежных пространств, возможности для заведения странниками тайных пустыней здесь были неизмеримо выше, чем за Уралом».
Опыт, переживавшийся бегунами в Сибири, находит зеркальное отражение в опыте русских литературных героев. Русская литература, изображая персонажей с их историями в условиях Сибири, непременно показывает какое-то их беспокойство, непреодолимую склонность к поиску свободы, воли, которая прежде всего реализуется в бегстве, в странничестве. В результате создается специфический ритм произведений, так сказать с перебоями. Этот динамический ритм, рождающийся как будто из характеристики самого региона, пронизывает не только пространство и время, но и саму поэтическую структуру произведения, почему и можно утверждать, что территория Сибири обладает мифопоэтической способностью 9.
Список литературы Литературный «взгляд из России» на Сибирь: постановка вопроса
- Житие Аввакума//Памятники литературы Древней Руси. XVII век. Кн. 2. М., Художественная литература, 1989. С. 361
- Чехов А. П. Из Сибири//А. П. Чехов. Поли. собр. соч. и писем в 30 т. Т. 14-15. М., Наука, 1978. С. 28.
- Гаспаров Б. М. Временной контрапункт как формообразующий принцип романа Пастернака «Доктор Живаго»//Литературные лейтмотивы. М., Наука, 1994, С. 241-273.
- Лесков Н. С. На краю света//Н. С. Лесков. Собр. соч. в 11 т. Т. 5. М., Гослитиздат, 1957. С. 451-517.
- В. К. Арсенъев. В дебрях Уссурийского края. М., Московский рабочий, 1956. С. 318-330
- Лотман Ю. М. Сюжетное пространство русского романа XIX столетия//О русской литературе. СПб., Искусство, 1997. С. 723-726
- Никольский Н. М. История русской церкви. Изд. 3-е. М., Изд-во полит, лит-ры, 1983. С. 269-278;
- Мальцев А. И. Староверы-странники в XVIII -первой половине XIX в. Новосибирск, Сибирский хронограф, 1996