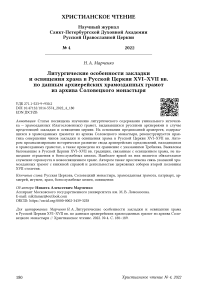Литургические особенности закладки и освящения храма в русской церкви XVI-XVII вв. по данным архиерейских храмозданных грамот из архива Соловецкого монастыря
Автор: Марченко Никита Алексеевич
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Литургика
Статья в выпуске: 4 (103), 2022 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена изучению литургического содержания уникального источника - храмозданных (благословенных) грамот, выдававшихся русскими архиереями в случае предстоящей закладки и освящения церкви. На основании предписаний архиереев, содержащихся в храмозданных грамотах из архива Соловецкого монастыря, реконструируется практика совершения чинов закладки и освящения храма в Русской Церкви XVI-XVII вв. Автором проанализировано историческое развитие свода архиерейских предписаний, находящихся в храмозданных грамотах, а также проведено их сравнение с указаниями Требника. Выявлены бытовавшие в Русской Церкви XVI-XVII вв. традиции, связанные с освящением храма, не нашедшие отражения в богослужебных книгах. Наиболее яркой из них является обязательное служение сорокоуста в новоосвященном храме. Автором также прослежена связь указаний храмозданных грамот с книжной справой и деятельностью церковных соборов второй половины XVII столетия.
Русская церковь, соловецкий монастырь, храмозданная грамота, патриарх, архиерей, игумен, храм, богослужебные книги, освящение
Короткий адрес: https://sciup.org/140296130
IDR: 140296130 | УДК: 271.1-523-9+930.2 | DOI: 10.47132/1814-5574_2022_4_180
Текст научной статьи Литургические особенности закладки и освящения храма в русской церкви XVI-XVII вв. по данным архиерейских храмозданных грамот из архива Соловецкого монастыря
Изучение архиерейских храмозданных грамот1 началось в последней четверти ХIХ в. Одними из первых на этот важный источник обратили внимание Н. В. Покровский и Н. В. Султанов, отметившие содержащийся в храмозданных грамотах ХVII в. запрет церковных иерархов на строительство шатровых храмов [Покровский, 1885, 1–34; Султанов, 1887, 66–67]. В те же годы появились отдельные публикации архиерейских храмозданных грамот, сопровождаемые историческими комментариями публикаторов. Так, А. П. Барсуковым были опубликованы храмозданные грамоты церквей, находившихся в вотчинах, принадлежавших роду Шереметевых [Барсуков, 1883, 242; Барсуков, 1884, 274]. Архимандрит Леонид (Кавелин) — настоятель ставропигиального Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря, при составлении его исторического описания опирается на тексты храмозданных грамот русских патриархов, обнаруженных им среди прочих документов в монастырском архиве [Леонид Кавелин, 1876, 746–756].
Наиболее ценной публикацией этого периода является сборник храмозданных грамот Вятской епархии, до сих пор являющийся наиболее репрезентативной подборкой этого рода документов (Сборник, 1914).
Советский период оказался наименее продуктивным в исследовании церковных документов. По идеологическим причинам храмозданные грамоты как ярко выраженный церковный источник мало интересовали советских ученых. Тем не менее гипотеза Н. В. Покровского и Н. В. Султанова о запрете патр. Никоном строительства шатровых храмов, выдвинутая на основании изучения архиерейских храмозданных грамот, была полностью принята советским искусствоведом М. А. Ильиным и нашла свое отражение в фундаментальном издании «История русского искусства» [Ильин, 1959, 153–216].
Начиная с 1980-х гг. интерес к храмозданным грамотам в научной среде обнаружился вновь в контексте возобновившейся дискуссии вокруг запрета постройки шатровых церквей в XVII столетии. Среди исследователей, посвятивших свои труды этой проблематике, следует отметить И. Л. Бусеву-Давыдову [Бусева-Давыдова, 1989, 279–308], О. А. Фёдорову [Фёдорова, 2005, 225–235], Д. Ф. Полознева [Полознев, 2008, 6–27], С. В. Заграевского [Заграевский, 2017, 33–34]. Были осуществлены и новые публикации храмозданных грамот [Черкасова, 2005, 132–146; Лифшиц, 2010, 341–344]. Однако большинство исследователей использовали патриаршие и архиерейские храмозданные грамоты в основном как ценный материал по истории русской архитектуры и церковного искусства, не касаясь других важных аспектов этого многопланового источника.
К сожалению, до настоящего времени учеными только фрагментарно исследован литургический аспект храмозданных грамот. Например, в монографии прот. Константина Никольского дан анализ содержащихся в храмозданных грамотах указаний относительно хранения старых антиминсов и доставки новых к месту освящения церкви [Никольский, 1872]. В работе А. Л. Лифшица «И постави церковь» говорится «о строительстве и освящении храма в Древней Руси» [Лифшиц, 2010, 341–344]. Однако данная статья представляет собой лишь публикацию одной храмозданной грамоты XVII в., снабженную комментариями самого общего характера, без глубокого обращения к вопросам литургики.
На наш взгляд, архиерейские храмозданные грамоты являются документами, тесно связанными именно с литургической жизнью Русской Церкви, и могут рассматриваться как ценный источник по истории развития русского богослужения. Хра-мозданные грамоты содержат уникальные сведения о реальной практике закладки и освящения храма в исследуемый период. Имеющиеся в них предписания архиереев
1 Храмозданные грамоты — особый вид архиерейских грамот, фиксирующий в письменной форме благословение епархиального архиерея на постройку, ремонт или освящение церкви. У данного вида архиерейских грамот в настоящий момент нет общепринятого названия. В разных публикациях они называются как «храмозданными», так и «благословенными». В настоящей работе оба наименования употребляются как равнозначные.
клирикам к совершению этих богослужебных чинов и других связанных с ними действий существенно дополняют собой указания Требника. Всесторонний анализ литургических указаний, содержащихся в храмозданных архиерейских грамотах XVI– XVII вв., ставит своей исследовательской задачей автор настоящей статьи.
Источниковую базу статьи составили архиерейские храмозданные грамоты, сохранившиеся в архиве Соловецкого монастыря. Самая ранняя из них датируется мартом 1590 г., наиболее поздняя — 1759 г. Подлинники этих документов находятся в отделе рукописей Музеев Московского Кремля (ОР ММК) и в настоящее время недоступны для исследователей. Копии с оригиналов хранятся в Отделе рукописей Российской Национальной библиотеки (ОР РНБ) в Санкт-Петербурге.
В ходе написания статьи нами была использована копийная книга архиерейских грамот (ОР РНБ. Ф. 117. Оп. 1. Д. 20/1479), составленная при архимандрите Соловецкого монастыря Досифее (Немчинове), управлявшем обителью с 1826 по 1836 гг. В копий-ной книге переписчиками XIX столетия каждой архиерейской грамоте был дан номер. В некоторых случаях, ради удобства статистического анализа и наглядности, в тексте статьи мы будем ссылаться на эти номера, а не на листы копийной книги.
Наиболее ранней известной в настоящий момент архиерейской грамотой, которая может быть отнесена к числу храмозданных, является грамота митр. Фотия прп. Павлу Обнорскому (†1429), которую следует отнести к XV в. Точная дата ее написания неизвестна. Издателями «Русской исторической библиотеки» она была озаглавлена как «Благословенная грамота Митрополита Фотия иноку Павлу (Обнорскому) на устроение монастыря и освящение в нем церкви, с увещанием братии о соблюдении иноческих обетов». Среди прочего эта грамота содержит следующую информацию относительно освящения храма в обители: «Что еси прислал ко мнe свою грамоту, прося святого антиминса, на священие Божьей церкви, и труды полагать о Христе хотя, святую обитель составляя и яже о Христе братию собирая. <…> И святой антиминс есмь послал на освящение той Божьей церкви…» (АИ, 1841, 486; РИБ, 1880, 488–489).
Из нее ясно, что инициатором освящения церкви в монастыре являлся действующий от лица братии создатель монашеской обители — прп. Павел. Санкцией епископа на совершение священником чинопоследования освящения церкви и дальнейшее совершение в ней богослужений был антиминс, посылаемый братии от его имени.
Следующая по времени создания храмозданная грамота, известная в настоящее время, относится лишь к концу XVI в. и происходит из комплекса храмозданных грамот Соловецкого монастыря. Эта храмозданная грамота была выдана 13 марта 1590 г. новгородским митрополитом Александром (1576–1591)2 для освящения в Сумском остроге реконструированной церкви Николая Чудотворца, а также пристроенной к ней в качестве придела перенесенной туда из другого места церкви во имя Успения Божией Матери (ААЭ, 1836, 418–419; ОР РНБ. Ф. 117. Оп. 1. Д. 20/1479. Л. 38–39). Грамота подробно описывает весь процесс реконструкции церквей, а также дает указания литургического характера, касающиеся освящения и закладки этих храмов. Такие указания имеются и в более поздних храмозданных грамотах, относящихся к XVII в.
Из документа следует: если на месте предполагавшегося строительства уже стояла обветшавшая церковь, подготовка к постройке нового храма начиналась с разборки старого церковного здания. В связи с этим митр. Александр давал сумскому священнику Максиму инструкции относительно старых антиминсов этих храмов, а также места, на котором ранее стояла Успенская церковь: «Старые антимисы тех престолов выспод, а новые антимисы поверх старых антимисов. <…> А где стояла церковь теплая с трапезою Успения Пресвятые Богородицы за острогом, и ты б на том месте против престола на земле велел поставить крест да оградою оградить, чтоб к тому месту никоторая нечистота не касалась» (ОР РНБ. Ф. 117. Оп. 1. Д. 20/1479. Л. 39).
Подобное этому предписание относительно разборки старого храма, а также сохранения места, на котором ранее стояла церковь, содержится в грамоте холмогорского архиепископа Афанасия, писавшего архим. Фирсу в 7198 (1690) г.: «В старой церкви с престола индития и срачица снять и иконы обрать и олтарь разобрать, и тот церковной лес вывесть в поле и предать огню, а на престольном месте поставить обруб и покрыть, а наверху поставить крест» (ОР РНБ. Ф. 117. Оп. 1. Д. 20/1479. Л. 253).
Итак, кроме наставления относительно обустройства места бывшего престола в этой грамоте мы также находим указание относительно утилизации «церковного леса» — строительного материала, оставшегося при разборке старой церкви. Если по какой-либо причине его не удавалось использовать в строительстве новой церкви, его сжигали «в поле» — на открытом месте. Однако сжигание всех не востребованных для нового строительства старых материалов разобранной церкви практиковалось не всегда, о чем свидетельствуют другие документы. Наряду со сжиганием имела место практика складирования оставшихся материалов в специально охраняемом от осквернения месте, что видно из других документов.
Еще более подробно процесс разборки старого церковного здания описан в грамоте новгородского митрополита Киприана от 7139 (1631) г.: «А старой храм, которой ныне тут стоит, велеть разобрать, да что из того стараго храма лесу к новому храму на поделку пригодитца и тот лес к новому храму на поделку имати. А что того ста-раго лесу у новаго храму за поделкою останетца, и тот лес вывести на поле и скласть в чистем месте, чтоб тут нихто не ходил, и нечистоты никакой не прикасалося, или его складчи в одно место огнем спалити. А антимисы старых престолов велеть в новых престолех под досками заделать в десные столбцы от восточной страны, вытесав ящиками, и заделать, велеть накрыть досками по прежнему» (ОР РНБ. Ф. 117. Оп. 1. Д. 20/1479. Л. 73–73 об.).
Таким образом, если новая церковь строилась не на том же месте, что и старая, место, где ранее стоял алтарь, д о лжно было сохранить от осквернения, каковым считалось попирание (топтание ногами человека или животного). С этой целью освященное место предписывалось оградить, а на месте церковного престола устанавливать крест, напоминающий христианам о прежнем храме и святости совершавшегося здесь таинства Евхаристии. Очевидно, что это предписание было традиционным, о чем свидетельствует разница в сто лет во времени составления грамот митр. Александра и архиеп. Афанасия, содержащих это предписание.
Основание для такой практики находится еще в ответах митрополита Киевского Иоанна II черноризцу Иакову, каноническом памятнике XI в.: «Идеже, якоже рече, поставляються древяны церкы, и ины на том месте не поставляються, место в нем же олтарь, идеже таина творяшеся, оградити и неприкосновенно хранити, яко свято и честно, егда не от нужа священье приимаху, и нечестне святая попираються» (РИБ, 1880, 5–6).
О необходимости ограждения места, где находился алтарь разобранного храма, в послании митр. Зосиме в 1490 г. писал и архиепископ новгородский Геннадий. Святитель выражал свое возмущение тем, что попущением митрополита и великого князя алтарные места упраздненных в ходе перестройки Москвы храмов не были огорожены и оскверняются животными: «А где священник служил, руки умывал, и то место бывает непроходно же; и где престол стоял да и жертвенник, и те места непроходны же. А ныне те места не огорожены, ино собакы на те места ходят и всякой скот» (РИБ, 1880, 774).
Что касается рекомендации храмозданной грамоты новгородского митрополита Киприана использовать материалы, оставшиеся в ходе разборки старой церкви, для строительства нового храма, а также его же предписания сжигать материал, оставшийся неиспользованным, основание для него находится и в богослужебных книгах этого периода, например в Большом Потребнике 1623 г. Кроме уже упомянутого правила митрополита Киевского Иоанна Потребник содержит «разсуждение» патр. Филарета Никитича, касающееся использования оставшихся после разборки старой деревянной церкви материалов: «По разсуждению святейшаго патриарха кир Филарета Московского и всея Русии. Обетшавшия святыя церкви бревна, и прочая церковная елика быша в создании церковнем. Паки достоит елика угодна к созиданию новыя церкве от обетшавшая взимати, и полагати в новую церковь бревна и дъски и прочая елика потребна. А изгнившая церковнаго здания бревна или дъски, или ино что от здании, то в сохранне месте сожещи. И попел всыпати в реку, да не будут святая в попрание» (Потребник, 1887, 3–4 об.).
По-видимому, источником для «разсуждения» патр. Филарета стало послание митрополита всея Руси Фотия псковскому духовенству от 12 августа 1419 г. Указания митр. Фотия относительно оставшихся от старых церковных зданий строительных материалов в основном совпадают с указаниями «разсуждения »: «А церкви ветхия и кровли их, аще не суть доволни не на кую потребу к самой той церкви, а не к иному устроению потребни, съжещи таковаа, и пепел их всыпати в текущую воду, да не осквернится святое небрежения ради или скота» (РИБ, 1880, 411).
Таким образом, порядок разборки старых церковных зданий, зафиксированный в храмозданных архиерейских грамотах Соловецкого монастыря, детально соответствовал предписаниям высшей церковной власти. Примечательно, что в позднейших требниках, изданных после книжной справы XVII в., ни правило митр. Иоанна II, ни «разсуждение» патр. Филарета более не публиковались (Требник, 1658, 1680, 1689), однако даже в храмозданной грамоте архиепископа Холмогорского Афанасия, составленной в 1690 г., эти требования повторяются, что еще раз подчеркивает их глубокую традиционность.
Важнейшим литургическим моментом храмозданных грамот митрополитов Новгородских Александра и Киприана являются инструкции относительно хранения и использования старых церковных антиминсов. Согласно грамоте митр. Киприана, во время освящения нового храма антиминсы со старых престолов нужно было положить «выспод, а новые антимисы поверх старых антимисов» . В свою очередь, митр. Киприан предписывал сделать для них специальный ящик в одном из столпов нового престола и накрыть сверху престольной доской.
Как показал в своем замечательном труде «Об антиминсах Православной Русской Церкви» прот. Константин Никольский, оба способа хранения старых антиминсов были широко распространены в Русской Церкви в XVI–XVII столетиях. Согласно его наблюдениям, старые антиминсы продолжали хранить под срачицей новых престолов или в специальных ящиках до 1735 г., когда указом Святейшего Правительствующего Синода было предписано «отбирать от церквей ветхия антиминсы и в архиерей-ския и соборныя ризницы для хранения» [Никольский, 1872, 106].
Однако архиерейские грамоты из Соловецкого архива свидетельствуют, что в некоторых епархиях практика изъятия старого антиминса зародилась ранее XVIII в. Так, согласно грамоте холмогорского архиепископа Афанасия, в Колежемском Усолье 3 февраля 7190 (1682) г. сгорела церковь сщмч. Климента с приделом прпп. Зосимы и Савватия. После случившегося пожара монастырские власти обратились к новгородскому митрополиту Корнилию за благословением на постройку нового храма. Митрополитом для постройки церкви были выданы храмозданная грамота и антиминс. Однако, когда церковь была построена, Соловецкий монастырь и его вотчины были переведены в новосозданную Холмогорскую епархию. В связи с этим соловецкому архимандриту Илариону с братией пришлось еще раз просить архиерейского благословения на освящение нового храма — уже у архиепископа холмогорского Афанасия. Архиепископ благословил освятить храм и дал для освящения новый антиминс, а выданный митр. Корнилием антиминс приказал забрать в архиерейскую казну: «А прежнюю преосвященнаго митрополита грамоту и антимис взять в нашу казну, а вместо того антимиса дать новой антимис» (ОР РНБ. Ф. 117. Оп. 1. Д. 20/1479. Л. 235 об.).
На наш взгляд, изменение практики хранения старых антиминсов непосредственно связано с церковной реформой патр. Никона и книжной справой 2-й пол. XVII столетия. Указания о том, что старые антиминсы нужно хранить в столбце в новом престоле, содержатся в дореформенном Потребнике патр. Иосифа 1651 г.: «Аще ли же будут святыя мощи старыя первыя церкви, еже есть антимисы, прежде положения престольныя доски на столбцы полагает их в столбце, иже посреди святыя трапезы уставлен, в нем же место учинено бывает святым мощем. Аще ли будут 4 столбцы, поддержащеи святую трапезу, сотворяют место святым мощем на 4 углу, иже на восток стоящем столпце. Се же сотворяем аще будут быти старыя церкве первыя святыя мощи» [Никольский, 1872, 105]. Однако в издававшихся после книжной справы требниках это указание уже не воспроизводилось [Никольский, 1872, 105], в связи с чем, по-видимому, и возникла новая практика хранения старых антиминсов в архиерейской казне.
Еще один интересный факт, касающийся антиминсов, содержится в другой грамоте Соловецкому монастырю холмогорского архиепископа Афанасия от 7204 (1696) г.: «Писали вы к нам, преосвященному, в монастырских де в ваших вотчинах в Яренской, да в Лименской, да в Керецкой волостях в церквах антимисов нет, а служат де в тех церквах на старых литонах. И мы слушав тое вашу отписку указали к вам из нашей казны в те церкви послать освященныя три антимиса впредь» (ОР РНБ. Ф. 117. Оп. 1. Д. 20/1479. Л. 282–282 об.). Отсутствие антиминсов в указанных в грамоте храмах видится нам маловероятным. Местоположение антиминса на престоле, как и его внешний вид, в XVII в. претерпели значительное изменение. Вероятно, антиминсы в этих храмах, согласно дореформенной практике, были пришиты к срачице престола [Желтов, Попов, 2001, 490], в свою очередь, поверх индитии на престоле лежал лишь илитон, на котором и совершалась Евхаристия.
Прямое указание на то, что антиминсы должны полагаться на престоле непосредственно под Евангелием, а не пришиваться к срачице, находится в книге деяний Большого Московского Собора 1666–1667 гг. в главе пятой, непосредственно посвященной чину освящения храма священником: «И по входной молитве внидет со священным антимисом во святый олтарь и поставляет его на святую трапезу, ничесоже глаголя. <…> Священник поставляет священное евангелие на святом антимисе» (Деяния, 1876, 339). Таким образом, старая практика пришивания антиминса к престольной срачице в ходе церковной реформы стала считаться неправильной, а нахождение под Евангелием на престоле лишь илитона стало восприниматься как отсутствие на престоле антиминса.
Примечательно, что отсутствие антиминсов пореформенного образца в указанных в грамоте архиеп. Афанасия храмах соловецких вотчин было замечено монастырским начальством лишь в 1696 г., т. е. спустя почти 30 лет после их официального введения. Этот факт, безусловно, свидетельствует о том, насколько долго в Русской Церкви, в особенности в условиях Русского Севера, приживались новые пореформенные традиции и практики.
После разборки старого церковного здания храмоздатели приступали к заготовке материалов для постройки нового. Если предполагалось строительство деревянной церкви, в архиерейских благословенных грамотах этот процесс обыкновенно описывался следующими словами: «И как к тебе ся наша грамота придет, и ты б на тот храм и на предел велел лес ронить и всякой церковной запас готовить» (ОР РНБ. Ф. 117. Оп. 1. Д. 20/1479. № 12, 41, 44, 50, 69, 70, 210, 216). В случае если строился каменный храм, предписывалось «к тому церковному каменному строению кирпич, и камень, и всякие припасы готовить» (ОР РНБ. Ф. 117. Оп. 1. Д. 20/1479. Л. 252 об.).
После того как все приготовления завершались, священник совершал молебен с каноном святому или празднику, в честь которого строилась церковь, и освящением воды (ОР РНБ. Ф. 117. Оп. 1. Д. 20/1479. № 10, 44, 50, 69, 70, 210). Кроме архиерейских храмозданных грамот предписания об этом находятся в «Чине бываемом основанию церкви», входящем в состав дореформенных печатных Потребников (Потребник, 1887, Л. 1–1 об.). Примечательно, что в издававшихся после церковной реформы богослужебных книгах нет указания о том, что на закладке нового храма нужно петь молебен, освящать воду и окроплять ею место будущего строительства (Требник, 1658, 1680, 1689). В архиерейских храмозданных грамотах пореформенного периода, сохранившихся в архиве Соловецкого монастыря, это требование также более не встречается.
Однако в некоторых епархиях указание о совершении молебна с освящением воды на закладке храма продолжало даваться и в пореформенный период. Например, в грамоте митрополита Ростовского и Ярославского Ионы 27 февраля 1672 г. священнику предписывается: «И на основание той церкви говорил бы ты молитвы и пел молебны и воду святил и святою водою то церковное место кропил» [Черкасова, 2005, 145]. Причиной несогласия пореформенного требника и указаний, содержащихся в грамоте митр. Ионы, по-видимому, является формуляр (шаблон) храмо-зданной грамоты первой половины XVII в., продолжавший употребляться в епархии в пореформенный период. Доказательством этому являются грамоты митрополита Ростовского и Ярославского Варлаама 1643 и 1645 гг., в которых указания о совершении молебна и освящения воды полностью совпадают с грамотой митр. Ионы [Черкасова, 2005, 141–145].
После того как антиминс был доставлен, священник мог приступить к освящению храма. Согласно архиерейским грамотам, сохранившимся в архиве Соловецкого монастыря, освящение храмов в обители и ее вотчинах обыкновенно поручалось архиереем самому соловецкому игумену (ОР РНБ. Ф. 117. Оп. 1. Д. 20/1479. № 44, 70, 127, 221, 237, 243, 252, 299, 309) и гораздо реже другим священникам (ОР РНБ. Ф. 117. Оп. 1. Д. 20/1479. № 10, 41, 44, 210), при этом чин освящения предписывалось совершать «со-борне с диаконом» (ОР РНБ. Ф. 117. Оп. 1. Д. 20/1479. № 41, 44, 70, 210, 237, 252). Вероятно, это предписание обусловлено особой торжественностью события и сложностью совершения чина освящения храма.
Интересной литургической традицией, отразившейся в архиерейских благословенных грамотах, является практика служения в новоосвященной церкви Божественной литургии каждый день в течение шести недель. Если у храма был придел, то освящать его дозволялось лишь по прошествии этого срока, после чего в течение шести недель литургия совершалась уже в приделе.
Предписание об этом находится в шести архиерейских грамотах из соловецкого архива (ОР РНБ. Ф. 117. Оп. 1. Д. 20/1479. № 10, 44, 50, 69, 70, 210). Самое раннее упоминание об этой литургической традиции содержится в грамоте новгородского митрополита Александра к сумскому священнику Максиму, составленной 13 марта 7098 (1590) г. (ОР РНБ. Ф. 117. Оп. 1. Д. 20/1479. Л. 39), наиболее позднее находится в грамоте новгородского митрополита Афония от 7153 (1645) г. (ОР РНБ. Ф. 117. Оп. 1. Д. 20/1479. Л. 98 об.).
Корни традиции служения Божественной литургии в новоосвященной церкви в течение шести недель, по-видимому, следует искать в византийской литургической практике. Например, евхологий Великой Церкви, перевод которого на церковнославянский язык был осуществлен в конце XIV в. книжниками круга митрополита Всея Руси Киприана, в этом случае предписывает служение литургии в течение семи дней: «Даже убо до свершения днии 7 на всякии день в такавой церкви служба свершается» (Афанасьева, Козак, Мольков, Шарихина, 2019, 220).
На основании сохранившихся архиерейских храмозданных грамот можно судить о том, что практика шестинедельного служения Божественной литургии после освящения храма была распространена не только в Новгородской епархии, но и за ее пределами. Свидетельством этому является сохранившаяся в соловецком архиве грамота митрополита Ростовского и Ярославского Варлаама, посвященная освящению храма Сретения Господня в Красноборском погосте в 7150 (1642) г. (ОР РНБ. Ф. 117. Оп. 1. Д. 20/1479. Л. 222 об.) Известны также и другие грамоты ростовских митрополитов Варлаама и Ионы, содержащие это требование [Черкасова, 2005, 141–146; Лифшиц, 2010, 342–343].
Примечательно, что в конце XVII столетия эта практика была вытеснена новой. Архиепископ Холмогорский Афанасий в 7203 (1695) г. писал соловецкому архимандриту Фирсу об освящении церкви Сретения Господня и придела прпп. Зосимы и Савватия в Колежемской волости: «А освящать тебе те церкви не во одно время, а чрез день» (ОР РНБ. Ф. 117. Оп. 1. Д. 20/1479. Л. 269 об.). Таким образом, служение в освященном храме в течение шести недель более не предписывалось, а временной промежуток между освящением основного храма и придела сократился до одного дня.
Отдельного внимания заслуживает вопрос об использовавшихся во время освящения храма богослужебных книгах. Указания об этом появляются в архиерейских храмозданных грамотах достаточно поздно. Все сохранившиеся в архиве Соловецкого монастыря грамоты, имеющие такие указания, относятся ко времени управления Холмогорской епархией архиеп. Афанасием (1682–1702). Во всех случаях архиерей предписывал освящать храмы по книгам, содержавшим редакцию чино-последования освящения храма, оформившуюся в результате церковной реформы и книжной справы XVII столетия (ОР РНБ. Ф. 117. Оп. 1. Д. 20/1479. № 221, 243, 252, 255, 256). Например, в грамоте соловецкому архимандриту Фирсу от 7202 (1694) г. архиеп. Афанасий предписывал освятить церковь во имя прпп. Зосимы и Савватия в Лямецкой волости «по исправному нынешних выходов требнику или по чиновнику малым освящением» (ОР РНБ. Ф. 117. Оп. 1. Д. 20/1479. Л. 266–266 об.). Данное требование продолжало повторяться в архиерейских храмозданных грамотах и в XVIII столетии. Так, в 1751 г. архиепископ Архангелогородский и Холмогорский Варсонофий предписывал освятить храм Святой Троицы в Сороцком селе «по новоисправленно-му чиновнику» (ОР РНБ. Ф. 117. Оп. 1. Д. 20/1479. Л. 324–324 об.).
Таким образом, храмозданные (благословенные) архиерейские грамоты Соловецкого монастыря содержат богатый материал литургического характера, позволяющий реконструировать практику снесения ветхих и строительства новых церквей, а также их освящения, имевшую место в Русской Церкви в XVI–XVII вв. В свете указаний архиерейских храмозданных грамот процесс разборки ветхой церкви, как и строительство новой, имел целый ряд сакраментальных действий, обязательных для выполнения клириками и строителями храма. Перенесение в другое место старой деревянной церкви предусматривало сохранение святости и неприкосновенности ее прежнего места, особенно алтарной части. При этом место престола защищалось от осквернения посторонними людьми или скотом специальной оградой и отмечалось установлением креста. Строительный материал разобранной церкви непременно использовался в создании новой, что символизировало духовное преемство между старым и новым храмом. Однако невостребованная часть материала также носила на себе печать освящения и не могла быть использована для мирского строительства. Чаще всего освященный «церковный лес» утилизировался путем сжигания в открытом поле, в иных случаях складировался в чистом и недоступном месте, где со временем разрушался естественным путем. Антиминсы старого храма не подлежали уничтожению. Они также символизировали благодатное преемство двух церковных зданий и переносились в новопостроенную церковь, где вкладывались в специальные ящики, устроенные в престоле, или пришивались к срачице под новым антиминсом. Строительство новой церкви предварялось совершением чина закладки с водосвятным молебном и пением канона храмовому святому или празднику. После завершения строительства церкви игумен монастыря обращался к архиерею с просьбой прислать новый антиминс и благословить освящение церкви. Освящение нового храма в Соловецкой обители или в ее вотчине становилось большим церковным торжеством. Чин освящения главного престола обычно совершался соборно самим соловецким игуменом. После освящения церкви в ней совершался сорокоуст — служение Божественной литургии на главном престоле каждый день в течение шести недель. Только после этого разрешалось освящать другие приделы храма. Эта практика является выражением исключительно русской богослужебной традиции, так как не отражена в церковных богослужебных книгах. Однако в конце XVII в. эта практика была вытеснена новой традицией, разрешавшей освящать приделы без сорокоуста, через день после освящения главного престола. Литургические указания храмозданных грамот восходят к ранним документам, изданным до патриаршего периода, и содержательно в основном соответствуют богослужебным книгам.
Список литературы Литургические особенности закладки и освящения храма в русской церкви XVI-XVII вв. по данным архиерейских храмозданных грамот из архива Соловецкого монастыря
- ОР РНБ — Отдел рукописей Российской национальной библиотеки Ф.117. Оп.1. Д. 20/1479. Копийная книга архиерейских грамот Соловецкого монастыря.
- Деяния (1876) — Деяния собора 1666-1667г. // Материалы для истории раскола за первое время его существования. М., 1876. Т. 2.
- АИ (1841) — Акты исторические, собранные и изданные археографической комиссией. СПб., 1841. Т. 1.
- РИБ (1880) — Русская историческая библиотека. СПб., 1880. Т. 6.
- Сборник (1914) — Сборник храмозданных грамот на построение церквей в Вятской епархии. Вятка, 1914.
- Афанасьева, Козак, Мольков, Шарихина (2019) — Афанасьева Т.И., Козак В.В., Моль-ков Г. А., Шарихина М. Г. Евхологий Великой Церкви в славяно-русском переводе конца XIV века. Исследование и текст. М.; СПб., 2019. 400 с.
- Барсуков (1883) — Барсуков А.П. Род Шереметевых. 1883. Т. 3. 559 с.
- Барсуков (1884) — Барсуков А.П. Род Шереметевых. 1884. Т. 4. 456 с.
- Бусева-Давыдова (1989) — Бусева-Давыдова И.Л. Символика архитектуры по древнерусским письменным источникам XI-XVII вв. // Герменевтика древнерусской литературы XVI — нач. XVIII в. М., 1989. С. 279-308.
- Желтов, Попов (2001) — Желтов М, свящ. Попов И.О. Антиминс // Православная энциклопедия. М., 2001. Т. 2. С. 489-492.
- Заграевский (2017) — Заграевский С.В. К вопросу о запрете патриарха Никона на строительство шатровых храмов // ПРА2НМА. Проблемы визуальной семиотики. 2017. № 3. С. 33-44.
- Ильин (1959) — Ильин М.А Каменное зодчество третьей четверти XVII века // История русского искусства. М., 1959. Т. 4. С. 153-216.
- Леонид Кавелин (1876) — Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание Ставро-пигиального Воскресенского, Новый Иерусалим именуемого, монастыря, составленное по монастырским актам настоятелем оного архимандритом Леонидом. М., 1876. С. 746-756.
- Лифшиц (2010) — Лифшиц А. Л. «И постави церковь». О строительстве и освящении храма в Древней Руси // Вестник церковной истории. 2010. № 3-4. С. 341-344.
- Никольский (1872) — Никольский К., прот. Об антиминсах Православной Русской Церкви. СПб., 1872.
- Покровский (1885) — Покровский Н.В. Древности костромского Ипатьевского монастыря // Вестник археологии и истории, издаваемый Археологическим институтом. Вып. 4. СПб., 1885. С. 1-34.
- Полознев (2007) — Полознев Д.Ф. Патриарх Никон шатровых храмов не запрещал, или Ещё раз о пользе обращения к источникам // История и культура Ростовской земли. Материалы конференции. 2007 г. Ростов, 2008. С. 6-27.
- Султанов (1887) — Султанов Н.В. Русские шатровые церкви и их отношение к грузино-армянским пирамидальным покрытиям // Зодчий. 1887. № 9-10. С. 66-71.
- Фёдорова (2005) — Фёдорова О.А. Храмозданные грамоты и проблема истории шатровых храмов в XVII веке // Искусство христианского мира: Сб. статей. М., 2005. Вып. 9. С. 225-235.
- Черкасова (2005) — Черкасова М. С. К изучению церковного строительства в Ростовской митрополии в XVI-XVII вв. // Сообщения Ростовского музея. Ростов, 2005. Вып. 15. С. 132-146.