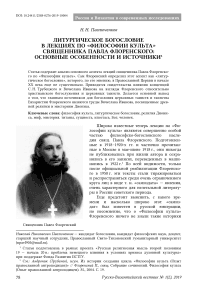Литургическое богословие в лекциях по «Философии культа» священника Павла Флоренского: основные особенности и источники
Автор: Н.Н. Павлюченков
Журнал: Русско-Византийский вестник @russian-byzantine-herald
Рубрика: Россия и Византия в современных исследованиях
Статья в выпуске: 1 (2), 2019 года.
Бесплатный доступ
Статья содержит анализ основного аспекта лекций священника Павла Флоренского по «Философии культа». Сам Флоренский определял этот аспект как «литургическое богословие», которого, по его мнению, в Православной Церкви в начале ХХ века еще не существовало. Приводятся свидетельства влияния концепций С. Н. Трубецкого и Вячеслава Иванова на взгляды Флоренского относительно христианского богослужения и церковных таинств. Делается основной вывод о том, что главным источником для богословия церковных таинств и таинства Евхаристии Флоренского являются труды Вячеслава Иванова, посвященные древней религии и мистериям Диониса.
Философия культа, литургическое богословие, религия Диониса, миф, мистерия. титаны, сущность, ипостась, Бог, человек
Короткий адрес: https://sciup.org/140240252
IDR: 140240252 | DOI: 10.24411/2588-0276-2019-10004
Текст научной статьи Литургическое богословие в лекциях по «Философии культа» священника Павла Флоренского: основные особенности и источники
и аналитики русской религиозной мысли, как прот. Георгий Флоровский3, Н. О. Лос-ский4 и В. В. Зеньковский5.
Создается впечатление, что, по крайней мере, до второй половины ХХ в. о направлении развития философско-богословской мысли Флоренского в советский период (до его окончательного ареста в 1933 г.) за рубежом могли судить только по опубликованным в России в 1922 г. анонсу цикла лекций «У Водоразделов мысли. Черты конкретной метафизики»6 и работе «Мнимости в геометрии»7. Устные воспоминания и, возможно, какие-либо краткие записи тех, кто лично слушал Флоренского в 1918 г., даже если и появлялись за рубежом, то, конечно, не могли быть источниками для серьезных оценок и исследований8.
По вполне понятным причинам, такие исследования не могли быть проведены и в России, где самиздат поздних трудов Флоренского только в 1970-е гг. использовал С. С. Хоружий, исследование которого, однако, было напечатано лишь четверть века спустя9. Когда в 1977 г. машинописная редакция «Философии культа» (1922) была впервые опубликована в официальном органе Московской духовной академии10, на нее не последовало никаких отзывов и рецензий; едва ощутимой реакцией явились лишь возникшие в узких кругах споры, о которых скупо упоминает игумен Ан-дроник11 и которые касались богословского обоснования о. Павлом своего восприятия Креста как живого, разумного и сознательного существа12.
Опубликованные в 1982 г. в связи со 100-летним юбилеем Флоренского статьи и материалы13 не касались вновь открытых лекций по «Философии культа», а затронувшая эти темы и защищенная в 1984 г. выпускная (в МДА) кандидатская диссертация игумена (тогда — иеромонаха) Андроника (Трубачева), также, как и работа С. С. Хоружиего, не была издана вплоть до самого конца 1990-х гг.14
Таким образом, если говорить о первых публикациях, хотя бы отчасти посвященных «Философии культа», то нужно обращаться к этим двум монографиям — о. Андроника (1998) и С. С. Хоружиего (1999). Но при этом в первой из них, за редчайшими исключениями, материал лекций Флоренского не анализируется, а просто излагается по публикации в «Богословский трудах» 1977 года15, а во второй, на основании сопоставления с «Введением в литургическое богословие» прот. Александра Шмемана делается только самый общий вывод о том, что трактовка религиозного культа Флоренским соответствует не христианству, а античной мисте-риальной религии16.
В целом, можно сказать, что ситуация существенно не изменилась и после того, как в 2004 г. вышла полная публикация «Философии культа», в которой были учтены неизвестные ранее рукописи Флоренского и, кроме того, представлены его более ранние записи, относящиеся к темам лекций 1918–1920 гг.17 По-прежнему более-менее общие оценки преобладают над основательными аналитическими исследованиями, причем практически полное отсутствие интереса к таким исследованиям со стороны богословов восполняется попытками некоторых современных философов смотреть на «Философию культа» с богословской точки зрения. Так, В. Н. Тростников заметил, что «Философия культа» — это самое высокое православное богословие и можно только гордиться, что автор его — русский»18, а Н. К. Бонецкая, жестко связав концепцию этих лекций с личным опытом Флоренского (переживание стихийного напора «дионисийских недр души» и поиск спасения от него в религии), подчеркнула полное, по ее мнению, отсутствие здесь Христа и превращение у Флоренского религиозного культа в «сценическое действо»19.
Наиболее четкую и последовательную позицию занимает в этом отношении игумен Андроник (Трубачев), который в публикации 1998 года (а, возможно, еще ранее, в самой своей диссертации 1984 года) признал вредной «тенденцию определять творчество о. Павла как богословие, а его самого как богослова»20. По его мнению, основные труды Флоренского призваны только дать «материал для богословия», а сами по себе относятся «к области христианской философии и христианской науки»21. В издании «Философии культа» в 2004 г. он еще раз особо отметил, что творчество Флоренского «находилось в русле христианской апологетики и религиозной философии, но не богословия, если под богословием понимать догматическое учение Церкви»22. Сам Флоренский, по свидетельству о. Андроника, в разных вариантах рукописей обозначал материалы к своим лекциям как «Из метафизики культа», «Очерки по философии культа» (или «Очерки из философии культа»)23, «Чтения о культе»24, а заглавие для публикации этих лекций в 1977 г. — «Из богословского наследия» — пришлось дать их издателям лишь «по цензурным требованиям совета по делам религий при Совмине СССР»25.
Таким образом, по мысли о. Андроника, концепции Флоренского должны быть выведены из-под прицела возможной богословской критики и методологически верным будет подходить к ним с точки зрения актуальных для начала ХХ века апологетических, миссионерских26 и иных задач27. Как возможно свидетельствовать о глубокой смысловой основе православного церковного богослужения без заботы о четкости богословских догматических формулировок, о. Андроник поясняет образом различия иконы и портрета, который «имеет свои художественные законы, приемы и способы выражения». Из всего этого следует, что Флоренского нужно научиться правильно понимать и учитывать, что, сохраняя верность догматическому учению Церкви, он использует свой особый религиозно-философский словарь, который не может быть идентичным терминологическому словарю догматического богословия28.
Но, вместе с тем, нельзя не обратить внимание на то, что, при всей однозначности в своем требовании именно такого подхода к «Философии культа» Флоренского, о. Андроник не смог не отметить, что в данных лекциях имеет место как богословский подход их автора29, так и богословский метод , проявивший себя в минимальном обращении к философской литературе на фоне обилия «материалов из Священного Писания, Требника..., Триоди Цветной, Триоди Постной, богослужебных и четьих миней, Служебника, Архиерейского чиновника, Последования молебных пений и различных богослужебных чинов и литургических исследований»30.
На самом деле, о том, что Флоренский хотел работать, прежде всего, в области богословия, свидетельствует не только наиболее последовательное восприятие им идеала «цельного знания», в варианте Владимира Соловьева, где теология занимает центральное положение в грядущем своем синтезе с философией и наукой31. Поступая в Московскую духовную академию весной 1904 г., Флоренский был ориентирован не только на поиск среды, наиболее подходящей для организации подлинного и деятельного христианского братства32, но, вместе с тем, чувствовал необходимость быть причастным ко всему главному и основному, что связано с принятой им «исторической» Православной Церковью, т. е. к церковному богословию и к церковному богослужению. Уже самые первые его студенческие работы представляют собой опыт богословских исследований: патрологического — «Сочинение Оригена „Пερί άρχών“ как опыт метафизики» (датировано 3 ноября 1904 г.) и экзегетического — «О терафимах» (1904). В первом случае, в числе прочего, рассматриваемый вариант «метафизики» проверяется на соответствие его христианскому вероучению33, а во втором также используется богословский материал и делается вполне богословский вывод, согласно которому выявленное в работе «развитие терафимов хорошо сходится с объяснением, которое дает Книга Премудрости Соломона (гл. 14) происхождению идолопоклонства вообще» и подтверждается мнением на этот счет митрополита Филарета Московского34. Написанная в летние каникулы 1905 года и опубликованная затем в «Богословском вестнике» работа «О типах возрастания»35 содержит обсуждение «процесса развития» человеческой личности, в котором, по замечанию автора, «тес-нейше соприкасаются математика и нравственное богословие»36. В самой работе ссылки на философов В. Соловьева, Плотина и на математика Н. В. Бугаева не препятствуют автору придавать своему краткому исследованию богословское направление и использовать в нем «богословские термины» (Образ и подобие Божие) и язык христианской аскетики («процесс... обожения» личности)37.
Уже в следующем, 1906 г., наряду с большим обзорным эклессиологическим иссле-дованием38, Флоренский готовит и прочитывает «реферат» на заседании студенческого Философского общества, где фактически намечает программу своей будущей деятельности. Здесь, в связи с утверждением о превращении безусловно ценной и жизненно необходимой церковной догматики в мертвый, т. е. лишенный «аромата» личного религиозного опыта «догматизм»39, предлагается вновь «обратиться к соборному разуму, к над-индивидуальному коллективному сознанию и сверх-личной организации Церк-ви»40. Под «контролем» Священного Писания следует собрать свидетельства религиозных переживаний, заключенные «в аскетической и мистической литературах, в изящной словесности, в изобразительных искусствах и в музыке»41, но более всего — принять во внимание отраженные в Евангелии «переживания» Христа как «Носителя максимума духовной жизни»42. «Его переживания, — говорит Флоренский, — и составляют истинный фундамент догматики», это — «мост, по которому догматика может перейти... от психологии к метафизике»43. И, следовательно, они и представляются автору самым надежным ориентиром в осуществлении предлагаемого проекта.
Главная, конечная цель проекта подразумевается здесь вполне однозначно — придание богословию статуса, по крайней мере, очень близкого к основанной на опыте точной науке44. Флоренский уверен в том, что вновь обретенные свидетельства религиозного опыта существующую церковную догматику не только не поколеблют, но, напротив, вполне утвердят45. Аскетика и мистика, к которым он хочет обратиться, наряду с поэзией, искусством и музыкой, с этой точки зрения, включены в «соборный разум» Церкви, если только они прямо не расходятся со Священным Писанием.
Эта программная формула, с первого взгляда, легко объяснимая руководящей идеей всеединства и сводимая к использованному позже Флоренским в «Столпе и утверждении Истины» эклектическому методу сбора материала для исследования46, вместе с тем, может быть воспринимаема как указание на необходимость богословского исследования церковного богослужения, в котором как раз и используются основанные на аскетическом и мистическом опыте и поэзия, и музыка, и искусство.
Как известно, именно этот шаг Флоренского (наряду с его усилиями по возвращению в русское богословие учения о Фаворском свете) особенно высоко оценил в своем докладе — рецензии на «Столп» Е. Н. Трубецкой47.
Сам Флоренский в «Столпе» отметил: «У нас доселе не существует литургического богословия, т. е. систематизации богословских идей нашего богослужения. А ведь именно тут — живое само-сознание Церкви, потому что богослужение есть цвет церковной жизни и, вместе с тем, корень и семя ее. Какое богатство идей и новых понятий в области догматики, какое обилие глубочайших психологических наблюдений и нравственных указаний мог бы собрать тут даже не особенно усидчивый исследователь! Да, литургическое богословие ждет себе возделывателя»48.
Опыт такого «возделывания», только как бы «по касательной» предпринятый в «Столпе», фактически был осуществлен впоследствии в «Философии культа». И здесь, наряду с результатом неизбежного постепенного развития мысли Флоренского, мы имеем более всего реализацию его изначального плана , в соответствии с которым в его трудах разработка своеобразно понимаемой «теодицеи» должна предшествовать «антроподицее». Наиболее полному и конечному их раскрытию в «Философии культа» (преимущественно в лекции «Таинства и обряды», 1918)49 у Флоренского предшествует их краткое обсуждение в речи перед магистерской защитой в мае 1914 г.50 и первое представление в «реферате» 1906 г.51
В обоих случаях речь идет о двух «путях» в религии, или, точнее, в религиозном в развитии эмпирического человека. Разделять их можно только методологически, поскольку, по существу, это одновременные и встречные движения: «вверх» — от человека к Богу («теодицея») и «вниз» — от Бога к человеку («антроподицея»). На первом пути, в процессе богопознания, по преимуществу нужны догматы и, особенно, как показано Флоренским в «Столпе», необходим центральный из них — догмат еди-носущия52. Второй путь ведет к «освящению» человека и мира; именно здесь не отвлеченно-догматически, а, по мысли Флоренского, на самой практике должна раскрываться христология как тайна и центральное таинство Церкви. Иными словами, теория (в древнем смысле этого слова, как созерцание, переживание догматической истины) первого пути должна сопровождаться реальным, онтологическим причастием эмпирии к обожающим Божественным энергиям. Последнее и осуществляется в церковном богослужении, в его средоточии — таинствах и в средоточии всех таинств — Евха-ристии53. Методологически разделяя эти пути, Флоренский в своих собственных работах сначала реализует «опыт православной теодицеи» («Столп») и только затем обращается к богословско-философскому и научному анализу богослужения. Впервые упоминающий об этих планах «реферат» 1906 года, таким образом, отражает данный замысел в самих его истоках и, в этом смысле, интересен не только представленной там программой построения «опытной догматики». В нем уже звучат те самые идеи, которые получат свое наиболее полное раскрытие и развитие в «Философии культа». И при этом то, как именно они здесь представлены, позволяет с достаточной долей уверенности выявить основные источники, оказавшие определяющее влияние на всю специфику «возделывания» Флоренским православного литургического богословия.
«Присутствие» Владимира Соловьева во всех жизненных планах и теоретических построениях раннего Флоренского совершенно очевидно и специальных доказательств, как представляется, не требует. Гораздо менее исследована связь его концепций с трудами двух других мыслителей, также бывших, в разной степени, последователями Соловьева, с которыми Флоренскому довелось иметь также и личное общение. Оба они, в числе прочего, занимались с самого начала весьма близкой Флоренскому темой истории древнегреческих религиозных культов и мистерий, причем первый — Сергей Николаевич Трубецкой — проводил исследования на достаточно высоком академическом уровне, а второй — Вячеслав Иванович Иванов, анализируя известные ему исторические факты, подходил к проблеме с религиозно-мистической точки зрения.
С. Н. Трубецкой
Сергей Николаевич Трубецкой был одним из тех профессоров Московского университета, которых Флоренский сразу отметил, как «ученика» Владимира Соловьева54. С. Н. Трубецкой организовал для студентов-первокурсников семинары по древней философии, на которых читались диалоги Платона и, несомненно, что, как в связи с Платоном, так и помимо Платона, на этом семинаре он обсуждал идеи своего только что умершего учителя и старшего друга, благодаря чему труды В. Соловьева «оживали» и представлялись особо актуальными для современной религиозно-философской мысли. Уже в конце 1903 г. обретается свидетельство того, что Флоренский достаточно хорошо знает собственные сочинения Трубецкого55, из которых, в данном случае, следует обратить особое внимание на первую диссертацию «Метафизика в Древней Греции» (1890).
Рассматривая вслед за Соловьевым, весь мировой процесс как единое (всеединое) поступательное движение к заранее назначенной цели56, принимая как неоспоримый факт наличие «религиозного всеединого сознания»57 и нисколько не сомневаясь в его столь же всеобщем прогрессивном развитии58, С. Трубецкой задает вполне определенную и однозначную позицию для оценки исторического значения дохристианских мистерий, мифологии и теогонии. «Хаос Гесиода», который «заключает в своем различии потенции всех богов и тварей»59, миф о растерзанном титанами Дионисе, сыне Зевса и Персефоны60 и сказание о том, как «из пепла титанов, пожравших Диониса, и крови Геры, возникают люди, имеющие в себе часть титанического и часть божественного естества»61, учение Эмпедокла, у которого Любовь вначале «заключает полноту вещей, собирая их в одно вселенское тело», а «затем Вражда растерзывает это тело, ... вселяется в него..., чтобы вновь возвратиться в единство путем мирового процесса»62 и т. д., — все это, в рамках такого подхода, требует к себе самого серьезного отношения как различные исторические отражения и преломления постигаемой человечеством «всеединой истины»63.
С. Трубецкой обнаруживает «естественный инстинкт, внушенный природой разнообразным народам»64, и полагает, что посредством этой «естественной религии», дошедшей в мистериях до вывода о необходимости бога-спасителя и освободителя, древний мир оказался подготовленным к восприятию христианства65. Задавая тему выяснения значения «мистерий как совершенного культа»66, С. Трубецкой в дохристианских мистериях наблюдает прозрение в состояние природы, которая «стенает, мучится и плачет по погибшей душе» и являет в себе «усилия воскресения»67. «Грек, — пишет С. Трубецкой, — совершал таинства натурализма: он приобщался непосредственно производящим силам природы, он верил непосредственно в богов хлеба и вина и думал жить и возрождаться их внутреннею силою»68. Но «богов хлеба и вина» в метафизике С. Трубецкого, реально не существует, точно также, как и приобщение человека «производящим силам природы» здесь, очевидно, совершается только в человеческом сознании. Онтологическое значение мистериям Трубецкой придает только в христианстве, которое все «естественные производящие силы природы» пресуществляет «в мистическое тело Господне»69 и дает «сверхъестественное преображение твари и совершенное пресуществление ее в божественное тело»70. Христианство, подчеркивает С. Трубецкой, «не воспринимает в себя языческие мистерии: в своей идее оно пресуществляет их, как все непосредственное и природное»71.
Боговоплощение и последующую за ним христианскую эпоху Трубецкой воспринимает именно как качественную границу, за которой стало возможно реальное онтологическое преображение72. Это дает основание предполагать, что и мифологические образы «хаоса», «титанизма», борьбы в человеке двух начал и т. д. он доносил до студентов как те же ступени дохристианского развития человеческого сознания, обусловленного наблюдением древнего человека за жизнью природы73.
Нетрудно заметить, что именно из такого рода идей Флоренский исходит в своих наиболее ранних работах философско-богословского содержания. Но при этом он, как можно видеть, занял особую позицию, на которой, нисколько не подвергая сомнению новое качество, которое принесло в мировой процесс христианство, мистерии «естественной религии» дохристианского язычества также рассматриваются как вполне реальный и действенный способ приобщения человека к высшим и даже Божественным сферам бытия. Так, уже в диалоге «Эмпирея и эмпирия» (июнь 1904) он пишет о таинствах как особых «объектах», субстанциально отличных от простых обрядов и церемоний74. В таинствах дается переживание эмпиреи и «традиционная теория» таинств, по его убеждению, восходит к «глубокой древности», поскольку уже тогда были известны случаи, «где сквозь эмпирию к сознанию прорывались иные слои действительности»75. На этом примере особенно хорошо видно, как практически то же самое, что С. Н. Трубецкой исследовал лишь на уровне сознания (как эволюцию «всеобщего единого религиозного сознания») Флоренский принимает и начинает далее разрабатывать в плане онтологии76.
Конечно, это — прямое следствие «символического миропонимания», онтологически связывающего все уровни бытия и доставляющего человеку (и всему миру) идеальное обожение вне зависимости от исторического события Боговоплощения77. Если чувственный мир по самому факту своего устроения является «носителем иного мира, телом его, ... воплощает другой мир в себе, ... преобразуется, одухотворяется и превращается тем самым в символ, т. е. органически живое единство... символизирующего и символизируемого»78, то возможность общения с высшим миром открыта всегда и никак не следует все дохристианские представления древних об их причастности мистической жизни природы считать благочестивой иллюзией79.
Соответственно этому, и сюжеты древних мифов должны быть воспринимаемы как отражение и выражение самой реальности происшедшего и происходящего в мире и в человеке. Например, несомненно, что когда Флоренский в дополнительных материалах к «Столпу» сравнивает «Жизнь» и «Смерть» с полюсами одного магнита, которые никакими усилиями, в самом принципе невозможно разделить80, он, в числе прочего, руководствуется и отраженной в мифах идеей о лежащей в основе мира борьбе и единстве противоположных начал. Но С. Трубецкой в своих поисках свидетельств «исхода» древнего язычества к христианству, четко зафиксировал и другую идею — о конечной победе Любви над Враждой, Жизни над Смертью. Разделяясь из единого целого и вступая в противоборство, эти два мировых начала снова приходят к единству81, правда, пройдя (или периодически проходя) через некий максимум превалирования одного над другим. Так Вражда терзает единое «вселенское тело», собранное Любовью, или титаны терзают божественное тело Диониса. В последнем случае важен еще и финал мифа, передаваемый Трубецким как возникновение человечества, имеющего в себе два естества — божественное и титаническое.
Поддержать убеждение в том, что миф каким-то образом отражает мистическое (мистериальное) постижение тайны человека, раннему Флоренскому, безусловно, помогает Соловьев, указавший в «Чтениях о Богочеловечестве», что «вообще человек есть некоторое соединение Божества с материальной природой»82 и что «взаимодействием божественного и природного начала определяется вся жизнь мира и человечества»83.
Весь ход мирового процесса, по Соловьеву, состоит «в постепенном сближении и взаимном проникновении этих двух начал»84. Начало божественное относится к тому в человеке, что связано с его личностью85, но полнота Божества (и, в системе всеединства — всего бытия) личным бытием не исчерпывается. Есть еще то, что Соловьев называет «универсальной божественной сущностью». Это — тот из «божественных элементов», который «был в особенности воспринят гением эллинизма», подобно тому, как другой «элемент» — «безусловная личность Бога» — открылся «по преимуществу гению народа иудейского»86. Представляется, что здесь, в синтезе этих идей с мифологемой божественно-титанической природы человека, лежит основание для развиваемого Флоренским в «Философии культа» оригинального литургического богословия .
В. и. иванов
В 1904–1905 гг., только выстраивая планы постепенного (через разработку «теодицеи») подхода к такому развитию, и «реалистически», в соответствии с концепциями Соловьева, воспринимая добытый и обработанный С. Трубецким фактический материал, Флоренский знакомится с Вячеславом Ивановым, сначала, в основном, заочно, через его первые статьи о культе Диониса, опубликованные в тех же изданиях Мереж ковских, с которыми в те же годы с отрудничал и сам Флоренский87.
По всей видимости, Флоренский обратил особое внимание на Вячеслава Иванова самостоятельно, увидев в его творчестве близкие себе темы, но, несомненно, развитию этого интереса способствовал В. Ф. Эрн. Инициатива состоявшегося в Женеве знакомства с Эрном исходила от самого Иванова88 и в письме Флоренскому осенью 1904 г. Эрн так передавал высказанные в беседе мысли Иванова: «Мне нравится это искание Диониса... Эта радость встречи. Так радостно узнавать Христа под чужою маскою, под чужим именем»89. «Мир, — пишет Эрн со слов Иванова, — это страдающий Бог. Это Божий Сын в разлучности с Богом Отцом» и добавляет от себя: «только в этом видит он (т. е. Иванов — Н. П.) возможность теодицеи». Но «я чувствую, — пишет Эрн, — что Христос для Иванова не есть центр и все, не есть средоточие его жизни и воззрений. Он пусть и радуется Христу — не потому, что это — Хри-

стос, а потому, что это искание и встреча до ставляет ему радость»90. Вячеслав Иванов
Когда Эрн сообщил Флоренскому о пере езде Иванова из Швейцарии в Москву91, Флоренский в ответном письме (25 декабря 1904 г.) высказал намерение лично с ним встретиться92, а в письме Эрну 21 сентября 1905 г. просил достать несколько книг, в том числе и «Религию Диониса» Вячеслава Иванова93. На работу Иванова «Эллинская религия страдающего бога» Флоренский ссылается в своей курсовой работе 1907 г.94, дочери Иванова — Лидии — принадлежит свидетельство того, что Флоренский был на одном из собраний на «Башне» в Петербурге, по всей видимости, в 1907–1908 гг.95 С осени 1913 г. отношения Флоренского с Ивановым уже приняли характер тесного личного общения96: Иванов присутствует на магистерской защите Флоренского (май 1914), после чего Флоренский несколько дней проводит в доме Иванова в Москве97; в 1915 г. Флоренский посвящает Иванову свою работу «Не восхищения непщева» и т. д.
Все это время Флоренский и Иванов взаимно обогащают творчество друг друга, приходя к общему пониманию и общей трактовке целого ряда проблем и вопросов. Достаточно сказать, что оба мыслителя, в целом, идентично осмысляли символ98, двуединство феномена и ноумена99, церковное богослужение как «синтез искусств»100. В «Иконостасе» (1922) Флоренский также, как Иванов (еще в статье 1905 г.) для описания мистического опыта использует понятия «восхождение» и «нисхождение»101 и развивает тему маски (а также отражения и изображения человеческого лица), заданную Ивановым также еще в 1905 г.102Можно заметить еще, что даже в своей критике указанного в «Столпе» «эстетического критерия» церковности Иванов объединяется с Флоренским в признании того, что этот критерий «несомненно, оправдывается в глубинах мистической жизни и на высотах платонического созерцания»103, т. е. — существует действительно духовная красота, по которой можно распознавать подлинность мистического опыта.
По большей части эти параллели в творчестве Флоренского и Вячеслава Иванова уже исчерпывающим образом обозначены в литературе104. Влияние на Флоренского работ Иванова, посвященных культу Диониса, конечно, также отмечено105, но оно представляется гораздо шире и значительнее, чем просто увлечение Флоренского заданной Ивановым темой глубокого духовного единства христианства и дохристианского эллинизма106. Есть свидетельства увлечения Флоренским в 1909 г. и самой мистикой Диониса107, что в условиях уже сформировавшейся к тому времени его церковности показывает, насколько однозначным и несомненным было для него лежащее в глубине духовное тождество дионисийских мистерий и церковных таинств. Флоренский не проводит собственных исследований религии и мистики Диониса, но удивительным образом оказывается почти полностью согласным с выводами Иванова.
В статьях 1904–1905 гг. Вячеслав Иванов представляет практически те же идеи, которые Флоренский выделял в работах С. Трубецкого. «Смерть, — пишет Иванов, — только обратная сторона жизни: это было сознано народной душей прежде, чем провозглашено мудрецами»108. В мифах Дионис растерзывается и пожирается титанами, «из пепла которых возникает род человеческий»109, но это, согласно Иванову, не только прозрение в тайну грядущего христианства, а отражение реального «мистического приобщения» древних «страдающему Всеблагу»110 и постижение ими тайны «вселенского страдания», тайны мира, жертвенно страдающего «чрез разъединение и разъятие божества, в себе единого»111.
«Мы склонный думать, — писал Иванов, — что исследованное нами богопочита-ние обращает нас к самому зарождению религии в человеческом духе и что именно из экстатических состояний души проистекла религия»112. А в статье, опубликованной годом раньше, Иванов выяснил, что в экстазе, переживаемом при закалании или растерзании жертвенного животного, рассматриваемого как Дионис113, отражаются «глубокие и мрачные основы народного богочувствования»114.
Ограничивая свои исследования только собственно культом Диониса, Иванов вполне ясно давал понять, что эти изыскания как для него самого, так и для всего человечества имеют не только чисто исторический интерес. Именно «дионисийская идея». согласно Иванову, дала «культ верховного бога»115, а возникающее христианство восприняло в себя древний религиозный опыт, полученный в дионисийских мистериях116. Но к настоящему времени этот «признак первоначального христианского богочувствования» оказался в определенной степени «затемнен» и «изглажен» из христианского сознания и потому теперь должен быть восстановлен «для полноты христианской жизни»117.
Нетрудно заметить, что Флоренский прямо начиная с «реферата» 1906 г., занялся именно этим. Его, как кажется, менее всего интересовал сам по себе древний культ Диониса, но утрата должного восприятия «мистики жертвы», «мистики крови» для него было равносильно уничтожению религии и самого человека, как живого онтологического единства двух миров, т. е. того единства, которое пошатнулось и которое религия призвана восстанавливать. И Флоренского возвращение в современное христианство отчасти утраченного в нем древнего общечеловеческого опыта. Центральным моментом здесь является полное принятие им тех оснований, по которым Иванов таким общечеловеческим опытом признал именно культ и мистику Диониса.
Вместе с тем, если Иванов хотел, как кажется, просто вернуть в христианство, как он полагал, свойственную ему мистику Диониса, то для Флоренского не такое возвращение само по себе было бы достаточным для «восполнения» христианства. Для Флоренского, воспитанного также еще и на идеях С. Н. Трубецкого, было важным показать, что дохристианский общечеловеческий религиозный опыт — это свидетельство бессознательных порывов человеческого естества, не находящих своего удовлетворения и получивших таковое только во Христе.
«Догматизм и догматика» (1906)
«Реферат» о догматике и «догматизме», прочитанный в начале 1906 г., уже содержит явные свидетельства совершившейся в мысли Флоренского «встречи» Сергея Трубецкого с Вячеславом Ивановым. Флоренский начинает свое выступление с тезиса о том, что «обновленное сознание не удовлетворяется уже простой данностью Бога, но требует еще оправданности Его (подчеркнуто мной — Н. П.»118. Это обновление, как выясняется далее, есть «великая революция духа, внесенная в мир Христом» и превратившая в долг и необходимость то, что прежде, «для мифологического сознания», было «беззаконием»119. Таким образом, «теодицея», как требование истинного познания Бога (а потому, по мысли Флоренского, прежде всего — непосредственного переживания Бога, встречи с Ним «лицом к лицу»120 была запросом человеческого сознания и до христианства; христианство дает возможность такого познания121 и, вместе с тем, позволяет правильно оценить отраженное в дохристианских мифах «богоборство». «Кажущееся богоборство открывается пред исцеленными очами как богоношение», отраженные в мифах «боговосстания» Прометея и Титанов оказываются «довременным» христианством122.
Флоренский везде ведет разговор на уровне человеческого сознания и одновременно как бы устанавливает и тут же размывает четкую границу между христианской и дохристианской эпохами в истории человечества. Христианское сознание знает трансцендентного Бога в то время, как дохристианскому язычеству было доступно лишь созерцание имманентных миру «Сил Божиих». Но при этом христианское «бого-ношение» — это тоже самое дохристианское «бого-борство», только в христианскую эпоху опознанное в своем действительном качестве. «Прометей» и «титаны» — не нечто чуждое человеческой природе, что христианское сознание должно преодолевать, но, напротив, это и есть главный двигатель, направляющий человека к истинному богопознанию.
С. Трубецкой имел в виду подготовку человеческого сознания к христианству через эволюцию в осмыслении периодических процессов жизни и смерти в природе; Флоренский, говоря на его языке, утверждает, что титаническое бого-восстание, направленное на убиение и растерзание бога, было заложено в самой человеческой природе и отражается в человеческом сознании бунтом против какого-либо всемогущего Карателя, Благодетеля и т. п., навязанного ему извне. Приход Христа не устраняет этот бунт, а раскрывает его подлинный смысл и дает ему удовлетворение. Вся основная мысль «реферата» заключается в указании на необходимость обретения современным человеком утраченного религиозного опыта, поскольку без него христианская догматика превращается в отвлеченные схемы и фактически оставляет человеческое сознание без той «революции духа», которую принес Христос. Современный человек бунтует против Бога, не зная того, что этот бунт связан с глубокими «титаническими» реальностями его природы, которые ищут и не находят своего удовлетворения. Им нужно дать правильный выход , — реальным причастием к религиозному опыту, который, как далее будет показывать Флоренский, обретается в христианских таинствах.
-
С. Трубецкой с Вячеславом Ивановым «встречаются» в этих идеях Флоренского не только там, где незаметно совершается переход с уровня сознания на более глубокие основы человеческого существа, но и в самой главной мысли, которая уже руководит Флоренским: христианство действительно обновляет человека, но суть этого
обновления — в опознании происходящего в нем самом, в возможности правильного направления действия тех стихий, которые заложены в его естество.
В «реферате» Флоренский не цитирует историко-религиозные и философские работы Иванова, а лишь дважды иллюстрирует сказанное ссылкой на его стихи. «Солнце Эммауса» первой цитаты123 — это, конечно, просвещающее действие встречи с Христом, причем Флоренский, как можно думать, в это время уже знаком с традиционным восприятием событий, описанных в конце Евангелия от Луки, согласно которому «эммаусские» путники узнают Христа именно после совершенного Им таинства Евхаристии. Вторая цитата — из только что опубликованного в сборнике «Северные цветы Ассирийские. Альманах IV» (1905) стихотворения Иванова «Тантал», в котором богоносец и есть богоборец: «Бога объявший, — с богом он борется; Пламень объявший, пламенем избранный»124.
Лишь частично и в самом общем виде озвучив эти идеи в «теодицее» (начиная с «реферата» 1906 г. и кончая «Столпом», над которым Флоренский, на самом деле, работал с 1904 по 1912–1914 гг.), Флоренский впоследствии продумал и нашел их богословскую интерпретацию (о чем свидетельствуют его записи 1914–1915 гг.125) и представил их в тех лекциях цикла «Философии культа», в которых его «литургическое богословие» непосредственно переходит к анализу церковных таинств. По преимуществу, это лекции «Таинства и обряды» (12–14 мая 1918 г.) и «Семь таинств» (19–20 мая 1918 г.).
«Философия культа» (1918)
О том, что свои мысли по богословской интерпретации «титанического» начала в человеке о. Павел не признавал случайными, о чем свидетельствуют, например, его указания о переписывании некоторых записей, сделанных чуть ранее. Так, вся основополагающая концепция «усии-ипостаси» в человеке, которая представлена в лекциях 1918 г., содержится в записи, датированной 29 декабря 1914 г. и содержащей пометку: «переписано в поезде» 8 февраля 1915 г.126 Здесь сказано, что «титаническое — это из земли выросшее. Титаны — чада земли. Понятно, что выросшее — это эманативное и потому безликое »127.
Противоположное «Титанам» начало в тексте записи и на нарисованной схеме обозначается как «Диавол» с замечательными (правда, не полностью поддающимися расшифровке) пояснениями: «Диавол» — «пусто, но умно»; «Титаны» — по-видимо-му, наполненное онтологическим содержанием, «но глупо»128. Эти два начала здесь же интерпретируются как соответственно «ипостась» и «усия». В Боге они находятся, как очевидно из схемы, в состоянии некоей «связи», тогда как в человеке имеет место «расколотость ипостасного и усийного»129.
Следующие записи, сделанные с ночи 29 декабря до ночи 31 декабря 1914 г., также переписанные и дополненные 8 февраля 1915 г., фиксируют некоторые важные выводы Флоренского: «титаническое начало не грех», «оно, как бытие, — от Бога», но на почве его «стихийной силы» может осуществляться как добро и как зло, творческое созидание или разрушение. Оно — «начало, потенция всякой деятельности»132. Но, само по себе, оно есть «именно аффект , ибо титаническое безумно и безлико, и объяснить ему нет возможности»133.
Называя этот «аффект» ницшеанским термином «Wille zum Macht» — «Воля к власти»134, — и имея в виду стихийное и безумное стремление властвовать «пред Богом и над Богом»135, Флоренский раскрывает свое понимание главной причины Бо-говоплощения: человечеству, в силу такого устроения его природы, нужно было дать возможность «растерзать» Бога. «Растерзав Христа, — записывает он, — человечество сорвало свой гнев на Бога, — и потому во Христе (Христом) примирилось с Богом»136. Этим актом «титаническое приводится на свое место, вправляется в сочленение свое»137.
Здесь, в попытке наиболее адекватно воспринять мысль Флоренского, как представляется, нужно обратиться к одному характерному месту в раннем диалоге «Эмпирея и эмпирия» (июнь 1904). «Своим грехопадением, — пишет там Флоренский, — человек нарушил... мистический порядок бытия..., причем это отношение духа к Божеству первее всякого „состояния сознания“... Человечество не могло из себя создать исцеляющих средств,... а в данном случае нужно было воздействовать в мистической области... У человека не было сил изнутри действовать; потому стал действовать за него Бог», ставший человеком138.
И представляется вполне очевидным, что в записях конца 1914 — начала 1915 гг., о которых идет речь, Флоренский подразумевает ту же последовательность: «грехопадение» как появление дисгармонии усии и ипостаси, стихийное «восстание» титанической усии, которое невозможно было усмирить никакими поучениями и проповедями («объяснить» этому аффекту «нет возможности») и спасительное деяние Божества, которое делается страдательным и удовлетворяет тем самым возникший в человечестве аффект139.
В этом свете, в тех же записях, таинство Евхаристии трактуется как «возвращающееся периодически богоубиение, богозаклание и пролитие Божественной Крови», что «есть условие равновесия титанического начала в человечестве: восстающий гнев удовлетворяется Богом»140. «Только евхаристия может приводить в равновесие противоборствующие ипостась и усию в человеке» (запись 8 февраля 1915 г.)141; и, если «все таинства суть окружение, условие или следствие таинства таинств — евхаристии», а «евхаристия направлена на умягчение именно титанического начала в человеке», то, следовательно, «и вся иерургия имеет не иную цель, хотя бы это непосредственно и не было видно с полной ясностью» (запись 22 февраля 1915 г., «ночное дежурство, санитарный поезд»)142. Очень существенный вопрос о сути той первоначальной ситуации, когда возникла обозначенная дисгармония в человеке усии и ипостаси («грехопадение»), остается в этих записях без ответа, но указано, что «борьбой с диавольским началом в человеке занимается теодицея, борьбою же с титаническим — антроподицея»143.
В самих лекциях по «Философии культа» Флоренский поясняет необходимость рассмотрения человека как «двуединства» ипостаси и усии144, прежде всего, с точки зрения пояснения сути «первородного греха и поврежденности человеческой при-роды»145. В противном случае146, человек воспринимается либо только как одна личность — ипостась, не имеющая «бытийственных корней», либо как голая стихийность, усия. Возникающие при таком рассмотрении, соответственно — варианты морализма (например, Л. Толстой) и имморализма (например, В. Розанов) либо не видят «стихийности» в человеке, либо не допускают «нравственной личности как силы само-определения»147. В обоих случаях, согласно Флоренскому, не признается «порча» человеческой природы, которая («порча») заключается не в самом существовании или в «непригодности» в человеке усии и ипостаси как таковых, «а в разрушении их связи и соотношения, в их несоответствии друг другу, в разложении цельного человека на два не приводимые с тех пор к единству начала»148.
В тексте лекций практически без каких-либо существенных изменений приведена та же схема двух начал — «Титанов» и «Диавола»149, но, в отличие от записей рубежа 1914–1915 гг., дано исчерпывающее пояснение: «В Боге гармония усии и ипостаси . Лицо Божие всецело выражает Его Существо. Существо Его всецело выражается Лицом Его. В человеке, напротив, антиномия полюсов не находится в гармонии: темная подоснова бытия восстает на лик , требуя от него реализации; лик порабощает стихийное волнение, добиваясь своей правды»150. И здесь же делается важное уточнение: теодицея и антроподицея, охарактеризованные в более ранних записях как «борьба» соответственно с ипостасью и усией, теперь названы «путями» их «освящения»151.
В целом, пространным дополнением и пояснением идей, изложенных в записях 1914–1915 гг., является почти вся лекция «Таинства и обряды». Флоренский отмечает, что сама природа человека (усия) и есть та «бездна», которая рождает аффекты152 и которую знал Тютчев153. Это — «прибой стихий», «слепая, напирающая мощь», которая не имеет «в себе смысла»154. Ее называли «дионисическим» началом, но более точно,
«или, по крайней мере, менее двусмысленно» ее следует называть началом титани-ческим155. Как «из земли выросшее», оно «безлико», «вечно алчет, вечно напирает, вечно бунтует», как пучина морская непрестанно бьется о прибрежные скалы»156. Но это — именно та мощь, «в которой начало вещей; это — рождающая бездна», причем — в этом же контексте Флоренский дает здесь ссылки на стихотворение Вячеслава Иванова «Сыны Прометея»157. «Титаническое — потенция всякой деятельности. Оно — по ту сторону добра и зла»158. «Нет стихийности... — нет и реальности: ибо к корням бытия приникаем не иначе, как через свою усию»159.
Никак не обозначая, не обсуждая и вообще не указывая причины описываемой наличной ситуации, Флоренский лишь констатирует: « Природа человеческая... самая мощь человека подверглась тлению». Его титаническое начало саморазлагается и с ним «воистину умирает и самый человек, лишаясь блага — ... мощи, творчества и жизни как бы ни называть его»160. «Спасение» человеческой природы от ее «порока бытия» возможно только в личности, не запятнанной «ни единым движением греха ипостасного», которая смогла бы взять «на себя роковую усийную вину человеческой воли» и в себе самой просветить «светом смысла» «человеческую непокорную усию»161. Таким образом, «вина» и «порок» человеческой усии в том, что на нее не воздействует должным образом человеческая ипостась, не давая ей «смысла». Поэтому, по мысли Флоренского, человеческую усию принимает Ипостась Божественная — совершается Боговоплощение. Происшедшее в человеке «растление» Образа Божия — «разрыв лика и сущности, смысла и мощи» имеет о себе напоминание, выражающееся в бесконечности стремлений — «Прометея ли, Фауста ли, Манфреда... не все ли равно, каким символом изображена она?» Утоление жажды — только «в Едином Источнике, — где единство Сущности и Ипостаси», к которому, однако, нет доступа «отпавшим и распавшимся»162.
Здесь у Флоренского, как представляется, находится ключевой момент всей его концепции: человек раздражается «собою же» и «гневается», как стремящийся к Богу и не способный Его достичь вследствие своей «падшести», «но именно собою же не допускаемый к сознанию своего отпадения»163. Так выражается Флоренским безысходность состояния, когда человек обращает «гнев свой на Бога, — тем далее от Него отпадая», причем «титаническое не может отступиться от своего восстания»164.
И отсюда же, вернее, из такого восприятия устроения и «грехопадения» человека, вытекает понимание необходимости Божественной жертвы. «Полагаю, замечает о. Павел в скобках, — нет нужды напоминать, что разъяснению многих из вопросов, связанных с мистикою жертвы, мы обязаны Вячеславу Ивановичу Иванову»165.
Флоренский говорит практически точно по Иванову: «Эти искания мира с миром божественным чрез пролитие священной крови и вкушения священного мяса древни как мир»; это «самые древние религиозные искания человечества», это «то зерно, около которого сложилась религия»166.
Как известно, передавая в «Воспоминаниях» свои собственные мистические переживания, Флоренский отрицал эволюционизм167, но здесь практически точно следует той эволюционистской парадигме, в которой находился Иванов, полагавший, что человеческий ум развивается168, что религия возникает («проистекает») из экстатических состояний и «религиозные идеи в человеческом духе» зарождаются 169 и т. д.
«Гнев на Бога, — говорит Флоренский, — удовлетворяется только победою над Богом — Его растерзанием, Его убиением, Его кровью ... Боговоплощение, богому-чение, богоубийство... Тогда лишь наступает тишина»170, т. е. не мистерии Диониса, а только реальное, действительное Боговоплощение и следующее за ним реальное «богоубийство» оказывает свое онтологическое воздействие на человеческую природу. «Зиждитель и Спаситель терзается руками человечества — и кровью Своею гасит гнев...»171, — человечество убивает Бога, следуя бессознательным порывам стихии своего естества. «Смерть Христова, всех удовлетворившая, всех искупившая, всех спасшая, не могла не быть ответом на поиски всего человечества: она завершила все частные и предварительно-прообразовательные попытки, не могшие насытить титанические алчбы святой крови »172.
«Мистика жертвы», постигнутая Ивановым и воспринятая им как общечеловеческая основа религии, заключается в приобщении человека к жертвенным страданиям мира как единого божества, претерпевающего «разъединение и разъятие»173. Стоящая за такой интерпретацией жертвы концепция Абсолюта, выделяющего из себя «Свое Другое» (В. Соловьев174), требует утверждение акта Божественного кенозиса и Божественных жертвенных страданий как самой основы мирового бытия. В таком миропонимании сказать, что мир создан для явления Божественной жертвы (или — ради Боговоплощения) не достаточно. Здесь мир сам по себе , как таковой, есть уже Божественная жертва и все, что происходит с историческим Богочеловеком — Иисусом Христом — не более, чем кульминация, «количественный» максимум до того уже имевшего место самоуничижения Божества.
Можно видеть, как Флоренский пытается совместить эту основополагающую парадигму с воспринятым у С. Трубецкого и основанным, как кажется, на своем личном опыте представлением о глубокой качественной перемене, внесенной в мир Христом. Только благодаря Боговоплощению и только после исторического Христа оказывается возможным действительное насыщение «титанической алчбы святой крови». Но сами идеи жертвы и богослужения — изначальные вечные идеи «сотворенного» мира175. Культ, в основе которого лежит периодическое повторение однажды совершенной жертвы Богочеловека176, «и есть та твердая точка мироздания, ради которой и на которой существует вселенная»177. Здесь существенно то, что речь идет не о мире после грехопадения, а о мире как таковом, о самом «сотворенном» бытии. Из этого может следовать только то, что «грехопадение» — это не «случайная», вызванная человеческим своеволием катастрофа, а нечто необходимое, заложенное в сами основы мироздания.
Так или иначе, но мысль Флоренского постоянно вращается вокруг центральных идей всеединства Владимира Соловьева, ярко украшенных «мистикой жертвы» Вячеслава Иванова. Согласно теодицее «Столпа», жертвенный Божественный кенозис имеет место уже тогда, когда Бог поставляет «рядом с Собой» свободную и безусловно ценную Тварь178, а в антроподицее «Философии культа» заложенная в основу бытия мира Божественная жертва раскрывается как акт Боговоплощения и Богоубий-ства, необходимый для удовлетворения стихийного, бессознательного «гнева» твар-ной природы на своего Творца. Стихия тварного бытия, не обретая смысла, восставала на Бога и примирилась с Ним только получив возможность Его убить и растерзать.
Следование мысли Иванова странным образом не позволяет о. Павлу должным образом учесть присутствующие в церковной традиции такие характеристики Евхаристии, как жертвы мирной , бескровной и т. п. Поясняя необходимость участия в Евхаристии, он подчеркивает, что человеку нужно не знать о своем примирении с Богом, а воистину примириться , т. е. — «самому участвовать в титаническом растерзании Пречистого Тела...»179. Согласно Флоренскому, Евхаристия — это «возвращающееся периодически богоубийство, богозаклание и пролитие Божественной крови», завершающееся «богоядением» и «богопитием». Только в таком своем качестве она приводит в «равновесие противоборствующие ипостась и усию человеческого распавшегося, распадающегося существа»180. «Это упорядочение человеческого существа, добавляет о. Павел в следующей лекции («Семь таинств», 19 мая 1918 г.), — мы связываем с термином благодать»181.
Между тем, по-существу, как в рамках «Философии культа», так и во всей «символической» онтологии Флоренского, это и есть сама благодать, поскольку здесь человек, изначально устроенный также, как и Бог (т. е., в данном случае, с точки зрения наличия в человеке и в Боге одного и того же свойства стихийного и личностного начал), через Боговоплощение и посредством своего личного участия в таинстве Евхаристии, онтологически не приобретает для себя ничего нового. Благой дар от Бога, ставшего человеком, умершего, воскресшего и вознесшегося, заключается только в том, что те же самые, что и были в состоянии «грехопадения», усия и ипостась в человеке становятся каждая на свое место. В этом, кончено, хорошо просматривается убеждение Владимира Соловьева в том, что «сотворенный» и «падший» мир — это тот же самый мир Божественный, только с не должным распределением и соотношением своих элементов182. И если онтологическая суть «грехопадения» — «Беспорядок», или, как особо отмечал Флоренский в «Столпе» — «Беззаконие»183, то «спасение»
посредством «благодати» и не должно заключать в себе ничего большего, чем наведение «законности» — восстановление «символической» иерархии уровней Бытия184 и «порядка» — установление такой же, как в Боге, гармонии между сущностью и ипостасью.
Можно попытаться гипотетически обнаружить ту исходную точку, с которой, воспринимая концепции работ Вячеслава Иванова 1904–1905 гг., Флоренский пришел к выводу о возможности интерпретировать «дионисийское» и «аполлинийское» в человеке в богословских терминах сущности ( усии ) и ипостаси . Признавая (в отличие от С. Н. Трубецкого) реальное онтологическое воздействие на человека дохристианских мистерий Диониса и пытаясь понять суть этого воздействия в соответствующих экстатических состояний участников мистерий, Иванов в одном месте отметил, что человеческая личность обособляется любовью, но «корни» личности «глубоко уходят в хаос безличного»185. Религия Диониса предстала пред Ивановым как «религия... разрушения личности и слияния с целым живой природы»186.
Флоренский, как можно показать, с самого начала принял христианскую идею онтологического утверждения (а не разрушения) человеческой личности, но (вероятно, через соответствующую критическую оценку «морализма» Л. Толстого или под влиянием иных факторов) признал неполноту, односторонность восприятия человека только как личности, только как свободного я, стоящего пред Богом187.
Флоренский встал на точку зрения, с которой человек представляется двойственным: он — особая личность, «выделенная» из всего мироздания и, в то же время — органически единая с мирозданием его часть 188.
«Мировой хаос», который, согласно Владимиру Соловьеву, от века существует в Боге и отпускается Богом при «творении» мира «на свободу»189, становится в концепции Флоренского стихийным «титаническим» началом, «правда бытия» которого, не уравновешенная с «правдой смысла»190 и отождествляется с поврежденным, согласно христианскому Откровению, в «грехопадении» человеческим естеством.
Принимая высказанное Ивановым убеждение в том, что отраженный в дионисийских мистериях общечеловеческий религиозный опыт был транслирован в христианство, Флоренский, однако, не может согласиться с радикально импер-соналистическим характером этого опыта. И весьма вероятно, что после периода близкого общения с Флоренским в 1913– 1916 гг., теперь уже под «обратным» влиянием Флоренского, Иванов стал делать акцент не на «разрушении личности» путем блаженного растворения ее во всеединстве бытия, а на достижении целительного успокоения души191.
Список литературы Литургическое богословие в лекциях по «Философии культа» священника Павла Флоренского: основные особенности и источники
- Андроник (Трубачев), игум. Из истории создания цикла «Философия культа (Опыт православной антроподицеи)» // Флоренский П., свящ. Собрание сочинений. Философия культа (Опыт православной антроподицеи). М., 2004.
- Иванов Вяч. Дионис и прадионисийство. Исследования. М., 1994.
- Иванов В. Религия Диониса // Вопросы жизни. 1905. № 7.
- Иванов В. Эллинская религия страдающего бога // Новый путь. 1904. №. 1.
- Иванов В. Эллинская религия страдающего бога // Новый путь. 1904. №. 2.
- Обретая путь. Павел Флоренский в университетские годы / автор-составитель П. В. Флоренский: В 2 т. Т. 2. М.: Прогресс-Традиция, 2015.
- Переписка Вячеслава Иванова со священником Павлом Флоренским // Вячеслав Иванов. Архивные материалы и исследования. М., 1999.
- Переписка П. А. Флоренского и В. Ф. Эрна / публ., комм. Н. Н. Павлюченкова // Русское богословие. Исследования и материалы. М.: ПСТГУ, 2014.
- Переписка П. А. Флоренского и В. Ф. Эрна / Публикация, коммент. Павлюченкова Н. Н. // Русское богословие: исследования и материалы. Выпуск 2. М.: Издательство ПСТГУ, 2015.
- Переписка В. Ф. Эрна и П. А. Флоренского (1900 — 1911) / публ., комм. Павлюченкова Н. Н. // Русское богословие: исследования и материалы. 2016. М.: Издательство ПСТГУ, 2016.
- Соловьев В. Чтения о богочеловечестве; Статьи; Стихотворения и поэма; Из «Трех разговоров...»: Краткая повесть об Антихристе / Сост. и прим. А. Б. Муратов. СПб.: «Художественная Литература», 1994.
- Соловьев В. С. Сочинения: В 2 т. Т. 1. М., 1988.
- Соловьев В. С. Сочинения: В 2 т. Т. 2. М., 1988.
- Трубецкой С. Н. Метафизика в Древней Греции. М.: Мысль, 2003.
- Флоренский П. А. Вопросы религиозного самопознания // Флоренский П., свящ. Сочинения: В 4 т. Т. 1. М.: Мысль, 1994.
- Флоренский П., свящ. Все думы — о вас. Письма семье из лагерей и тюрем. 1933— 1937. СПб., 2004.
- Флоренский П., свящ. Вступительное слово пред защитою на степень магистра книги «О Духовной Истине», Москва, 1912 г., сказанное 19-го мая 1914 года // Флоренский П. А. Сочинения. Т. 1 (2). Столп и утверждение Истины. М., 1990.
- Флоренский П., свящ. Детям моим. Воспоминания прошлых дней. М,: Московский рабочий, 1992.
- Флоренский П. А. Догматизм и догматика // Флоренский П., свящ. Сочинения: В 4 т. Т. 1. М.: Мысль, 1994.
- Флоренский П. А. Сочинения. Т. 1 (1). Столп и утверждение Истины. М.: Правда, 1990.
- Флоренский П., свящ. Собрание сочинений. Философия культа (Опыт православной антроподицеи). М., 2004.
- Флоренский П. А. Эмпирея и эмпирия // Флоренский П., свящ. Сочинения: В 4 т. Т. 1. М.: Мысль, 1994.
- Флоренский П., свящ. Храмовое действо как синтез искусств // Флоренский П., свящ. Избранные статьи по искусству. М., 1996.