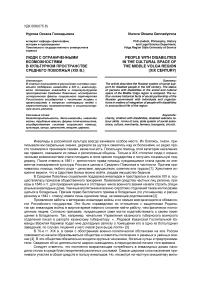Люди с ограниченными возможностями в культурном пространстве Среднего Поволжья (XIX в.)
Автор: Нурова Оксана Геннадьевна
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Культурология
Статья в выпуске: 18, 2015 года.
Бесплатный доступ
В статье описывается российская система социальной поддержки инвалидов в XIX в.; анализируется положение инвалидов в социокультурном пространстве Среднего Поволжья; исследуются исторические факты социального партнерства Российского государства с частными лицами и организациями в вопросах интеграции людей с ограниченными возможностями в социокультурную жизнь региона.
Благотворительность, дети-инвалиды, инвалиды войны, трудовые навыки, формы попечительства, государственная система социальной помощи, культура, купцы, крестьяне, мещане, церковь
Короткий адрес: https://sciup.org/14937565
IDR: 14937565 | УДК: 008(075.8)
Текст научной статьи Люди с ограниченными возможностями в культурном пространстве Среднего Поволжья (XIX в.)
Инвалиды в российской культуре всегда занимали особое место. Их боялись, гнали, приписывали им сакральные знания, держали за шутов и смеялись над их болезнями, но редко просто понимали и принимали такими, какие они есть. Посильную помощь этой категории населения, как правило, оказывали их семьи и религиозные общины. Только в XIX столетии люди с ограниченными возможностями стали попадать в поле зрения государства и получать социальную поддержку. После отмены в 1861 г. крепостного права помощь нуждающимся стала одним из элементов повседневной культуры России в целом и Среднего Поволжья в частности. Причем принималась помощь любого рода – деньгами, имуществом, советом или трудом [1]. Христиане искренне верили, что в Царствие Божье можно войти, раздав имущество бедным.
В Среднем Поволжье социальная поддержка инвалидов и престарелых в начале XIX в. осуществлялась приказом общественного призрения. Привлекая средства частных лиц региона, приказы в 1840-х гг. для призрения увечных и отставных чинов военного звания начали строить специальные инвалидные дома. Увечные воспитанники военно-сиротских отделений также могли размещаться в богадельне. Причем право бесплатного приема в богадельни (по уточненному и расширенному в 1842 г. списку) имели лишь одинокие лица, не имеющие родственников [2].
Проявление заботы о ветеранах-инвалидах войны и их семьях всегда входило в обязанности Российского государства. Это было справедливо по отношению к защитникам Родины, так как инвалидам войны в мирное время намного сложнее найти работу, чем физически полноценным людям. Согласно приказам, нуждающиеся сами могли ходатайствовать о своем помещении в богадельню. Так, например, начальник Управления казанского губернского воинского отделения писал в рапорте казанскому губернатору: «...Рядовой Казанской Госпитальной Команды Василий Каримов подал мне докладную записку о помещении его в одно из богоугодных заведений, по случаю лишения у него левой руки выше локтя» [3].
В 70-е гг. XIX в. в связи с обострением военно-политической обстановки на юге России повсеместно начали образовываться общества и комитеты попечения о раненых и увечных воинах [4]. В эти общества обязательно входили крупные чиновники, богатые купцы и предприниматели. Сведения об их деятельности широко освещались в периодической печати того времени.
Следует отметить, что постоянно возрастающая потребность в инвалидных домах находила отклик в среде благотворителей различных сословий. Самые широкие слои населения принимали участие в сборе средств в пользу инвалидов. Но, несмотря на частную инициативу мило- сердных людей, на создание таких домов уходило очень много времени. Например, в Новгородской губернии на устройство Суворовского инвалидного дома потребовалось 7 лет. Организаторы, кроме объективных причин, сталкивались с бюрократической бумажной волокитой, так как для сбора благотворительных средств требовалось разрешение самого государя на открытие подписки пожертвований и др. [5, с. 49].
В богадельнях большинство призреваемых находились на самообслуживании. Если богадельни были переполнены, то приказ стремился выдавать пособия лицам, которых не смогли принять на попечение. Часть нищих и убогих содержались за счет средств от приношений, которые поступали в кружки при церквях, организованных на основании распоряжения МВД 1846 г. [6].
В пореформенный период наблюдался заметный рост и развитие всевозможных обществ. Например, в Казанской губернии были открыты семь благотворительных обществ [7, с. 120]. Эти общества собирали пожертвования, устраивали в местных гимназиях благотворительные концерты и музыкальные вечера в пользу бедных и инвалидов. Как правило, бюджет обществ составлялся из членских взносов и отчислений от сбора любительских спектаклей.
В деятельности приказов, функционирующих в Среднем Поволжье, как показывает исследование, сочетались открытые и закрытые формы помощи, что соответствовало общей тенденции деятельности государства в этой сфере.
К концу XIX в. проявление заботы социального характера об инвалидах различных контингентов и возрастов выражалось в трех формах попечительства: частного, общественного и государственного порядка. Результатом культурного роста российского общества стало желание многих внести свой вклад в попечение нуждающихся, в том числе и инвалидов.
Представители местной администрации региона, как правило, входили в руководящие органы благотворительных обществ, которые находились под покровительством императрицы, принимали активное участие в организации культурных мероприятий, проводимых совместно с инвалидами. Одним из подтверждений этому служит награждение Василия Авксентьевича Унже-нина (председателя благотворительного общества) дипломом II разряда Всероссийской Нижегородской выставки (1895 г.) за экспонаты общества, изготовленные при участии инвалидов [8].
Активное участие представителей царствующей семьи, деятелей центральной и местной администрации в судьбах людей с ограниченными возможностями нередко носило пропагандистский характер – способствовало созданию образа единения правящих классов с народом, служило показателем их заботы о жизни простого народа, поднимало авторитет как лично государя, так и правительства в целом.
Особое место в работе с инвалидами всегда занимала церковь. Хотя средства церкви непосредственно не направлялись в благотворительные учреждения, но их открытие обязательно освещалось церковью. Церковь всегда старалась быть рядом с людьми, попавшими в критическую ситуацию, и поддерживала любые милосердные начинания.
Надо заметить, что в то время власти понимали необходимость не только призрения, но и обеспечения образованием детей с ограниченными возможностями, ведь они могли в дальнейшем стать полноценными членами общества и выполнять посильную работу, а не становится обузой. Для этих целей открывались различные училища для инвалидов. Так, например, в 1886 г. начало свою работу первое училище для глухонемых детей. Вопрос об его создании был поднят И.Я. Павловским, который сам был отцом двоих глухонемых детей [9, с. 51].
Примером социального партнерства государства и ряда частных лиц стало создание в 1892 г. Казанского отделения Попечительства императрицы Марии Федоровны о слепых. Из ремесленных занятий детям преподавали щеточное и корзинное ремесло, плетение половиков, вязание сетей и чулок, вышивание. Большинство выпускников этого училища могли обеспечивать себя материально. Так, воспитанник училища Григорий Переведенцев, имея постоянную работу в музыкальных магазинах и частных домах, настраивал рояли и получал в месяц до 30 рублей [10, с. 4].
Все обучающиеся в училище дети были православными, хотя при приеме не делалось конфессиональных ограничений. Это было связано с тем, что, например, вероисповедание татар обязывало саму семью заботиться о своих близких, какими бы они ни были. Все дети-инвалиды, обучающиеся в училище, были из крестьянского сословия, за исключением одного мальчика, происходящего из мещан [11, с. 3]. Это свидетельствует о том, что воспитание таких детей в крестьянских семьях было затруднено в силу ограниченности в финансах, времени и отсутствия специального образования для ухода за ними.
Вместе с тем дети-инвалиды занимали особое место в культуре благотворительности, об этом свидетельствует и тот факт, что самые большие суммы выделялись в их пользу. Так, например, чистопольский купец 1-й гильдии В.Л. Челышев пожертвовал 1500 рублей на строительство здания училища для слепых в городе Казани [12, с. 148]. Помощью людям с ограниченными воз- можностями занимались не только люди высоких чинов и званий, чья деятельность активно освещалась по понятным причинам, но и крестьяне и мещане. Сведения об индивидуальной крестьянской благотворительности редко попадали в официальные бумаги, а тем более в печать. Им не нужна была слава, они делали это бескорыстно и самоотверженно.
Однако сведения о таких случаях были обнаружены нами при исследовании епархиальной печати второй половины XIX в. В ее официальных выпусках есть архиерейские благословения и указы о награждении крестьян грамотами за благотворительность и милосердие. Церковь в этот период успешно концентрировала малые пожертвования своих прихожан для оказания помощи нуждающимся.
Инвалиды-глухонемые, наряду со слепыми, находились под опекой благотворительных организаций, преимущественно государственных. Это было связано прежде всего с тем, что первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. показала, что глухонемые занимали второе место по численности среди всех людей с физическими недостатками.
Учитывая бедственное положение этой категории инвалидов, 3 мая 1898 г. было утверждено государственное попечительство над ними и принят устав «Попечительства императрицы Марии Федоровны о глухонемых». Государство старалось, чтобы в поле зрения попечительства попали глухонемые разных возрастов. Приоритетным направлением была подготовка их к трудовой деятельности. Самых одаренных учеников готовили стать учителями в школах, где обучалась данная категория инвалидов. Так, в селе Мурзинке Самарской губернии работала школа-хутор для детей-инвалидов [13].
Забота об умалишенных из купеческих и мещанских семей в начале XIX в. осуществлялась сиротскими судами, которые управляли их имуществом при отсутствии дееспособных мужчин в семье [14]. В конце XIX в. заботу о душевнобольных взяли на себя земские органы власти. В Симбирской губернии работала лечебница для душевнобольных – Карамзиновская колония душевнобольных, построенная на средства Н.М. Карамзина.
Таким образом, люди с ограниченными возможностями в XIX в. из объекта благотворительности стали постепенно превращаться в полноценный субъект традиционной повседневной культуры Среднего Поволжья. В этот период предпринимались попытки включить инвалидов в социокультурную жизнь региона как равноправных членов общества. В условиях либерализации законодательства и благотворительной активности общественности происходило становление организаций и учреждений, в задачи которых входила не только помощь людям с ограниченными возможностями, но и их адаптация к обучению, освоению ремесла, участию в культурно-массовых мероприятиях. Конечно, обеспечить их полную социокультурную интеграцию в XIX столетии не удалось, но положительные тенденции в этом процессе уже наметились.
Ссылки:
-
1. Национальный государственный архив Республики Мордовии (НГАРМ). Ф. 1. Саровский мужской монастырь. Оп. 2. Д. 809. Л. 3.
-
2. Лыкошин П.И. История государственной, общественной и частной благотворительности в России : в 2 т. СПб., 1901. Т. 1. 330 с.
-
3. Национальный государственный архив Республики Татарстан (НГАРТ). Ф. 1. Оп. 3. Д. 954. Л. 16.
-
4. НГАРТ. Ф. 1. Канцелярия казанского губернатора. Оп. 2. Д. 1354. Л. 28.
-
5. Полянский М. Памяти Суворова. К столетию со дня кончины. Новгород, 1900. 82 с.
-
6. Лыкошин П.И. Указ. соч.
-
7. Хайруллина А.Д. Казанские газеты как исторический источник изучения благотворительности (1861–1895 гг.) : дис. … канд. ист. наук. Казань, 1993. 263 с.
-
8. У милосердия древние корни. (Благотворительность и милосердие в Казани в XVIII – нач. XX вв.) : сборник документов и материалов. Кн. 1 / сост. А.М. Димитриева, Р.Р. Исмагилов, Н.А. Шарангина ; отв. ред. Л.В. Горохова. Казань, 2002. 208 с.
-
9. Рафикова Э. Казань никогда не была бедна людьми инициативы, готовыми служить ближнему (Призрение детей-инвалидов в Казани XIX – начала ХХ вв.) // Эхо веков. 2012. № 3–4. С. 50–55.
-
10. Историческая записка о деятельности Попечительства по призрению слепых в Казанской губернии и об открытии в Казани училища слепых детей. Казань, 1898.
-
11. Там же.
-
12. Хайруллина А.Д. Указ. соч.
-
13. Анучин О.И. Государственная система благотворительности в России и Среднем Поволжье // Современная наука: актуальные проблемы и пути их решения. 2014. № 9. С. 130–133.
-
14. НГАРМ. Ф. 20. Саранская городская дума. Оп. 1. Д. 303. Л. 164.
Список литературы Люди с ограниченными возможностями в культурном пространстве Среднего Поволжья (XIX в.)
- Национальный государственный архив Республики Мордовии (НГАРМ). Ф. 1. Саровский мужской монастырь. Оп. 2. Д. 809. Л. 3.
- Лыкошин П.И. История государственной, общественной и частной благотворительности в России: в 2 т. СПб., 1901. Т. 1. 330 с.
- Национальный государственный архив Республики Татарстан (НГАРТ). Ф. 1. Оп. 3. Д. 954. Л. 16.
- НГАРТ. Ф. 1. Канцелярия казанского губернатора. Оп. 2. Д. 1354. Л. 28.
- Полянский М. Памяти Суворова. К столетию со дня кончины. Новгород, 1900. 82 с.
- Хайруллина А.Д. Казанские газеты как исторический источник изучения благотворительности (1861-1895 гг.): дис.. канд. ист. наук. Казань, 1993. 263 с.
- У милосердия древние корни. (Благотворительность и милосердие в Казани в XVIII -нач. XX вв.): сборник документов и материалов. Кн. 1/сост. А.М. Димитриева, Р.Р. Исмагилов, Н.А. Шарангина; отв. ред. Л.В. Горохова. Казань, 2002. 208 с.
- Рафикова Э. Казань никогда не была бедна людьми инициативы, готовыми служить ближнему (Призрение детей-инвалидов в Казани XIX -начала ХХ вв.)//Эхо веков. 2012. № 3-4. С. 50-55.
- Историческая записка о деятельности Попечительства по призрению слепых в Казанской губернии и об открытии в Казани училища слепых детей. Казань, 1898.
- Анучин О.И. Государственная система благотворительности в России и Среднем Поволжье//Современная наука: актуальные проблемы и пути их решения. 2014. № 9. С. 130-133.
- НГАРМ. Ф. 20. Саранская городская дума. Оп. 1. Д. 303. Л. 164.