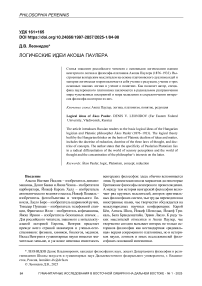Логические идеи Акоша Паулера
Автор: Леонидов Д.В.
Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv
Рубрика: Philosophia perennis
Статья в выпуске: 1 (71), 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья знакомит российского читателя с основными логическими идеями венгерского логика и философа-платоника Акоша Паулера (1876-1933). Выстроенная венгерским мыслителем на основе платоновского дуализма идей и материи логическая теория включает в себя учение о редукции, учение о трех основных законах логики и учение о понятиях. Как полагает автор, специфика паулеровского платонизма заключается в радикальном разграничении мира чувственных восприятий и мира мышления и сосредоточении интересов философа на втором из них.
Акош паулер, логика, платонизм, понятие, редукция
Короткий адрес: https://sciup.org/170209579
IDR: 170209579 | УДК: 161+165 | DOI: 10.24866/1997-2857/2025-1/84-90
Текст научной статьи Логические идеи Акоша Паулера
Аньош Иштван Йедлик – изобретатель динамомашины, Донат Банки и Янош Чонка – изобретатели карбюратора, Йожеф Кароль Хелл – изобретатель автоматического водяного насоса, Йожеф Пецваль – изобретатель фотообъектива и театрального бинокля, Ласло Биро – изобретатель шариковой ручки, Тивадар Пушкаш – изобретатель телефонной станции, Франческо Илли – изобретатель кофемашины, Янош Ирини – изобретатель безопасных спичек… Для российского читателя, знакомого с интеллектуальной историей Европы, Венгрия предстает прежде всего страной инженеров и ученых-естественников: физиков, химиков, биологов, медиков. Вклад Венгрии в гуманитарные науки известен значительно меньше, и уж вовсе невелика известность венгерских философов: здесь обычно вспоминается лишь будапештская школа марксизма да некоторые британские философы венгерского происхождения. А между тем история венгерской философии включает ряд крупных мыслителей, авторов оригинальных философских систем, чьи труды переводятся на иностранные языки, чье творчество обсуждается на международных научных конференциях: Карой Бём, Анталь Шюц, Йожеф Шомодьи, Йожеф Три-каль, Бела Бранденштайн, Эрвин Ласло. К ряду таких мыслителей относится и Акош Паулер, чье творчество сегодня вызывает интерес не только историков философии как нестандартная «радикальная» версия современного платонизма, но и историков науки, логиков и иных исследователей философских оснований математики.
Акош Паулер (9 апреля 1876 г. – 29 июня 1933 г.), сын члена Венгерской академии наук, первого архивариуса Венгерского национального архива, историка и писателя Дьюлы Паулера, рос в интеллектуальном окружении своей семьи, коллег и друзей своего знаменитого отца. Как сообщает в биографической статье о своем учителе, озаглавленной «Начало и конец», ученик нашего философа и также философ Дьюла Корниш, первой крупной и зрелой философской работой юного Акоша, написанной им еще до поступления в университет, но получившей признание в венгерских философских кругах, стала статья под названием «Кантовские исследования», опубликованная в 1893 г. в «Философском журнале» [8, p. 8].
После получения в 1898 г. в Будапеште докторской степени молодой ученый провел один год в Лейпциге и еще один – в Сорбонне. В 1902 г. Акош Паулер стал приват-доцентом в Будапеште, а в 1906 г. – преподавателем этики на юридическом факультете в Пожони (нынешней Братиславе). В 1912 г. он стал профессором философии в Коложваре (ныне – Клуж-Напока), а с 1915 г. – в Будапеште [9, p. 145]. Рассказывая о творческой биографии своего учителя, Дьюла Корниш говорит о десятилетнем увлечении Акоша Паулера позитивизмом, после которого венгерский философ наконец приступает к созданию собственной философской системы. Согласно замыслу венгерского мыслителя, представленному в его опубликованном в 1920 г. в Будапеште magnum opus «Введение в философию», система философии включает в себя пять частей – логику, этику, метафизику, эстетику и идеологию. Разумеется, отдельные части этой системы вызревали в произведениях, опубликованных значительно раньше 1920 г., возможно, даже в то время, которое Дьюла Корниш отнес бы к позитивистскому периоду творчества своего учителя. Нам кажутся несколько наивными, хоть и в образовательных целях полезными, попытки периодизации творческой биографии столь масштабных мыслителей, которые создали собственные философские системы, включающие целые философские науки. В нашем рассказе о системе Акоша Паулера мы последуем классическому – еще ксенократовскому – разделению философских наук на «логику, физику и этику» и начнем с «логики» (с учения о том, как этот мир можно познавать), затем – в последующих публикациях – перейдем к «физике» (к учению о том, как этот познанный нами мир устроен) и завершим «этикой» (учением о том, как при таком устройстве мира в нем следует жить).
Логическое учение Акоша Паулера складывается из трех частей: это учение о редукции, учение о трех основных законах логики (и производном от них законе корреляции), а также наука о понятиях.
Учение о редукции
Учение о редукции является хотя и наиболее важной, но наименее разработанной частью учения Акоша Паулера. «Дедукция от следствия к предшествующему обычно называется редукцией (Зигварт). Однако редукция – это нечто большее , чем особый способ вывода: это, по сути, отдельный и независимый метод исследования, такой же, как индукция и дедукция… Как долго может продолжаться редуктивное исследование философии? Очевидно, до тех пор, пока мы, наконец, не придем к теоремам, которые больше логически не опираются на другой антецедент, то есть чья достоверность основывается на самой себе. И с точки зрения наших знаний это будет видно по тому факту, что мы признаем эти последние фундаментальные принципы действительными самими по себе, без какого-либо дальнейшего обоснования, то есть, что мы сочтем их “самоочевидными”» [13, p. 15–16]. Фактически в приведенной цитате, говоря о редукции как об отдельном виде умозаключения, венгерский логик говорит об операции объяснения и одновременно связывает ее с законом достаточного основания, который в данном случае можно, по-видимому, сформулировать так: «для каждого объяснимого y существует такой далее необъяснимый x , что x является объяснением y ». Можно сказать, что пауле-ровское понимание объяснения предвосхищает дедуктивно-номологическую модель Карла Гем-пеля [7], поскольку необъяснимые x ’ы он прямо называет «принципами», что как раз и подразумевает номологическое понимание объяснения. Отметим также, что венгерский мыслитель не делает попытки дать теоретическое описание редукции: возможно, ввиду недостаточности теоретического аппарата, разработанного европейской логикой к тому времени. О сложности этой задачи писал уже в начале XXI в. знаменитый российский логик В.А. Смирнов: «На протяжении последних ста лет своего развития логика ограничивала свои задачи процедурами доказательства, не претендуя на исследование методов открытия, на исследование процессов творчества. В этом ограничении своих задач был залог многих ее успехов. Однако к настоящему времени разработаны средства, позволяющие исследовать процедуры поиска доказательств и их индуктивного подтверждения» [3, c. 447]. Те приемы редукции, которые демонстрирует сам Акош Паулер в своих философских работах, фактически сводятся к приемам выдвижения и отбраковки объяснительных гипотез, блистательно описанным Дж. Дьюи и названным им рефлексией в его знаменитой работе 1910 г. «Как мы мыслим» [4].
В своей работе «К теории основных законов логики» именно при помощи таких редуктивных процедур венгерский философ приходит к открытию своей версии этих законов: «Поскольку логические принципы являются последним формальным условием правильности или обоснованности каждого возможного суждения, которое далее не может быть проанализировано, их открытие возможно только в том случае, если, возвращаясь все далее и далее в исследовании пресуппозиций, касающихся правильности каких-либо наших знаний, мы наконец наталкиваемся на последние принципиальные предпосылки. Отправной точкой может быть любое суждение, которое считается истинным, например, что Земля вращается вокруг Солнца. Если мы считаем это суждение истинным, то это означает, что оно доказуемо, то есть поддается проверке. А его проверяемость означает, что я могу доказать его истинность с помощью истинного логического метода» [11, p. 12]. Внимательный читатель, конечно, увидит здесь предвосхищение основания: ведь обоснованность редуктивно выведенных принципов здесь утверждается на основании процедуры редукции, чья обоснованность сама основывается на этих же принципах. На самом же деле перед нами аксиоматическое полагание радикальной автономии логики: в более поздней работе венгерский логик заявит еще более категорично: «логическая основа философии никогда не может быть обеспечена опытом, но только наоборот: философия оправдывает метод опыта. Следовательно, говоря точно, опыт в любом случае может только проиллюстрировать какое-либо философское положение, но не обосновать его» [13, p. 19]. Разумеется, заявляемая Акошем Паулером автономия логики отнюдь не означает пренебрежения чувственным опытом, но лишь максимально острое противопоставление чувственного и рационального. Именно в остроте этого противопоставления заключается суть гносеологии венгерского мыслителя.
Дуализм действительности и реальности
В более ранней работе «Природа этического знания» Акош Паулер выражает сущность исповедуемого им дуализма: «Мы должны предположить своеобразный дуализм между действительностью и реальностью в том смысле, что знание и того, и другого можно рассматривать как совершенно своеобразное, автономное в своей области. Ибо знание о действительности имеет совершенно иную природу, нежели знание о какой-либо реальности» [10, p. 20].
Противопоставление действительного и реального миров у Акоша Паулера похоже на противопоставление лектонного и телесного миров у стоиков, но гораздо более радикально. Действительность – по-венгерски érvényesség , существительное, образованное от многозначного глагола
érni «касаться; стоить; созревать». Точнее его можно было бы перевести как «действенность», ибо ее основная характеристика, согласно Акошу Паулеру, – воздействие на разум человека. Реальность же – по-венгерски lét от глагола lenni «становиться; быть, существовать» – только является разуму человека, но не воздействует на него. Не менее часто Акош Паулер использует и слово valóság с тем же значением, производное от формы van «есть» того же самого глагола lenni. Оба этих слова мы переводим словом «реальность», производным от латинского слова res – «вещь», поскольку для венгерского платоника важен именно пассивный, «вещный» характер воспринимаемого физического мира. Действительность – это то, что воздействует на человека, реальность – это то, на что воздействует человек.
Именно недостаточно четкое различение действительности и реальности, по мнению венгерского мыслителя, порождает множество философских споров. Культура различения действительности и реальности, которую начал создавать Платон, мог бы сказать венгерский философ, так и не была развита в европейской философской мысли, выродившись в создание вереницы метафизик, смешивающих действительное и реальное, что в конце концов привело к появлению позитивизма, отрицающего такое различение вообще. Проиллюстрируем мысль венгерского мыслителя простым примером: человек опоздал на поезд. Отсутствие поезда на перроне хоть и не может быть им воспринято как что-то реальное – ведь он, разумеется, видит перрон, рельсы, вокзал и т.д., а не само отсутствие поезда как таковое, однако же воздействует на незадачливого пассажира не менее, чем воздействовал бы реальный поезд: оно заставляет его совершать какие-то действия, сдавать билет, менять свои планы и т.п. Но было бы странно, если бы наш пассажир попытался обращаться с отсутствием поезда так же, как с самим поездом: захотел бы внести в отсутствие поезда багаж, занять в отсутствии поезда место и т.п. Когда, например, Аристотель критикует в своей «Метафизике» Платона, используя аргумент «третьего человека», он, по сути, приписывает действительности свойства реальности, т.е., с точки зрения паулеровского дуализма, поступает столь же нелепо, как человек, пытающийся внести чемоданы в отсутствие поезда. Однако признав однажды действительное реальным, последовательный мыслитель может начать создавать довольно удивительные картины мира, в которых обычным житейским неурядицам вроде опоздания на поезд будет придана значимость мирового масштаба вроде акта самопознания мирового разума или явления божественной любви. Позднее мы увидим, к чему приведет попытка венгерского философа стать большим платоником, чем сам Платон, пока же сосредоточимся на тех результатах дифферен-циирования человеческого опыта, достигнутых венгерским философом, которые были высоко оценены его современниками. «Паулер – самый настоящий платоник, в системе которого эллинизм возродился к новой жизни в двадцатом веке на суровых пейзажах Дуная. Ведь понятно, что только возвращение к эллинской мысли может спасти современную философию от разрушительных вихрей субъективизма, релятивизма и психологизма», – пишет Йожеф Халаш-Надь в своем очерке «Платонизм Паулера» [5, p. 85].
Итак, поскольку мир действительного – или, говоря более привычным нам языком, виртуального, логически возможного – оказывается столь важен, что человек, оперируя его содержанием, создает свой жизненный мир, наука об устройстве этого мире – логика – оказывается наиболее важной частью философии и человеческого знания вообще. Основные законы логики понимаются Акошем Паулером вполне в духе развиваемого им «рафинированного» платонизма, как действительные, т.е. необходимые – но (еще раз это подчеркнем) ни в коем случае не реальные – условия человеческого мышления. Любая попытка выведения законов логики из реальности – биологической, практической, социальной – расценивается венгерским платоником как разновидность релятивизма, категорически им отвергаемого: «Со времен Сократа мы знаем, что сам релятивизм предполагает не изменчивые, не релятивистские, а, следовательно, действительные истины, по крайней мере, те положения, с помощью которых он хочет выразить и удостоверить истинность своей релятивистской позиции. Он рассматривает свой собственный релятивизм как неизменную истину: истину, которая не исчезает, но остается действительной, когда меняются другие истины» [11, p. 38]. То, что Акошу Паулеру, как и множеству других метафизиков, иные, не похожие на их собственные метафизические воззрения кажутся релятивизмом, может показаться свидетельством чрезмерной увлеченности или даже наивности мыслителя, но скорее это должно говорить нам о насущности проблемы виртуального, к исследованию которой приступает венгерский философ.
Учение о трех основных законах логики
Используя прием редукции, Акош Паулер приходит к выводу о том, что «можно продемонстрировать только три логических закона, наиболее общая формулировка которых будет следующей:
-
I. Все вещи в некотором отношении тождественны самим себе ( principium identitatis ).
-
II. Все вещи связаны с другими вещами ( principium cohaerentiae ).
-
III. Все вещи классифицируемы ( principium classificationis )» [11, p. 14].
Известный шотландский философ и логик XIX в. У. Гамильтон в своих «Лекциях по метафизике и логике» заметил, что первые формулировки четырех классических основных законов логики (закона тождества, закона противоречия, закона исключенного третьего и закона достаточного основания) появляются еще у Платона в диалогах «Фе-дон», «Софист», «Государство», «Второй Алкивиад» и «Филеб» [6, p. 87–93]. Формулировки венгерского философа, будучи очевидно связаны с классическими формулировками основных законов логики, по-другому выражают те же самые требования к мышлению, еще более «платонизируя» его. Требования логических законов Акоша Пау-лера сосредоточивают мышление, по-видимому, на самой важной для Платона философской проблеме – проблеме самотождественности вещей. «Все три закона выражают то, что в каждом случае существует нечто, принадлежащее “вещи”, которое дополняет собой понятие о ней. Закон тождества с этой точки зрения говорит, что каждой вещи принадлежит истинное тождество с самой собой; закон связи означает, что каждой вещи принадлежит истинное участие в каком-либо отношении, то есть, что она каким-то образом находится в связи с другими вещами; наконец, закон классификации говорит, что каждой вещи принадлежит истинная связь с каким-либо классом» [13, p. 31].
В дополнение этим к трем законам венгерский платоник выдвигает также закон корреляции, который, однако, является уже не основным законом логики, а скорее ближайшим следствием, вытекающим из них: «Общим королларием всех трех логических законов является тезис о том, что каждой вещи, как обусловленной ( relativum ), соответствует нечто безусловное ( absolutum ). Другими словами, нет относительного без абсолютного. Назовем это законом корреляции. Это, конечно, не закон в том же смысле, что и три вышеприведенных, что в достаточной степени подтверждается тем фактом, что во всех трех логических законах мы можем искать absolutum , то есть абсолютный элемент, абсолютное (предельное) отношение и абсолютный класс - явный признак того, что действие закона корреляции уже скрыто во всех трех логических законах и что это не равнозначный им фундаментальный закон, а следствие каждого из них: их королла-рий» [13, p. 32].
Поскольку в приведенных выше цитатах очевидным образом речь идет об элементах, множествах элементов и принадлежности элементов к множествам, читатель, разумеется, вправе заподо- зрить влияние работ основоположника математической теории множеств Георга Кантора на логическое учение Акоша Паулера. И это действительно весьма вероятно: в сочинении «Проблема понятия в чистой логике» венгерский мыслитель отмечает: «Только новейшая математика под руководством Г. Кантора осознала и поняла, что каждое математическое понятие является разновидностью понятия множества, построенного с некоторой определенной точки зрения, от понятия числа до самых сложных математических понятий. А значит, она признала, что множество является не только самым фундаментальным, но и самым универсальным математическим понятием» [12, p. 18]. Но вместе с тем Акош Паулер настаивает на максимально отчетливом различении логики и математики: «Логика изучает природу всякой истины, но математику интересуют только закономерности определенных объектов. Логика, следовательно, является чем-то более универсальным и фундаментальным, чем математика: поэтому математические формулы и теоремы могут лишь предоставлять аналогии для иллюстрации форм чистой логики, но они не могут объяснить их, и наоборот: логика может объяснить математику. Путаница между этими двумя дисциплинами указывает на высокую степень расплывчатости их основных понятий» [13, p. 35]. Следуя платоновскому (точнее – пифагорейско-платоновскому) пониманию математики, венгерский мыслитель готов отвести математике узкие рамки науки о «чистом» пространстве и времени: «Математика говорит об абсолютном пространстве и времени и основывает на них свои теоремы. Ведь уже то, что объекты реальности не допускают абсолютно точного измерения ни в пространстве, ни во времени, достаточно свидетельствует о том, что математическое пространство и время не абстрагированы из опыта, а являются результатом конструирования» [11, p. 49]. Соответственно этому представлению три основных закона логики преобразуются в три основные аксиомы «чистой» математики:
«Три математические аксиомы звучат, стало быть, так:
-
I. Чистое пространство гомогенно, а чистое время континуально.
-
II. Существует только одно чистое пространство и время.
-
III. Чистое пространство и время бесконечны» [11, p. 52].
Паулеровское «чистое пространство и время» является, таким образом, созданным человеческим разумом пространством рационализации воспринимаемых в опыте объектов реальности, пространственно-временным фоном, на котором человеческий разум рисует картины созидаемых им миров.
Учение о понятии
Учение Акоша Паулера о понятии также основывается на выдвинутых им трех основных логических законах: «сущность понятия состоит в выражении истины тождества вещи с самой собой» [12, p. 11]. Основные свойства понятий также поставлены венгерским логиком в соответствие с этими основными законами: «В чистой логике мы должны, стало быть, различать четыре составляющих элемента понятия, которые вытекают из сущности понятия как тождественной истины: предмет, содержание, объем и отношение» [12, p. 13– 14]. «При ближайшем рассмотрении все составные элементы понятия выражают три момента: тождество, поскольку понятие по самой своей сути представляет тождество вещи с самой собой; и отношение, поскольку оно содержит отношение к другим вещам; и, наконец, классификацию: в той мере, в какой оно может выступать как класс с объемом подчиненных ему понятий, или, напротив, в той мере, в какой оно само уже является элементом какого-либо класса» [12, p. 32–33].
Нам представляется, что рассуждения венгерского философа о понятии подводят его весьма близко к тому, на наш взгляд, исчерпывающему определению понятия, которое спустя полвека дал знаменитый советский логик Е.К. Войшвилло: «Понятие как форма (вид) мысли, или как мысленное образование, есть результат обобщения предметов некоторого класса по определенной совокупности общих для предметов этого класса – и в совокупности отличительных для них – признаков» [2, с. 91].
Самой важной для венгерского логика – и самой платоновской по духу – частью его учения о понятии является выдвигаемое им представление о бесконечной сети действительного знания, доступного человеческому разуму. «Каждое понятие находится в отношении с каждым понятием. Некий всеведущий разум увидел бы все до единого понятия в одной великой системе, в которой истинная связь любого понятия с любым понятием была бы очевидна… Мы должны исходить из того положения, впервые высказанного Больцано, согласно которому истина по самой своей природе безгранична, и действительно, мы можем смело сказать, что существует бесконечное число истин. Ибо, если теорема А истинна, то истинна и теорема А 1 о том, что теорема А истинна, и подобным образом истинна теорема А 2 о том, что истинна теорема А 1 - и так до бесконечности. Эти истины образуют бесконечный ряд, члены которого взаимосвязаны в соответствии с ratio и con-sequentia . И поскольку теорема Больцано применима к любой истине, любая истина может рассматриваться как отправная точка бесконечного ряда истин» [12, p. 22].
Осознание бесконечности истины – этакой сети Индры, в которой каждая из бесконечных истин бесконечно отражает в себе бесконечность всех прочих бесконечных истин, – могло бы привести к мысли о тщетности рационального познания, к обращению к мистицизму, но венгерский мыслитель видит себя слугой не теологии, а науки, научной системности и организованности: «Все до единого понятия образуют одну большую сеть, а та точка в этой сети, к которой принадлежит какое-либо понятие, определяет его таксономическое место. Подчеркивание концепции таксономического места придает теории понятия завершенность, поскольку она освещает с новой точки зрения глубокое различие между позициями чистой логики и практической логики. Согласно первой, таксономическое положение понятия определяется природой понятия, вытекающей из его предмета, содержания, объема и связей, хотя мы не можем полностью знать эти определяющие моменты; согласно второй, то есть практической логике, учитывающей антропологические (психологические) аспекты, таксономическое положение понятия определяется степенью наших знаний, то есть тем обстоятельством, с помощью которого мы действительно можем соотнести данное понятие с другими понятиями. Следовательно, с этой последней точки зрения, таксономическое место понятия меняется: оно подвижно, и его движение определяется развитием наших знаний; тогда как с точки зрения чистой логики таксономическое место все время остается неподвижным и занимает одну и ту же точку в системе истин, которые существуют независимо от нас, независимо от того, можем ли мы указать те логические моменты, которые придают этому месту его полноту, или нет. Исторически понятие таксономического места впервые появляется в теории идей Платона» [12, p. 37–38].
Можно предположить, что учение Акоша Пау-лера о подвижном практическом и неподвижном логическом таксономическом месте каждого понятия является развитием учения упомянутого выше знаменитого чешского логика и платоника Б. Больцано о субъективных и объективных представлениях: «Субъективное представление есть нечто действительное и мыслимое; оно имеет определенное время в душе мыслящего его существа, имеет наличное бытие в разуме представляющего его субъекта… Объективное представление не нуждается ни в каком субъекте, которым бы оно представлялось… Субъективное представление множественно и различно… через представляющих его существ. Объективное представление всегда едино» [1, с. 82].
Наконец, нельзя не отметить позитивного отношения венгерского логика к предстоящей человеческому познанию бесконечности понятий: «Матрица системы истинности состоит из узлов, каждый из которых снова содержит идентичную систему истинности из бесконечно большого числа элементов, или систем понятий, каждая из которых снова содержит систему понятий из такого же бесконечного числа элементов - и, таким образом, до бесконечности. Задача дальнейших исследований в области чистой логики состоит в том, чтобы, частично следуя указаниям теории множеств, частично, возможно, теории групп (Gruppentheorie), углубить концепцию таксономического места таким образом, чтобы объяснить формальные свойства системы истинности и указать на различия, которые существуют между системой истинности, состоящей из бесконечных элементов, и других бесконечными множествами или группами» [12, p. 39].
Заключение
Подводя итог нашему короткому обзору логических идей Акоша Паулера, мы должны признать, что венгерскому мыслителю вполне удалось воплотить в своем учении идеал математического стандарта научности. Паулеровский логик имеет в своей голове прекрасный бесконечный мир понятий, но он и шага не может ступить за границы своей уютной Флатландии в мир реального, чтобы тут же не обвинить себя в страшной ереси релятивизма. Понятно, что такая картина мира весьма далека от платоновской: ведь у Платона идеи крепко связаны с реальностью не только гилеморфизмом и анамнесисом, но и мистическим опытом и доверием к нему (вспомним, например, ключевой момент платоновского «Государства» – посмертное видение воскресшего Эра), и потому реальность у греческого философа столь же важна для развития человеческой мысли, как и идеи. Однако именно эта связь реальности и действительности осталась на периферии интересов венгерского платоника: вмещающая в себя бесконечность «чистая логика» для него оказывается бесконечно важнее логики практической. Но, несмотря на это различие, мы считаем возможным утверждать, что эвристический потенциал логики Акоша Паулера не уступает эвристическому потенциалу логики Платона, ведь математики при всей их отстраненности от реального мира имеют то очевидное преимущество перед остальными учеными, что они способны сами создавать себе миры для изучения.