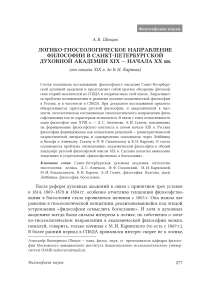Логико-гносеологическое направление философии в Санкт-Петербургской духовной академии XIX - начала XX вв. (от начала XIX в. до В. Н. Карпова)
Автор: Шевцов Александр Викторович
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Философские науки
Статья в выпуске: 6 (71), 2016 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена исследованию философского наследия Санкт-Петербург- ской духовной академии и представляет собой краткое обозрение философ- ских теорий мыслителей из СПбДА и сопричастных этой школе. Затрагивает- ся проблема возникновения и развития духовно-академической философии в России, и в частности в СПбДА. При детальном исследовании предмета обнаруживается присущая русской философии, и академической в част- ности, онтологическая составляющая гносеологического направления фило- софствования как ее характерная компонента. В связи с этим осмысливаются идеи философов еще XVIII в. - Д. С. Аничкова, А. И. Галича, повлиявших на формирование философского контекста в самом начале XIX в. Русская философия формировалась как осмысление рецепций - раннехристианской патристической литературы, и одновременно платонизма: через Лейбница и Вольфа к Аничкову, Галичу и Ф. Ф. Сидонскому и В. Н. Карпову. В статье поднимается проблема «вписывания» академической философии в общий ландшафт русской философской мысли XIX в. Сделана попытка выявления тенденции и устремлений «философствовать в богословии».
Санкт-петербургская духовная академия, онтология, гносеология, логика, д. с. аничков, ф. ф. сидонский, м. и. каринский, м. и. владиславлев, в. н. карпов, а. и. галич, философия платона, идеи лейбница, философия, богословие
Короткий адрес: https://sciup.org/140190242
IDR: 140190242
Текст научной статьи Логико-гносеологическое направление философии в Санкт-Петербургской духовной академии XIX - начала XX вв. (от начала XIX в. до В. Н. Карпова)
а к гносеологии. С развитием гносеологической части теории познания стала возрастать роль онтологии. Это время связано с творчеством А. С. Лубкина (1807), Ф. Ф. Сидонского (1833) и В. Н. Карпова (1856).
Малоисследованными до сих пор остаются работы мыслителей предшествовавшего поколения: Дмитрия Сергеевича Аничкова (1733–1788), философа и математика, профессора логики Московского университета, последователя учений Хр. Вольфа и Хр. Баумейстера; большой интерес представляет дальнейшее изучение наследия Александра Галича, одного из первых русских исследователей «Критики чистого разума» Иммануила Канта. А. И. Галич, И. К. Кайданов, А. П. Куницын были знаменитыми профессорами-геттингенцами, а Галич в 1815 г. некоторое время преподавал философию в Царскосельском лицее, где его захватывающие лекции слушал А. С. Пушкин, который посвятил строки любимому преподавателю (Послание к Галичу, 1815). А. И. Галич учился в Геттингене с 1808 по 1810 гг.1
Прежде чем подробнее остановиться на историко-философской характеристике именно логико-гносеологического вектора развития академической философии, обратимся к общей ситуации в научной жизни Петербурга конца XVIII — начала XIX вв. Поскольку в стенах университета и Духовной академии в то время фактически формировались две различные философские школы, то особый интерес для нас представляет рассмотрение процесса образования философской школы именно в Духовной академии.
учебники и система преподавания философии в СПбДА
До 1830-х гг. философия в СПбДА — программа, ее изложение — практически полностью была представлена по учебникам лейбнице-вольфи-анской метафизики Брукнера и Винклера, а преподавание велось на латинском языке.
Помимо начальных программ и пособий по философии в этот период деятельности СПбДА вышел целый ряд учебников по философии и гносеологии. Это «Опыт системы нравственной философии» Алексея Дроздова (СПб., 1835); «Очерк истории философии по Рейнгольду» Ф. Наде-жина (СПб., 1837) и его же «Опыт науки философии» (СПб., 1845); «Опыт философии природы» И. Кедрова (СПб., 1838).
Программой академического книгоиздания ведал Ф. Ф. Сидонский, возможно, этим обстоятельством объяснялось фактическое дублирование изложения материала, а также присутствие большой доли текстов по психической антропологии (тема Сидонского). Примером и образцом для него служила работа Шульце «Психическая антропология»2.
Вышеперечисленные и другие, еще более ранние академические учебники по философии либо прямо воспроизводили методические установки Ф. Ф. Сидонского с первых страниц, либо же представляли собой выбранные соединения из Канта, Круга, Фихте, Гегеля и Якоби. Читались также курсы, имевшие признаки синтеза антропологии, учений о человеке, человеческой природе и богословия.
Поначалу введения в философию и введения в логику писались и издавались преподавателями духовных академий. Известность получили введения Сидонского (1833), Голубинского и его ученика Кудрявцева-Платонова, конечно же, В. Н. Карпова (1840), П. Линицкого. На «Основные вопросы философии» (Киев, 1901) и «Пособие к изучению вопросов философии» (Харьков, 1892) П. Линицкого. Писались рецензии, прежде всего — профессорами духовных академий. Так, в частности, на «Логику» Линицкого написал серьезную рецензию М. И. Каринский. Причем помимо пропедевтического и умозрительного характера эти введения несли также и требование о необходимости для философии, логики считаться с данными и наблюдениями частных, то есть прикладных, наук. Это видно по текстам Ф. Сидонского и Петра Алексеевича Милославского (1846–1884)3.
Общая философская ситуация в России в XIX в. всегда вызывает несомненный интерес у исследователей. Одной из главных идей исследователя русской философии А. И. Абрамова4, которую он убедительно доказывал, явилось положение, что о философии в России, философствовании и философской культуре в целом и духовно-академической философии в частности, можно утверждать, что «история русской философии есть история русского платонизма»5.
До сих пор бытует мнение о некоторой идейной «отсталости», идеологическом запаздывании университетской философской мысли, и в частности петербургского округа, в связи с закрытием в 1850 г. философских факультетов в университетах России. Хотя данная «приостановка» и продолжалась всего 13 лет, с 1850 по 1863 г., она нанесла существенную травму университетской философии, несмотря на духовно-академическую «подстраховку».
В духовных академиях преподавание философии не прекращалось, что, очевидно, объяснялось строгим характером, царившим в академиях с момента их образования в 1809 г. В России было четыре духовных академии: Московская (МДА), Санкт-Петербургская (СПбДА), Киевская и Казанская, позднее образовалась Харьковская. Нас будет интересовать становление философии и логики в СПбДА.
Целый ряд мыслителей XIX в., так или иначе относились к академической философской школе. Например, воспитанником СПбДА был такой крупный ученый, как почтенный профессор М. И. Владиславлев. Несколько университетских философов перешли на работу в Духовную академию после «изгнания» философии из университетов.
иоганн Фесслер — один из первых преподавателей философии в СПбДА
Трактовку Фесслером философии и существа ее предмета показывал Г. Г. Шпет, обращаясь к ее изложению И. А. Чистовичем. Так, Фесслер определял философию как «очевидное знание разума и деятельную жизнь духа… совершенство [которой заключается] в ее полном единении и сообразности с единою, всеобщею, вечною, божественною религиею…»7.
В Германии подобной идеей руководствовался Фридрих Шлейерма-хер, который считал, что «…под воздействием кантовской философии <с помощью разума человек не открывает законы в природе, а предписывает их ей, ну а потом, „второй“ операцией, — „открывает“>»8. Такова была общая картина преподавания философии в академиях перед реформами, накануне введения Устава 1814 года.
«начертание логики» и философское учение А. С. лубкина
Одним из первых русских преподавателей философии в СПбДА был Александр Степанович Лубкин (1771–1815). Он родился в Костромской губернии, в семье священника, учился в СПбДА и закончил ее в 1792 г. Уже в 1807 г. он написал «Начертание логики», позднее изданное в Петербурге. Лубкин понимал логику как часть философии. Он разделял логику на ее предметную часть, или предметную логику (objective), и на логику внутреннюю (subjectiva). Предметная логика является самой наукой, «научающая изысканию и исследованию истины»9. Внутренней же логикой обусловливается сама познавательная способность человека. Внутренняя логика, по Лубкину, присуща каждому человеку и является его способностью находить и исследовать истину.
Здесь следует отметить, что проблема истины, ее обнаружение, следование истине, стремление к истине — все это было особой чертой, присущей различным толкованиям логики в русской философии конца XVIII в. и всего XIX в.
По мысли А. С. Лубкина, поскольку свойством природы человека является поиск и обнаружение истины, то предметная и внутренняя логики имеют общий источник в понятии истины, а «истина состоит в сообразности мыслей или суждений наших с самыми предметами»10. Термин «сообразность» Лубкина можно толковать как согласование с истиной, уверенность человека в истине, точнее — совпадение в истине.
Лубкин писал, что к такой уверенности, или убежденности, мы приходим или в силу очевидности истины (evidens), или посредством доказательств, когда все варианты отбрасываются как не соответствующие предполагаемым доводам. Таковая истина называется достоверной (certa). Если мы уверены в чем-либо, то это равносильно нашей уверенности в действительности чего-либо. По Лубкину, мы достигаем истины или посредством нашего внутреннего чувства; или сознания внешними чувствами; или посредством раздробления идей и их «соображения»; или же посредством осознания очевидной нелепости противоположных положений, а также благодаря «свидетельствам других людей, которым мы должны верить»11.
Из всех перечисленных способов достижения истины в труде А. С. Луб-кина интересным представляется «способ „соображения“ (synthesis) идей, означающих [схватывание качеств] <…> какой-либо вещи [способом, которым] удостоверяемся мы о возможности ее или невозможности»12.
Заметим, забегая вперед, что позднее М. И. Каринским в «Классификации выводов» (1880) было разработано учение о «сличении» признаков, или предикатов. Очевидно, здесь можно говорить о близости этих двух концепций, то есть понятий «соображения» у Лубкина и «сличения» у Каринского. Можно предполагать и о восхождении теории «самоочевидных истин» Каринского к понятию «соображения» Лубкина. Это указывает как на определенную внутреннюю связь теорий Лубкина и Каринского, так и в целом на общий характер логико-гносеологического направления философии в СПбДА.
Таким образом, уже в гносеологической теории А. С. Лубки-на были предвосхищены или намечены концепции «самоочевидных истин» и «сличения», которые позднее будут подробно рассмотрены у Каринского13.
cоздание нового проекта философии у Ф. Ф. Сидонского
Подлинное обновление было связано с приходом в 1829 г. на кафедру философии Федора Федоровича Сидонского (1805–1873), который опирался уже на собственные наработки, на свои аналитические заметки и конспекты. Только с этого времени стало происходить обновление структуры и материала преподавания. В 1833 г. Сидонский выпустил свою книгу «Введение в науку философии», которая явилась подлинно оригинальным русским учебным пособием по философии. Книга Сидонского заметно отличалась от прежних учебных пособий, проникнутых метафизикой «вольфианского духа», таких как, например, книга Е. Булгариса «Введение в философию» (1805). Сидонский анализировал современную западноевропейскую философию и подчеркивал, что готовые идеи заимствовать нельзя, но их необходимо «согласить» с православной верой. Так Сидонский задолго до славянофилов сформулировал задачу создания оригинальной и самобытной русской философии, усматривая ее будущее в творческом синтезе православия и философии14. Учебное пособие Ф. Ф. Сидонского являлось «научением» (то есть научным пособием), которое призвано было помочь разрешить вопрос о жизни вселенной: размышление, «выведенное из строгого рассмотрения природы нашего ума и проведенное до определения законов, по каким должна направляться наша человеческая деятельность»15.
Подлинной задачей философии является построение гносеологии, космологии и этики. По мнению Сидонского, гносеология должна предшествовать космологии, хотя вопросы космологии, задающие смысл существования человека, всегда были для человека центральными. Хотя познание «заложено в природе человека, лишь в меру [своего] духовного возрастания он видит за внешними явлениями божественные силы; проникая в тайны природы, он одновременно расширяет горизонты познания, ибо все большее число вещей и явлений становится доступным разуму»16. Поэтому философия, по Сидонскому, не только обнаруживает границы познания, выявляет законы космологии, но и согласует всё в рамках богопознания. Таким образом Ф. Ф. Сидонский выстраивал свое «начертание философии» и пытался провести демаркационную линию между истинами знания и истинами веры.
Философия и «Систематическое изложение логики» в. н. карпова
Следующему крупному представителю логико-гносеологического направления в философии СПбДА, профессору Карпову, принадлежит одна из первых книг по логике, опубликованная в 1856 г.17
Помимо того что Василий Николаевич Карпов (1798–1867) получил известность первого переводчика на русский язык почти всех диалогов Платона, он еще был и одним из первых авторов введений в философию18. По учебнику Карпова «Введение в философию» учились в 1840–1850 гг. не только студенты духовных академий, но и студенты университетов. В. Н. Карпов написал и ряд трудов по теории познания, анализу современных философских течений, развивавшихся в европейских университетах19.
В. Н. Карпов понимал логику в ее тесной связи с психологией, как часть психологии: «то, о чем мы размышляем, есть материя мышления; а то, как мы размышляем о материи, то есть каким образом соединяем ее в одну мысль, называется формой мышления»20. Свои логические исследования Карпов согласовывал с внутренним миром человека, логику примирял с проблемой самопознания. Логика у него становилась как бы натуральной, естественной техникой. «Истинная философия действует тоже как бы сама, открывает существенные требования человеческой природы, соглашает их с законами веры и условиями отечественной жизни»21.
На труд В. Н. Карпова по логике написал рецензию Владимир Сергеевич Соловьев. Тема обнаружения идейной связи или критического отображения учения Карпова в знаменитых трудах В. С. Соловьева, например в его докторской диссертации «Критика отвлеченных начал» (1880), а также в более поздней работе — «Философских началах цельного знания»22, — тема отдельного разговора, который, разумеется, потребовал бы специального исследования23. Точно так же потребовала бы отдельного разговора и тема возможно испытанных В. С. Соловьевым идейных влияний М. И. Каринского. О рецепции говорить всегда трудно, но необходимо, тем более что определенные трансляции очевидно имели место от Карпова к Каринскому, от Карпова к В. С. Соловьеву, от Каринского к Соловьеву.
Но если Рейнгольд четко разделял основание элементарной философии на материальное и формальное, где первое есть сознание как факт, а второе — положения сознания и из них выводимые непосредственно и ими конституируемые определения (например, второго, третьего ряда), то Карпов, напротив, — выводил сразу «сверхчувственное», то есть как бы из априори заданной действительности, надстроенной, мета-действительности. В этом смысле концепция Карпова естественным образом и требовала «сверхчувственного» для обоснования своей философии, и опиралась на «сверхчувственное» как свидетельство о божественном.
Густав Густавович Шпет и его «Очерк развития русской философии» (1922)
Этот момент подчеркивал Г. Г. Шпет в своем обстоятельном «Очерке развития русской философии»25, когда писал о том, что Карпов понимал под «истинной философией» философию христианскую , которая должна согласить «требования человеческой природы с внушениями Церкви и Отечества».
Из фундаментального анализа специфики духовно-академической философии, проведенного Г. Г. Шпетом, следовало, что В. Н. Карпов в начале своей работы над переводами Платона опирался на Рейнгольда. Проблема состояла в том, что чистый рационализм Канта никак не годился для обоснований духовно-академической философии. Так как форма изложения философии должна определяться ее предметом, то требовалось показать не ее отдельные части, а подать предмет в цельности, показать его внутреннюю согласованность. Здесь, как показал Шпет, по Карпову выходило, что «субъективное начало философии есть сознание, объективно же — мыслимое, как непосредственное сознаваемое»26.
Отсюда следовало тождество и бытия и сознания, то есть утверждение, что сознание является тождественным началом как бытия, так и познания.
По мысли Г. Г. Шпета, духовно-академическая философия, и в частности ее санкт-петербургская школа, уже в своих началах несла явный отпечаток самостоятельности и самостоятельного рисунка. Шпет пришел к заключению, что «…фактически все-таки Ф. Ф. Сидонский был одним из тех, кто сделал первые наши шаги в направлении к серьезной философии. В Петербургской духовной академии до него уже были вразумляемы Фесслер и Горн, не успевшие сделать и одного шага; он его сделал»30.
Согласно Шпету, это указывало на влияние гегельянства и присутствие, а также воспроизведение модели Гегеля. Например, у Сидон-ского видим следующее подразделение: Логика (гносеология и логика, в собственном смысле), Метафизика (философия Природы, философия Духа, богословие) и Ифика (философия права, философия нравов)31, наличие определенного сходства с Гегелем, как то: трехчастное деление, признаки увеличивающейся абстракции, восхождения. Но, несмотря на прочитываемое с первого взгляда сходство с гегелевской концепцией, это подразделение все-таки носило признаки структуры традиционного характера. Кроме того, части данного подразделения восходили к богословской традиции.
Поэтому философия представала у Карпова непоследовательной дисциплиной, хотя он сам затруднений не испытывал, не терзался, каким образом согласовать, например, самопознание с божественным миром. Если философия необходима как исследовательница человеческой природы, чтобы человек «предался водительству Церкви и Отечества», то и человек поэтому нуждается в истинной и здравой философии, но без рационализма.
Вот здесь в текст Карпова проникают различные «супранатуралис-тические» построения, которые получают выход в виде спиритуализма, хотя бы как различных подтверждений запредельного мира и существования. Вероятно, это было влиянием Гегеля, а поэтому мы можем заключить об испытанном Карповым влиянии гегелевской метафизики. Позднее уже в своей философии Н. Г. Дебольский, исследователь и переводчик Гегеля, также будет говорить о «сверхприродном».
С историко-философской точки зрения в то время в Европе и в России, с одной стороны, было увлечение позитивными философиями, а с другой стороны, нарастало увлечение самопознанием, и как следствие этого возник запрос на спиритуализм. В этом смысле Карпов в своей философии как бы проходил здесь между Сциллой и Харибдой.
Опираясь на историко-философские изыскания, в частности А. П. Соловьева, приходим к выводу, что трансляция Платона и рецепции платонизма в русской философии стали возможны и были подготовлены обращением духовно-академических ученых, находившихся как бы в контексте рационального исихазма, к аспекту лейбнице-воль-фианского платонизма. Поэтому логико-гносеологическое направление в философии духовных академий, в особенности Санкт-Петербургской, приобрело в тот период четко выраженный онтологический оттенок. Так, например, архиеп. Никанор, приступая к своей «Позитивной философии…», делает предложение «согласить философию с православной религией»32. Здесь же А. П. Соловьев заключил в своей монографии о философии архиеп. Никанора (Бровковича), что: «эйдосы, как и абсолютное бытие, есть „силы“. В некоторой степени их можно соотнести с монадами Лейбница…»33.
Пока еще остается совершенно не исследованным вопрос о влиянии на русскую философию идей Густава Тейхмюллера, профессора Дерпт-ского университета, через которого лейбнице-вольфианский дух транслировался в русскую философскую мысль.
Рассматривая общественную интеллектуальную ситуацию во второй половине XIX в. и ближе к рубежу веков, следует отметить, что всё более разветвлявшееся знание и его до сих пор невиданный рост и стимулировали качественно другие потребности в обществе, и вызывали интерес к обоснованию совершенно новых концептуальных форм религии. А так как русское многовековое православное вероучение опиралось в своих догматах на константинопольскую мистически-созерца-тельную почву, то было естественно излишним рассматривать религиозное сознание и предметы религиозной веры сквозь призму философии и уж тем более сквозь призму науки. И. В. Цвык в связи с этим писала, что «…нужно было каким-то образом отвечать на вызов рационализма, показать, что религия не противоречит науке, не есть только результат нерассуждающей веры, что она может быть рационально обоснована. Эту задачу пыталась решить духовно-академическая мысль XIX в.»34.
В этом отношении будет оправданным предположить, что в процессе противоборства с натиском рационализма в светской сфере жизни, последний стал переливаться, перехлестываться и в религиозные области. Это фактическая констатация имевшихся в то время противоречий, причем неразрешимых. Выдвинем гипотезу о существовании (преобразовании в), параллельном с исихазмом, мистическими переживаниями, особой разновидности рационального мира, наличии рядом и рационального «исихазма». Предполагаем, что концепция «рационального исихазма» вызовет закономерное отторжение или правомерные вопросы, поэтому здесь требуется уточнение: под «рациональным», да еще «исихазмом» имеется в виду, например, как признак этого явления, концепция «самоочевидных истин», которую высказал и обосновывал профессор Санкт-Петербургской духовной академии М. И. Карин-ский. Он приложил большие усилия в решении проблемы соотношения мысли и реальности и их фундаментальному обоснованию.
Согласно предложенному И. В. Цвык выделению основных этапов развития духовно-академической философии как этапов философского обоснования религиозных идей, на первом этапе для нее было характерно преобладание вопросов соотношения философии и богословия. Между принятием первого и второго Уставов (1809–1814 и 1869 гг.) основной проблемой для представителей духовных академий была проблема о возможности и допустимости «православной философии» как таковой35.
Таким образом, творчество Карпова носило характер исторической диспозиции, или логико-диспозиционального «сообразования». Карпов зафиксировал предметное устройство, и в этом смысле представил логику предметов как статичную картину онтологии или как эйдетическую картину онтологии. Структура логики и онтология начнет меняться у М. И. Каринского: сама логика переживет кардинальную трансформацию, она будет показана как смешение, где дедукция переходит в индукцию, а умозаключения выполняются от группы значений к агрегату.
Каринский завершает классическую логику, но, используя критический анализ основоположений структур логик в согласии с требованием Канта, критически переосмысливает само устройство логических онтологий. Учение Карпова, таким образом, увенчивало собой классическую модель логики, но в нем проявлялись и отдельные идеи нового. Ка-ринский завершит онтологию, или таксономию, своей классификацией, но и наметит переход от математики в логике к многозначным логикам, то есть к алгебре логики.
Список литературы Логико-гносеологическое направление философии в Санкт-Петербургской духовной академии XIX - начала XX вв. (от начала XIX в. до В. Н. Карпова)
- Абрамов А. И. Голубинский. Гогоцкий. Карпов. Новицкий//Русская философия. Энциклопед. словарь/под ред. М. А. Маслина. М., 1998.
- Абрамов А. И. Философия в духовных академиях//История русской философии/под ред. М. А. Маслина. М., 2001.
- Абрамов А. И. Философия в русских Духовных Академиях: изучение, преподавание, исследования//Сборник научных трудов по истории русской философии/сост., подготовка текста, предисл. В. В. Сербиненко. М.: Кругь, 2005. 544 с.
- Асмус В. Ф. Логика: Учебник. Изд. 3-е. М., 2010.
- Введенский А. И. Логика как часть теории познания. СПб., 1912.
- Владиславлев М. И. Логика: Обозрение индуктивных и дедуктивных приемов мышления и исторические очерки: логики Аристотеля, схоластич. диалектики, логики формальной и индуктивной. СПб., 1872.
- Галич А. И. История философских систем: в 2 т. СПб., 1818-1820.
- Галич А. И. Картина человека: Опыт настав. чтения о предметах самопознания для всех образ. сословий, начерт. А. Галичем. СПб., 1834.
- Гетманова А. Д., Стасюк В. А., Рынковой И. В. Логика (для духовных учебных заведений, а также религиоведческих кафедр). М., 2016.
- Глаголев С. С. Исходные начала логики//Вера и разум. Харьков, 1903.№ 13. С. 23-58; № 14. С. 59-77; № 15. С. 109-144.
- Глаголев С. С. Логика и математика//Научное обозрение.1896.№ 8.С. 241-247.
- Дебольский Н. Г. Философия будущего: Соображения о ее начале, предмете,методе и системе. 2-е издание. М., 2012.
- Джевонс Стенли. Элементарный учебник логики, дедуктивной и индуктивной с вопросами и примерами/пер. М. А. Антоновича. СПб., 1881.
- Каринский М. И. Классификация выводов. Изд. 2-е. М., 1956.
- Каринский М. И. Об истинах самоочевидных. Изд. 2-е. М., 2011.
- Каринский М. И. По поводу полемики г. проф. Введенского против моей книги «Об истинах самоочевидных»//Журнал министерства народного просвещения. 1896. Янв. (№ 1). Отд. 2. С. 243-290. Ч. 303.
- Каринский М. И. По поводу статьи г. проф. А. И. Введенского «О Канте действительном и воображаемом» (начало)//Вопросы философии и психологии. 1895. Январь (кн. 26). С. 20-46.
- Карпов В. Н. Введение в философию. СПб., 1840.
- Карпов В. Н. Взгляд на движение философии в мире христианском и на причины различных ее направлений//ЖМНП. 1856. Ч. 92.
- Карпов В. Н. Философский рационализм новейшего времени//Христианское чтение. СПб., 1860. Кн. 3, 4, 5, 6, 12.
- Карпов В. Н. Вступительная лекция в психологию//Христианское чтение. СПб., 1868. Кн. 2.
- Карпов В. Н. Систематическое изложение логики. СПб., 1856.
- Куценко Н. А. Духовно-академическая философия в России первой поло-вины XIX века: киевская и петербургская школы (Новые материалы)/рец. М. А. Маслин, В. К. Шохин. М.: ИФ РАН, 2005.
- Лубкин А. С. Начертание логики. М.: Издательство ЛКИ, 2011.
- Маслин М. А. Русская философия как единство в многообразии//Русская философия: многообразие в единстве. Материалы VII Российского симпозиума историков русской философии. М., 2001.
- Милославский П. А. Основания философии как специальной науки. Казань,1883.
- Поварнин С. И. Логика отношений. Ее сущность и значение/Главы XII и XIII: Теория М. И. Каринского//Он же. Сочинения/сост., вступит. статья,примеч. В. И. Кобзарь, Т. Е. Сохор, Л. Г. Тоноян (отв. ред.). СПб.: Институт иностранных языков, 2015. С. 370-376. 800 с.
- Предеин Д. Введение в философию: учебник для православных духовных школ. СПб., 2009.
- Продан И. С. «Новая логика»: Критическое исследование и разъяснение новых и старых заблуждений и ошибок. Изд. 2-е. М., 2016.
- Радлов Э. Л. М. И. Каринский. Творец русской критической философии. Пг.,1917.
- Радлов Э. Л. Очерк истории русской философии//Введенский А. И.,Лосев А. Ф., Радлов Э. Л., Шпет Г. Г. Очерки истории русской философии/сост.,вступ. ст., примеч. Б. В. Емельянова, К. Н. Любутина. Свердловск: Издательство Уральского университета, 1991.
- Радлов Э. Л. Ученая деятельность проф. М. И. Каринского//ЖМНП. СПб.,1895. С. 3-54; С. 406-429; С. 302; Дек. С. 281-308.
- Райковский А. И. Логика, описывающая механизм нашей мысли, ее формы и законы на основании здравого, христианством руководимого, смысла, составленная протоиереем А. Райковским. СПб., 1857. Ч. 1.
- Ростиславов И. Санкт-Петербургская духовная академия до графа Протасова//Вестник Европы. 1872.
- Ростиславов И. Санкт-Петербургская духовная академия при графе Протасове//Вестник Европы. 1884.
- Русская философия: Энциклопедия/под общ. ред. М. А. Маслина. Сост. П. П. Апрышко, А. П. Поляков. М. 2014.
- Светилин А. Е. Логика. Обозрение индуктивных и дедуктивных приемов мышления и исторические очерки: логики Аристотеля, схоластической диалектики, логики формальной и индуктивной М. Владиславлева. СПб.1872//ЖМНП. 1874. Ч. 174. С. 284-298.
- Светилин А. Е. Логика. Обозрение индуктивных дедуктивных приемов мышления и исторические очерки: логики Аристотеля, схоластической диалектики, логики формальной и индуктивной М. Владиславлева.СПб. 1872//ЖМНП. 1874. Ч. 175. С. 211-252.
- Светилин А. Е. По поводу «ответа» Владиславлева//ЖМНП. 1875. Ч. 179.Май. С. 175-239; Умеренный материализм. СПб., 1878.
- Светилин А. Е. Учебник формальной логики. СПб., 1871-1916.
- Серебренников В. С. В. Н. Карпов как психолог//Христианское чтение. 1898. Ч. I.
- Сидонский Ф. Ф. Введение в науку философии. СПб., 1833.
- Соловьев А. П. «Согласить философию с православной религией»: идей ноенаследие архиепископа Никанора (Бровковича) в истории русской мысли XIX-XX веков. Уфа: Изд. Словохотов А. А., 2015.
- Соловьев В. С. : Систематическое изложение логики. Сочинение проф. Карпова, 1856//Он же. Письма: Собр. соч. в 4 т. СПб.; Пг., 1908-1923. Т. 3(1911).
- Соловьев В. С. Философские начала цельного знания//Он же. Сочинения. СПб. 1901-1907. Т. 1.
- Устрялов Ф. Н. Воспоминания: Санкт-Петербургский университет в 1852-1856 г. г.//Исторический вестник. СПб., 1884. Т. XVI и XVII.
- Флоровский Г. прот. Пути русского богословия. Вильнюс, 1991. С. 242 (репр. изд. Париж, 1937).
- Цвык И. В. Духовно-академическая философия в России XIX в. М.: Изд-во РУДН, 2002
- Цвык И. В. Преподавание философии в Московской духовной академии XIX в.//Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Философия.2013. № 1.
- Цвык И. В. Проблема соотношения веры и разума в русской духовно-академической философии XIX в.//Вестник РУДН. Серия: Философия. 2011. № 4.
- Чистович И. А. История Санкт-Петербургской духовной академии. СПб.,1857.
- Чистович И. А. Санкт-Петербургская духовная академия за последние 30 лет (1858-1888 гг.). СПб., 1889.
- Шапошников Л. Е. Консерватизм, новаторство и модернизм в православной мысли XIX-XX вв.
- Шевцов А. В. Учение М. И. Каринского и логика отношений С. И. Поварнина//Христианское чтение. № 4. 2016. С. 73-91.
- Шевцов А. В. Философские воззрения М. И. Каринского: Дис. … канд. филос.наук. М.: МГУ им. М. В. Ломоносова, 2014. С. 104-118. URL: htp://new.philos.msu.ru/uploads/media/Schevzov_A. V._thesis.pdf (дата обращения: 03.11.2014).
- Шевцов А. В. Философские воззрения М. И. Каринского//Христианское чтение. № 3. 2015. С. 44-67.
- Шпет Г. Г. Избранные труды. М.: РОССПЭН, 2010. 856 с.
- Шпет Г. Г. Очерк развития русской философии//Введенский А. И.,Лосев А. Ф., Радлов Э. Л., Шпет Г. Г. Очерки истории русской философии/сост.,вступ. ст., примеч. Б. В. Емельянова, К. Н. Любутина. Свердловск: Изд-во Уральского университета, 1991
- Абрамов А. И. Философия в русских Духовных Академиях: изучение,преподавание, исследования//Сборник научных трудов по истории русской философии/сост., подготовка текста, предисл. В. В. Сербиненко. М.: Кругь,2005. 544 с.
- Галич А. И. История философских систем: в 2 т. СПб., 1818-1820.
- Галич А. И. Картина человека: Опыт настав. чтения о предметах самопознания для всех образ. сословий, начерт. А. Галичем. СПб., 1834.
- Задорожнюк И. Е. Сидонский Ф. Ф.//Русская философия: Энциклопедия/под общ. ред. М. А. Маслина. Сост. П. П. Апрышко, А. П. Поляков. М., 2014.
- Карпов В. Н. Введение в философию. СПб., 1840.
- Карпов В. Н. Взгляд на движение философии в мире христианском и на причины различных ее направлений//ЖМНП. 1856. Ч. 92.
- Карпов В. Н. Философский рационализм новейшего времени//Христиан-ское чтение. СПб., 1860. Кн. 3, 4, 5, 6, 12
- Карпов В. Н. Вступительная лекция в психологию//Христианское чтение. СПб., 1868. Кн. 2.
- Карпов В. Н. Систематическое изложение логики. СПб., 1856.
- Куценко Н. А. Духовно-академическая философия в России первой поло-вины XIX века: киевская и петербургская школы (Новые материалы)/рец. М. А. Маслин, В. К. Шохин. М.: ИФ РАН, 2005.
- Лубкин А. С. Начертание логики. М.: Издательство ЛКИ, 2011.
- Маслин М. А. Русская философия как единство в многообразии//Русская философия: многообразие в единстве. Материалы VII Российского симпозиума историков русской философии. М., 2001.
- Милославский П. А. Основания философии как специальной науки. Казань,1883.
- Сидонский Ф. Ф. Введение в науку философии. СПб., 1833.
- Соловьев А. П. «Согласить философию с православной религией»: идейное наследие архиепископа Никанора (Бровковича) в истории русской мысли XIX-XX веков. Уфа: Изд. Словохотов А. А., 2015.
- Соловьев В. С. : Систематическое изложение логики. Сочинение проф. Карпова, 1856//Он же. Письма. Собр. соч.: в 4 т. СПб.; Пг., 1908-1923. Т. 3(1911).
- Соловьев В. С. Философские начала цельного знания//Он же. Сочинения. СПб. 1901-1907. Т. 1.
- Цвык И. В. Духовно-академическая философия в России XIX в. М.: Изд-во РУДН, 2002.
- Чистович И. А. История Санкт-Петербургской духовной академии. СПб.,1857.
- Шапошников Л. Е. Консерватизм, новаторство и модернизм в православной мысли XIX-XX вв.
- Шевцов А. В. Учение М. И. Каринского и логика отношений С. И. Поварнина//Христианское чтение. № 4. 2016. С. 73-91.
- Шпет Г. Г. Очерк развития русской философии//Введенский А. И.,Лосев А. Ф., Радлов Э. Л., Шпет Г. Г. Очерки истории русской философии/сост.,вступ. ст., примеч. Б. В. Емельянова, К. Н. Любутина. Свердловск: Изд-во Уральского университета, 1991