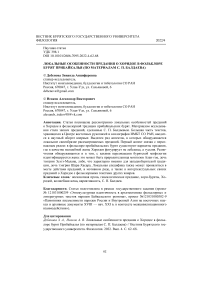Локальные особенности предания о Хоридое в фольклоре бурят Прибайкалья (по материалам С. П. Балдаева)
Автор: Дебенова Зинаида Анциферовна, Исаков Александр Викторович
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Филология @vestnik-bsu-philology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 4, 2022 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена рассмотрению локальных особенностей преданий о Хоридое в фольклорной традиции прибайкальских бурят. Материалом исследования стали записи преданий, сделанные С. П. Балдаевым. Большая часть текстов, хранящихся в Центре восточных рукописей и ксилографов ИМБТ СО РАН, вводится в научный оборот впервые. Выделен ряд аспектов, в которых обнаруживается локальное своеобразие рассматриваемых преданий. Первый аспект связан с персонажным рядом: в фольклоре прибайкальских бурят существуют варианты предания, где в качестве волшебной жены Хоридоя фигурирует не лебедица, а гусыня. Разночтения обнаруживаются и в том, с какими персонажами бурятской мифологии идентифицируется жена: это может быть прародительница монголов Алан-гоа, дочь тэнгрия Эсэгэ-Малана, либо, что характерно именно для западнобурятской традиции, дочь тэнгрия Шара-Хасара. Локальная специфика также может проявляться в месте действия преданий, в мотивном ряде, а также в интертекстуальных связях преданий о Хоридое с фольклорными текстами других жанров.
Несказочная проза, генеалогическое предание, хори-буряты, хоридой, волшебная жена, вариативность, с. п. балдаев
Короткий адрес: https://sciup.org/148325437
IDR: 148325437 | УДК: 398.1 | DOI: 10.18101/2686-7095-2022-4-62-68
Текст научной статьи Локальные особенности предания о Хоридое в фольклоре бурят Прибайкалья (по материалам С. П. Балдаева)
Дебенова З. А., Исаков А. В. Локальные особенности предания о Хоридое в фольклоре бурят Прибайкалья (по материалам С. П. Балдаева) // Вестник Бурятского государственного университета. Филология. 2022. Вып. 4. С. 62‒68.
Изучение фольклорной несказочной прозы бурят остается актуальной исследовательской задачей. В последнее время к этой теме обращался ряд ученых: В. Ш. Гунгаров [7], Б. Б. Бадмаев [1], Л. Ц. Малзурова [8]. Однако к настоящему моменту учёными охвачен далеко не весь имеющийся полевой материал. В частности, в фондах Центра восточных рукописей и ксилографов ИМБТ СО РАН хранится большое количество записей бурятских преданий, значительная часть которых ещё не была вовлечена в научный оборот. Так, например, представляют научный интерес записи Сергея Петровича Балдаева (1889-1979), выдающегося бурятского филолога-фольклориста, который большую часть жизни занимался сбором и изучением устного народного творчества. В частности, большой интерес вызывают записи предания о Хоридое. Это один из центральных текстов хо-ри-бурятского фольклора, сочетающий в себе признаки тотемического и генеалогического предания. Это предание хорошо известно как ученым, так и широким слоям бурятского общества. Помимо активного устного бытования оно было инкорпорировано в тексты бурятских исторических хроник, а также стало основой для ряда литературных произведений. Примечательно, что массовую известность обрела версия предания о Хоридое, зафиксированная у хори-бурят Забайкалья. В этой версии Хоридой обретает чудесную жену-лебедицу, которая становится матерью его 11 (в другом варианте — 6) сыновей — будущих прародителей хоринских родов. Образ предка-лебедицы в мифологическом и художественном сознании хори-бурят сакрализован, он нашёл отражение не только в предании, но и в обрядовом, панегирическом фольклоре, например в распространённой формуле: «Хун шубуун гарбалтай, хуйан модон сэргэтэй» — «С пра-родительницей-лебедицей, с березовой коновязью».
Здесь необходимо заметить, что территория традиционного проживания хори-бурят не ограничена Забайкальем: часть этого племени была расселена и в Прибайкалье, на территории современной Иркутской области [6, с. 51]. Исходя из этого вполне ожидаемо, что среди прибайкальских бурят тоже было распространено предание о Хоридое, и это подтверждается полевыми записями С. П. Балдаева. Как известно, фольклорные сюжеты часто демонстрируют большую пластичность, им свойственна изменчивость во времени и пространстве. Территориальная разобщённость является фактором, способствующим «разветвлению» фольклорной традиции с порождением новых, отличных друг от друга локальных вариантов. Это, как мы сейчас покажем, хорошо наблюдается и в случае с преданием о Хоридое у западных бурят в сравнении с его забайкальскими вариантами. При знакомстве с этими текстами обнаруживаются некоторые особенности, отличающие предания о Хоридое прибайкальских бурят от преданий, бытовавших к востоку от Байкала. Поскольку в научных работах до сего дня предание о Хоридое рассматривалось почти исключительно на материале восточнобурятских текстов, введение в оборот материалов, записанных в Прибайкалье, и анализ их локальных особенностей видятся нам более чем целесообразными.
Материал исследования составляют опубликованные и неопубликованные тексты, записанные С. П. Балдаевым на территории современной Иркутской области в прошлом веке. Один из текстов был опубликован им в книге «Бурят ара-дай аман зохёолой тYYбэри» («Собрание бурятского фольклора») [2, с. 330-331].
Большая же часть материала нигде не опубликована и хранится в личном архивном фонде С. П. Балдаева1.
В проведенном исследовании нами использованы описательный, структурный и сравнительный методы изучения фольклорных текстов. Одним из основных элементов рассматриваемого предания является небесное происхождение сыновей Хоридоя, которые впоследствии и стали основателями 11 хоринских родов. Как мы упоминали, в наиболее распространенном варианте сюжета женой Хоридоя является волшебная дева-лебедь, которая превращается в человека, скинув свое птичье одеяние на время купания. Несмотря на то, что мотив с обращением птицы в прекрасную девушку сохраняется во всех без исключения вариантах, в версиях, записанных С. П. Балдаевым, чудесной птицей является вовсе не лебедица, а гусыня.
Существует лишь один опубликованный вариант предания, где женой Хо-ридоя является гусыня. В записи 1945 г. на бурятском языке [2, с. 330–331] при описании волшебной одежды небесных девушек используется словосочетание «шубуун хубсаhа» – «птичье одеяние». О какой конкретно птице идет речь, становится ясно лишь в самом конце, когда Хоридой, пытаясь удержать вновь обратившуюся в птицу жену, хватает ее грязными руками за ноги: «Тэрээн дээрэhээ галуунай хүлын хара юм» – «И с тех пор у гусей черные лапы».
В процессе работы с личным архивом С. П. Балдаева мы обнаружили ещё ряд записей, в которых также фигурирует жена-гусыня. В деле № 3372 это предание представлено в двух версиях, записанных в 1917 и 1940 гг. Стоит отметить, что они приведены на русском языке, скорее всего — в переводе собирателя. В них используется выражение «гусиное платье». Одна из записей заканчивается сведениями о том, что буряты совершают жертвоприношения весной и осенью во время перелета гусей. У восточных бурят то же самое говорится про лебедей. Из этого можно сделать вывод, что образ гусыни у западных хоринцев функционально идентичен образу лебедицы у восточных хори-бурят.
Также в записи 1917 г. приводится текст призывания на бурятском языке, которое бытовало у бурят Гушитского улуса: «Хон шубуун гарбалимнай» — «Благородные птицы — наше происхождение». Данное призывание также встречается в материалах других собирателей (например, у П. Т. Хаптаева3), и этот текст совпадает с общеизвестным племенным магталом восточных хори-бурят за исключением того, что в забайкальском варианте говорится «хун шубу-ун», а в предбайкальском — «хон шубуун». Слово «хон» в отличие от «хун» не означает какой-то конкретной птицы и может пониматься и как «гусь», и как «лебедь». Привлекает внимание тот факт, что Балдаев слово «хон» всегда переводит как «гусь», в то время как в призывании, относящемся к хонгодорской традиции, «хон» он уже переводит как «лебедь». Тот факт, что собиратель по-разному переводит одно и то же слово в двух разных контекстах, объясняется тем, что он опирался на свой полевой материал.
Нужно отметить, что Балдаев в ряде своих научных работ утверждает, что тотемом хори-бурят является именно гусыня1 [3, с. 16]. Мы попытались прояснить факт появления образа гусыни в предании западных хори-бурят через поиск параллелей в фольклоре родственных народов. В аналитическом каталоге «Тематическая классификация и распределение фольклорно-мифологических мотивов по ареалам» Ю. Е. Березкина и Е. Н. Дувакина [4] имеется раздел под названием «Волшебная жена — лебедь, гусыня, утка, журавль». Здесь можно увидеть, что мотив жены или матери-гусыни присутствует в фольклоре алтайцев, казахов и амурских эвенков. Все эти народы, как и буряты, относятся к алтайской языковой семье. В алтайском сюжете герой старик Танзаган просит у белой лягушки жену и та посылает ему гусыню, что превращается в красавицу, и он берет ее в жены. В казахском сюжете 40 гусынь, вырастивших ханского наследника и впоследствии ставших его женами, являются прародительницами киргизского народа. Название киргизов объясняется как «Кэрэк-Кыз-Каз-Ак» — «40 девиц, гусей белых». Эвенский сюжет в каталоге упоминается, но не приводится. Таким образом мы можем предположить, что образ гусыни связан с общеалтайской мифологией.
Интересно, что в ряде текстов чудесная жена Хоридоя идентифицируется с определёнными женскими персонажами бурятской мифологии. Так, в некоторых записанных С. П. Балдаевым преданиях говорится, что гусыню-прародительницу хоринцев звали Алан-гова . Это один из вариантов имени Алан-гуа — легендарной прародительницы монголов — в бурятском фольклоре. Предания, в которых утверждается, что женой Хоридоя была именно Алан-гуа, были зафиксированы и у восточных, и — как мы сейчас убедились — у западных бурят. (Однако в бурятской традиции существуют и тексты, в которых Алан-гуа называется дочерью Хоридоя.) В одном из вариантов предания, который приводится в работе С. П. Балдаева «Тотемы бурятского народа»2, говорится, что жена Хоридоя была дочерью тэнгрия Шара-хасара и звали ее Гули-дангина. Других текстов о Хори-дое, где бы упоминался тэнгрий Шара-хасар или имя волшебной жены Гули-дангина, нам не известно. Заметим, что более распространена версия, согласно которой жена Хоридоя — волшебная девушка-птица — была дочерью тэнгрия Эсэгэ-Малана.
Среди других примечательных особенностей преданий о Хоридое, собранных С. П. Балдаевым в Прибайкалье, можно отметить необычную локализацию действия в одном из текстов, записанном в 1940 г. в Нукутском аймаке3. Здесь говорится, что девушки-гусыни купались в озере Нүхэн нуур . Есть два озера с таким названием — одно из них находится на острове Ольхон (русское название Нуку-Нур), другое — в Баяндаевском районе Иркутской области (русское название Нуху-Нур). К сожалению, мы не можем точно установить, какое из них имелось в виду рассказчиком предания. При этом во многих других текстах действие предания о Хоридое локализуется на Ольхоне и говорится, что обретение им чудесной жены произошло на берегу Байкала.
В этом же тексте нами замечена еще одна интересная деталь: когда девушки-гусыни прилетели на берег озера и, обернувшись людьми, стали купаться, Хоридой, чтобы остаться незамеченным, превратился в конский помет. В других известных нам текстах мотив превращения Хоридоя отсутствует, как и указание на наличие у героя каких-либо магических способностей. Можно сделать вывод, что данная деталь является нетипичной для предания о Хоридое и выделяется на фоне традиции.
Отдельно хотелось бы остановиться на тексте под названием «Хоредой-мэргэн», зафиксированном в 1934 г. в Качугском районе1. Этот текст начинается с описания генеалогии Хоридоя: говорится, что он был сыном Барга-батора, как и во многих других преданиях о Хоридое. Однако последующий сюжет совершенно не совпадает с традиционным: здесь рассказывается не об обретении волшебной жены-птицы, а о том, как пастух Хоридой обиделся на тэнгрия Эсэгэ-Малана за то, что ворон выклевал его телёнку глаза. Этот сюжет, очевидно, заимствован из бурятской сказки. Так, например, он совпадает с сюжетом сказки «Сирота Боро» («Yншэн Боро»), опубликованной в сборнике «Бурятские волшебные сказки» [5, с. 268–275]. Начало текста ясно даёт понять, что речь идет именно о Хоридое, сыне Барга-батора, а не о каком-то его тезке, т. е. рассказчик имеет в виду того же персонажа, что действует и в предании о женитьбе на девушке-птице. Можно предположить, что обнаруженный нами текст, где «чужой» сюжет приписан Хоридою, свидетельствует о начавшейся циклизации фольклорных сюжетов вокруг образа Хоридоя. Как известно, один из путей фольклорной циклизации — это циклизация вокруг одного главного героя, когда разные сюжеты объединяются общим действующим лицом. Вероятно, подобный процесс циклизации мог начаться и вокруг образа Хоридоя как прародителя племени хори. По всей видимости, этот цикл все-таки не сформировался окончательно и не вошёл в традицию, но определённые предпосылки к этому были.
Итак, мы обнаружили, что в фольклоре прибайкальских бурят существуют варианты предания о происхождении племени хори, где в качестве волшебной жены Хоридоя фигурирует не лебедица, а гусыня. Также нами выделен ряд других локальных особенностей этого предания в фольклорной традиции западных бурят. Как мы видим, в бурятской фольклористике существует проблема большой вариативности генеалогических преданий, на которую необходимо обратить внимание современным исследователям. Остается большое количество архивного материала, не введенного в научный оборот, изучение которого может значительно расширить наши представления о фольклорной традиции бурят.
Список литературы Локальные особенности предания о Хоридое в фольклоре бурят Прибайкалья (по материалам С. П. Балдаева)
- Бадмаев Б. Б. Легендарно-исторические герои в несказочной прозе бурят: диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Улан-Удэ, 2000. 207 с. Текст: непосредственный.
- Балдаев С. П. Бурят арадай аман зохёолой түүбэри. Улан-Удэ: Бурядай номой хэблэл, 1960. 412 с. Текст: непосредственный.
- Балдаев С. П. Родословные предания и легенды бурят. Улан-Удэ: НоваПринт, 2019. 710 с. Текст: непосредственный.
- Березкин Ю. Е., Дувакин Е. Н. Тематическая классификация и распределение фольклорно-мифологических мотивов по ареалам: аналитический каталог. URL: http://www.ruthenia.ru/folklore/berezkin/index.htm (дата обращения: 30.08.2022). Текст: электронный.
- Бурятские волшебные сказки / составители Е. В. Баранникова, С. С. Бардаханова, В. Ш. Гунгаров. Новосибирск: Наука, 1993. 341 с. Текст: непосредственный.
- Буряты / ответственные редакторы Л. Л. Абаева, H. Л. Жуковская; Ин-т этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. Москва: Наука, 2004. 633 с. Текст: непосредственный.
- Гунгаров В. Ш. Современное бытование бурятских легенд и преданий (по материалам полевых исследований в Бурятии и Монголии в 70-90-х годах): автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора филологических наук. Улан-Удэ, 1993. 23 c. Текст: непосредственный.
- Малзурова Л. Ц. Жанровая специфика, типология бурятских легенд и преданий: монография / ответственный редактор С. С. Бардаханова. Улан-Удэ: Изд-во Бурят. гос. ун-та, 2012. 234 с. Текст: непосредственный.