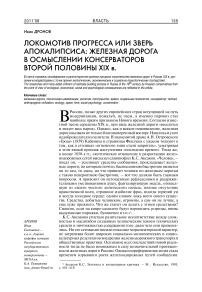Локомотив прогресса или зверь апокалипсиса: железная дорога в осмыслении консерваторов второй половины XIX в
Автор: Дронов Иван Евгеньевич
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Отечественный опыт
Статья в выпуске: 8, 2011 года.
Бесплатный доступ
В статье отражены исследования и разносторонняя критика процесса строительства железных дорог в России XIX в. русскими консерваторами с точки зрения экологических, экономических и социально-психологических последствий.
Железная дорога, техногенная цивилизация, экология, пространство, время, социальная психология, консерватор
Короткий адрес: https://sciup.org/170165954
IDR: 170165954
Текст научной статьи Локомотив прогресса или зверь апокалипсиса: железная дорога в осмыслении консерваторов второй половины XIX в
В России, позже других европейских стран вступившей на путь модернизации, пожалуй, не часы, а именно паровоз стал наиболее ярким признаком Нового времени. Согласно известной песне середины XIX в., при виде железной дороги «веселится и ликует весь народ». Однако, как и всякое нововведение, железная дорога вызвала не только благонамеренный восторг. Нашлись и у нее недоброжелатели и хулители. В знаменитой драме А.Н. Островского «Гроза» (1859) Кабаниха и странница Феклуша с ужасом толкуют о том, как в столицах «огненного змия стали запрягать», усматривая в этом явный признак наступления «последних времен». Тогда же, в конце 1850-х гг., скептическое отношение к разрастанию железнодорожных сетей высказал славянофил К.С. Аксаков. «Человек, – писал он, – усиливает средства сообщения, прокладывает железные дороги, по которым почти с баснословною быстротою является он то там, то здесь; но что привезет человек по железным дорогам с такою невероятною быстротою, – вот что должно быть главным вопросом. А привозит он истощенную рефлексиями и раздражительными умствованиями душу, фантазирующую мысль, отошедшую от своего чистого логического начала, полное отсутствие нравственной воли, страшное изобилие фраз, иногда горячий ум и всегда холодное сердце: одним словом ложь всего своего существа. Средства, добытые человеком, огромны, а сам он не лучше, а еще хуже прежнего. Что же станет он делать с этими средствами? Смешно, если на ковре-самолете будут перевозить устрицы, вновь выдуманные пирожки, булавочки и т.п.»1.
ДРОНОВ Иван
Евгеньевич – к.и.н., доцент к а федры истории Росс и йского госуда р ственного аграрн о го университ е та – МСХА им.
К.С. Аксакова угнетало разительное несоответствие между сложностью и масштабом созданных человеческим гением технических средств и ничтожностью содержания того, ради чего они применялись. Но его сетования носили пока еще морализаторский характер, не затрагивая более широких социально-экономических и социокультурных результатов внедрения железнодорожного транспорта в общественные практики. Осознание всех последствий новой реальности тогда не было возможным в силу незначительной протяженности железных дорог в России. Однако пореформенная эпоха стала временем взрывного роста железнодорожных путей сообщения.
Если в 1861 г. их протяженность составляла всего 1,5 тыс. км, то уже к 1881 г. она достигла 21,5 тыс. км, а к 1900 г. – свыше 60 тыс. км. Закономерно, что в последней четверти XIX в. резко усиливается внимание к уже явственно обнаружившему себя воздействию железной дороги на социальные отношения и социальную психологию. Отклики консерваторов касались преимущественно негативного влияния железнодорожного сообщения на экологию, духовную и социально-экономическую жизнь русского общества.
В речи епископа Херсонского Никанора в октябре 1884 г. анализируется экологическая катастрофа, радикально изменившая ландшафт и топографию русского пространства вследствие строительства железных дорог: «Еще живое поколение, – говорил Никанор, – видело неисходные, почти неизмеримые чащи лесов, а теперь что? На пространстве от Оренбурга до Одессы наблюдательный путник не видит ни одного даже молодого перелеска. Путник этот еще видел целые пущи тысячелетних деревьев-громадин, годных на корабли и прочее. Все пожрано, особенно же около железных дорог».
Железные дороги и промышленность высасывают и земные недра, отравляют водные источники, оставляя вокруг себя лунный пейзаж. Вымирает животный мир, в лесах и рощах уже не услышишь пения птиц за отсутствием какой-либо растительности. Кроме того, говорил епископ Никанор, «для человека истощение лесных чащ гибельно и тем, что эти массы самой цветущей зелени производили массу живительного кислорода и озона, которые так необходимы нам для здорового дыхания, которые, оживляя и укрепляя силы человека, наоборот, губительно действуют на незримые массы вибрионов, подрывающих в самом зерне человеческую жизнь и порождающих повальные болезни». Епископ высказывал серьезное опасение, «как бы земля не стала скоро походить на всемирный паутинник, который опутывает весь земной шар, в котором плавает только отощалый всеядный человек, как голодный паук, не имый кого и что пог-лотити, так как сам же он пожрал, побил, истерзал все живое на поверхности всей земли…»1.
Выдающийся русский консерватив- ный мыслитель К.Н. Леонтьев полностью солидаризировался с мнением епископа Никанора, целиком включив его речь в одну из своих статей («Епископ Никанор о вреде железных дорог, пара и вообще об опасностях слишком быстрого движения жизни», 1885 г.). В том же 1885 г. с анализом духовно-нравственных последствий технического прогресса выступил близкий к консерваторам философ П.Е. Астафьев. Он обратил внимание на то парадоксальное обстоятельство, что с развитием техники, ростом благосостояния и комфорта ощущение счастья и удовлетворенности жизнью лишь уменьшается, а тоска, подавленность и даже отчаяние у современного человека увеличиваются, превращаясь в повальное душевное расстройство. Причиной этого расстройства Астафьев считал в т.ч. изменение пространственновременных условий жизни. Уплотнение времени и сжатие пространства посредством техносферы отражалось в психике человека невероятным ускорением смены образов, впечатлений и настроений, которые она была уже не в состоянии усвоить и переварить. «Какую степень утомления, тоски и скуки может вызвать в душе даже вполне здорового человека слишком быстрая смена столь же быстро возникающих, как и исчезающих впечатлений, – писал Астафьев, – об этом может судить каждый из нас, кому приходилось несколько дней подряд пролетать через Европу в вагоне из одного края в другой». Философ сформулировал даже некий психологический закон, согласно которому «свойства всей нашей душевной жизни стоят в тесной зависимости от скорости в смене наших ощущений, мыслей, чувств и стремлений, которая, переходя за известный предел, меру, – приводит неизбежно к ненормальным, болезненным результатам».
В числе этих средств, ускоряющих перемены в пространственном и социальном положении лиц, предметов и информации, а следовательно, и увеличивающих общественную патологию, Астафьев называет «ежедневно разрастающиеся во всех направлениях железные дороги, телефоны и телеграфы»; «все более и более ускоряющие, расширяющие и облегчающие денежные обороты банки и биржи»; «все более и более открывающие чуть не всякому и облегчающие доступ ко всякой профессии, всякому обществу, всякому общественному и политическому положе- нию разнообразные формы самоуправления и конституции»; «все более и более упраздняющие личную волю, личный труд и личное творчество, все с меньшей затратой душевной работы доставляющие нам все большую массу почти дарового комфорта машины и технические изобретения».
Возможно ли, вопрошает Астафьев, «избежать этой перспективы постоянного возрастания, параллельно росту наших технических богатств, всякого рода страдания человека нашего времени, его скуки, тоски и все более выясняющегося душевного расстройства»? Заключается ли выход в том, чтобы «уничтожить зараз самую причину этого смешения, скуки, тоски, обессиления и безумия, – т.е. сметя сразу с лица земли все эти плоды работы нашего времени, – железные дороги, телеграфы, газеты, банки, конституции, самоуправление и т.п., восстановив во всей целости “блаженную старину”, когда всех этих сокровищ у человека еще не было, а он сам был счастливее и спокойнее и здоровее душевно, чем теперь»1? Астафьев отвергал этот вариант, считая, что уничтожение технических достижений современной промышленности приведет лишь к одичанию человечества. Он уповал на отказ от позитивизма и утилитаризма и обращение к идеалистическому миросозерцанию с его оздоровляющим влиянием на внутреннюю духовную жизнь.
Похожий диагноз болезненного состояния человека современной техногенной цивилизации мы встречаем и в издаваемом князем В.П. Мещерским крайне консервативном журнале «Гражданин». Здесь также связывали возникшую дисгармонию с ускорением движения человека в физическом и социальном пространстве и расстройством его внутреннего хронометра, не приспособленного к подобным скоростям. «Нормальный человек 18 века, – писал сотрудник «Гражданина» И.И. Колышко, – если он был обеспечен в своих физических потребностях, не метался как угорелый и не отступал от своего миросозерцания иначе как под давлением великой идеи и сильной воли»2.
Развитие железнодорожного транспорта ни в коей мере не являлось насущной экономической задачей в России, – так считал и редактор «Гражданина» князь В.П. Мещерский. По его наблюдениям, «железная дорога убивает все до нее бывшие народные ресурсы промысла и заработка там, где она проходит: село, деревня, местечко – все беднеет и рушится»3. «Первобытное состояние аграрной России» обрекало ее на роль внутренней колонии для современных секторов экономики. А произошло это вследствие «внезапной постройки железных дорог в России, которые, создав промышленность и торговлю и содействуя их развитию, проявили обратное и изнурительное влияние на землевладение, земледелие и сельское население России »4.
Вполне естественно, что воздействие железнодорожных магистралей, взрывающих границы замкнутого локального мирка мужиков и помещиков, стягивающих стальными нитями страну в единый общенациональный рынок, внушало серьезные опасения Мещерскому своими революционизирующими социальными последствиями. Поэтому государственные средства, идущие на строительство железных дорог, князь рекомендовал направлять на благоустройство шоссейных и грунтовых дорог в провинциальной глубинке, на организацию мелкого дешевого поземельного кредита, а также на развитие сети церковноприходских школ. Это ему казалось инвестициями в социальную стабильность, в укрепление традиционных форм быта и хозяйства.
Таким образом, консервативные мыслители второй половины XIX в. признавали в железнодорожном транспорте безусловное зло – и с экологической, и с экономической, и с социально-психологической точек зрения. Однако предложить какую-либо реальную альтернативу техногенной цивилизации, кроме возвращения к доиндустриальной старине, которое многие из них (например, П.Е. Астафьев) признавали и невозможным, и нежелательным, консерваторы оказались не в силах.