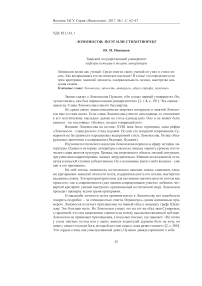Ломоносов: поэт или стихотворец?
Автор: Никишов Юрий Михайлович
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 1, 2017 года.
Бесплатный доступ
Ломоносов велик как ученый. Среди многих своих умений он умел и стихи писать. Как воспринимать его поэтическое наследие? В статье это определяется по трем критериям: масштаб личности, содержательность поэзии, мастерство владения словом.
Ломоносов, личность, интересы, образ строфа, звукопись
Короткий адрес: https://sciup.org/146122011
IDR: 146122011 | УДК: 821.161.1
Текст научной статьи Ломоносов: поэт или стихотворец?
Звонко сказал о Ломоносове Пушкин: «Он создал первый университет. Он, лучше сказать, сам был первым нашим университетом» [3, т. 8, с. 191]. Эта оценка – навсегда. Слава Ломоносова-ученого бессмертна.
Но среди своих энциклопедически широких интересов и занятий Ломоносов еще и стихи писал. Если слава Ломоносова-ученого неоспорима, то отношение к его поэтическому наследию далеко не столь единодушно. Оно и не может быть единым – по пословице: «На вкус, на цвет товарищей нет».
Влияние Ломоносова на поэзию XVIII века было огромным, сама рифма «Ломоносов – слава россов» стала ходовой. Но уже его младший современник Сумароков не без ревности пародировал выспренний стиль Ломоносова. Позже обнаружились претензии к содержанию (Радищев, Пушкин).
Изучение поэтического наследия Ломоносова перешло в сферу истории литературы. Однако и историку литературы совсем не лишнее оценить уровень поэтического дара деятеля культуры. Правда, мы вторгаемся в область эмоций, интуиции. Аргументами корректировать эмоции затруднительно. Мнение исследователя останется в немалой степени субъективным. Но и понимание какого-либо явления – уже шаг к его признанию.
На мой взгляд, значимость поэтического явления можно оценивать такими критериями: масштаб личности поэта, содержательность его поэзии, мастерство владения словом. Эти критерии пригодны для осознания значительности поэтов как прошлого, так и современности (для оценки современников уместно добавить четвертый критерий: умение выстроить оригинальный поэтический мир). Ломоносов проходит проверку всеми тремя критериями.
О масштабе личности поэта применительно к Ломоносову нет надобности говорить подробно – за очевидностью ответа. Ограничусь одним жизненным примером. Ломоносов получает приглашение на званый обед к меценату графу Шувалову. Это большая честь. Но Ломоносов узнает, что на тот же обед зван Сумароков, с гарантией, что они непременно сцепятся на потеху высокопоставленной публике. Ломоносов не принимает приглашения, а посылает письмо, где заявляет: «Не токмо у стола знатных господ или у каких земных владетелей дураком быть не хочу, но ниже у самого господа бога, который дал мне смысл, пока разве отнимет» [2, с. 500]. Эти гордые слова, как унаследованный девиз, Пушкин дважды применит к себе.
Масштабность личности Ломоносова нам видна издалека. Но ее реализация встречала серьезное препятствие: личностное начало в поэзии той поры было не востребовано и не развито. Свои оды Ломоносов писал от имени Академии, интеллектуального цвета нации. В его одах свободно перемежаются обозначения «я» и «мы», «мой» и «наш». Обозначения равноправны, система чередований не просматривается (подробнее об этом см.: [4]).
Но – этакое шило в мешке не утаишь. Даже там, где нет прямого изображения личности, отчетливо проступает изображение опосредованное. Еще Карамзин заметил: «Творец всегда изображается в творении, и часто против своей воли» [1, с. 38]. Личность поэта выявляет себя даже в выборе формы рассуждений: «Сила и мощь ломоносовского поэтического “я” – в его уверенности, что он вправе говорить от имени нации и выражать ее чувства» [4, с. 41].
В поэзию Ломоносова проникают и отдельные биографические штрихи, совсем не обязательные в поэзии того времени. В оде 1764 года поэт предстает не бесплотным рупором нации (исполняя-таки и эту миссию!), но именно биографическим человеком, осознающим, что вступил на финишную дорогу своей жизни. Помечается и его «преклонность века», и «гонящий в гроб недуг».
В самой известной оде Ломоносова 1747 года возникает совершенно неканонический мотив. Говоря о прекрасном лике «доброт» дщери Петровой, поэт неожиданно включает личный, причем профессиональный мотив:
Чтоб слову с оными сравняться,
Достаток силы нашей мал;
Но мы не можем удержаться
От пения твоих похвал [2, с. 44].
А ведь здесь, по современным понятиям, поднимается тема поэта и поэзии, причем не в абстрактном, обобщенном виде, а в резко обозначенном личном преломлении. Уже из уст поэта мы узнаем, что в сознании Ломоносова существовала иерархия его многообразных занятий, где наука стояла на первом месте. Свой поэтический дар великий человек оценивает скромно: «Достаток силы нашей мал» – в соотношении с величием дела, за которое берется. Скромность бывает разная: и та, которая украшает человека, и та, которая паче гордости. Ломоносов обладает чувством меры. Его скромность не переходит в самоуничижение: дескать, извиняйте недостатки моих поэтических упражнений, на большее таланту не хватило. Ломоносов отдает творение читателю с ощущением, что оно выполнено как следует. И слабые силы умножаются: сознание величия дела, которое прославляется, приводит поэта в восторг, который рождает вдохновение: возникает ассоциация с кораблем, ловящим «способный ветр».
В «Разговоре с Анакреоном» Ломоносов вступает в оригинальный открытый диспут с знаменитым греческим поэтом. Здесь даны качественные, профессиональные переводы четырех стихотворений, но на этот раз они сопровождаются личными стихотворениями Ломоносова на те же темы: всякий раз русский поэт занимает контрастную позицию. Это самое наглядное личностное воплощение поэта в его стихах.
Содержательность поэзии Ломоносова не подлежит сомнению. «В сущности, каждая ода Ломоносова – это не похвала, а программа тех политических и культурных мероприятий, которые, по его мнению, должно осуществить русское правительство, если оно действительно хотело блага нации» [4, с. 43]. Во многих случаях поэт занимает своеобразную позицию.
Ограничусь одним примером. Ломоносов – сын XVIII века, века нескончаемых войн. Одна только Северная война со Швецией длилась двадцать один год. Ломоносов, естественно, славит Петра, могущества которого, по уверению поэта, страшился сам Марс и дивился Нептун. В оду 1747 года автор включает строфу хвалы победоносному воину, но заканчивает строфу существенной оговоркой: «грому труб ея <славы> мешает / Плачевный побежденных стон». Когда гром победы раздается, кто слышит плачевный стон побежденных? Чуткое ухо поэта слышит его. Государственнику(!) занимать в XVIII веке пацифистскую позицию означает мыслить подчеркнуто независимо.
Но и самая высокая идейная основа – еще не гарантия значимости поэзии, которая не должна забывать, что она – поэзия, то есть особая, образная форма познания действительности. Поэт – художник слова.
Ломоносов – профессиональный лингвист, автор Российской грамматики; по его книге люди учились владеть родным языком. Мог ли автор сам не освоить этого владения?
Ю. Н. Тынянов определял оду как ораторский жанр. Ломоносов, автор Риторики, владел искусством красноречия. Отсюда – обилие риторических вопросов и восклицаний, стройность речи.
Но Ломоносов-оратор, много рассуждавший в своих стихах, стремится к изобразительности поэтического слова! Кажется, такая задача слишком трудна: поэт широко использует отвлеченные существительные, обозначающие не материальный предмет, а понятия. Помогает метафора-олицетворение. Оду 1747 года начинает обращение к «возлюбленной тишине». «Тишина» вводится не в своем прямом значении (как отсутствие звуков), это метафора, означающая мир, покой, как следствие – благоденствие. Поэт повелевает молчать «пламенным звукам» (опять – оксюморон: звук – колебание воздуха, физически горючего материала не содержит; «пламенные звуки» – это звуки войны, которая пламени производит с избытком).
Поэт может одним взором окинуть огромное пространство, к чему и адресата оды призывает: «Воззри в поля твои широки, / Где Волга, Днепр, где Обь течет…» [2, с. 47]. В натуре можно ли видеть такую ширь? Разве что из космоса, куда выход сделан два века спустя. Но для Ломоносова широкий охват пространства естествен, привычен: он же ученый, карты в его обиходе обычны.
Вот образчик путешествия по карте: «…Амур / В зеленых берегах крутится, / Желая паки возвратиться / В твою державу от Манжур» [Там же, с. 48]. Именно на карте можно видеть извилистость Амура в его верхнем течении. Река не размышляет, течет там и туда, где уклон, возвышенное обтекает – вот и извивается. Но поэт одушевляет реку, насыщает изображение психологизмом, усматривает подобные человеческим желания и тем самым утепляет образ.
В «Утреннем размышлении о Божием величии» Ломоносов дает научно достоверную картину Солнца, но делает это именно как поэт. Он адресуется к воображению читателя, помогая представить зрелище на основе знакомых земных впечатлений. Вихри, камни, кипящая вода, дожди – предметы обыденные для земного обихода. Но от бытового – скачок к неведомому; неведомое легче представить с опорой на бытовое.
В «Вечернем размышлении о Божием величестве при случае великого северного сияния» Ломоносов делает гипотезу о причине впечатляющего природного зрелища, волновавшего его с детства. В последующем наука подтвердила гипотезу прозорливого ученого: северные сияния вызваны электромагнитным излучением
Солнца. А Ломоносов формулирует свою гипотезу не языком науки, а языком поэзии: «Не солнце ль ставит там свой трон?» [Там же, с. 108].
Ломоносов как ученый неутомимо применял эксперимент как способ научного познания, он и как поэт оставался экспериментатором. Само по себе это еще ни о чем не говорит: решает качество эксперимента.
Оды обычно писались особой десятистишной строфой, децимой. Такая строфа введена в поэтический обиход именно европейской одической традицией, на русскую почву перенесена Тредиаковским и Ломоносовым.
В пределах десятистрочного пространства строфы Ломоносов пробует различное сочетание рифм. Его первая правильная ода «На взятие Хотина» ориентирована на основной тип строфы, но начинается строкой с мужской рифмой: аБаБввГддГ. В оде 1742 года после четверостишия дан набор парных рифм: АбАбВВггДД. В оде 1745 года опробован «перевернутый» рисунок строфы (начальный катрен с перекрестной рифмовкой занял финальное положение): ААбВВбГдГд. Но в результате проб выкристаллизовывается, становится у поэта наиболее употребительной основная форма с рифмовкой АбАбВВгДДг. Она охватывает полный набор простейших способов рифмовки и дает самый естественный их порядок. Именно она подхвачена и закреплена последующей русской одической традицией. Эксперимент? Да, но ради достижения оптимального результата.
Оценим значение ломоносовского поиска. Знаменита онегинская строфа у Пушкина. Новаторство Пушкина при ее конструировании уникально. Что делает поэт? Он берет самый ходовой образец и «всего лишь» в рисунок ломоносовской строфы дважды добавляет по двустишию, преобразуя ломоносовское двустишие в четверостишие с парной рифмовкой и замыкая строфу итоговым двустишием. Вот буквенные обозначения строфы-децимы и пушкинского изобретения: АбАбВВгД-Дг – АбАбВВггДееДжж. Знакомая незнакомка!
Ломоносов провел эксперимент в области ритма. «Вечернее размышление…» он попробовал написать «чистым» четырехстопным ямбом, без пиррихиев: если ямб четырехстопный – изволь выдерживать по четыре ударения в каждой строке. И все-таки в стихотворении объемом в восемь шестистишных строф в половине(!) хотя бы в одной строке из шести, а еще в одной строфе – в двух строках проскакивает пиррихий. В русском языке обилие многосложных слов, им трудно проходить сквозь мелкое сито ритмической схемы: в «чистый» ямб укладываются лишь двусложные слова (с определенным сочетанием ударений), а трехсложные слова – только в сочетании с односложными. Обнаруживается чувствительная – по механической причине – потеря. Не менее чувствителен изъян эстетический: стремление непременно к четырем ударениям в каждой строке создает ритм излишне жесткий, приводящий к утомительной монотонности. Это прямо противоречит правилам и вкусу Ломоносова. В «Риторике» поэт-ученый ратует за сочетание элементов речи, «чтобы переменою своею были приятны и не наскучили бы одинаким течением, которое, как на одной струне почти ни в чем не отменяющийся звон, слуху неприятно» [Там же, с. 339].
Получается – эксперимент неудачен? Как раз именно как эксперимент «Вечернее размышление…» – уникальное, замечательное стихотворение. Где еще сыскать немалое по объему лирическое стихотворение, почти на 90 % состоящее из «чистого», не пропускающего метрических ударений четырехстопного ямба? Ломоносов ограничил себя лексическим составом, но это нисколько не снижает содержательность стихотворения. В «Вечернем размышлении…» он отказался от женских рифм, даже и в четверостишии монополизирует мужскую рифму – чтобы подчер- кнуть энергию ямба. Если поэт сам создает трудности на своем пути, но успешно их преодолевает, это свидетельствует об уверенности его во владении поэтическим арсеналом.
Ломоносов как будто демонстрирует: а вот можно как – не с тем, чтобы ему подражали. Такие вещи хороши в штучном исполнении.
В «Вечернем размышлении…» Ломоносов проводит и еще один эксперимент, реализуя свои размышления о значимом наполнении звуков речи. В «Риторике» особенно тщательно прописаны значения гласных. Ломоносов попробовал расписать и значения согласных, но останавливает себя: «однако все подробну разбирать как трудно, так и не весьма нужно» – и делает оговорку, которая едва ли не существеннее утверждения: «Всяк, кто слухом выговор разбирать умеет, может их употреблять по своему рассуждению, а особливо, что сих правил строго держаться не должно, но лутче последовать самим идеям и стараться оные изображать ясно» [Там же, с. 337].
Если Ломоносов сам установил правила, он им и следует, выполняя программу-максимум. Выделим главное: а прилично для изображения великого пространства, е – для изображения малых вещей. В первой строфе «Вечернего размышления…» наблюдается прямая борьба этих контрастных звуков, причем адекватно содержанию изображения.
Первую строку пронизывает сплошное, да еще ударное е : «Лиц е сво е скрыва е т д е нь». Далее меняются картины, меняются гласные. А в заключительном двустишии подлинная борьба е и а :
А ткрыл а сь б е здн а зв е зд полн а ;
Зв е зд а м числ а н е т, б е здн е дн а [Там же, с. 108].
А теперь соотнесем звукопись с содержанием изображения. Наступают сумерки, близлежащие предметы начинают теряться из вида. Густеет ночь, но происходит парадоксальное: на небе зажигаются звезды, а иначе – открывается беспредельное пространство, которого как раз не видно при свете дня. Е проявляет упрямство, не хочет сдаваться, однако прорезается, а главное – венчает картину трубное а , устремляясь в беспредельное, в котором и в самом деле нет дна. Звукопись адекватна содержанию.
Тут есть и некоторая слабость. Чтобы понять все оттенки изображения, надо знать ломоносовскую теорию звукописи; стихи не до конца понятны без авторского комментария. Стихи должны говорить сами за себя. Умница Ломоносов это угадывает и призывает поэтов не держаться слепо за правила, а звуки «употреблять по своему рассуждению». Сбылось! Аллитерации и ассонансы прочно входят в арсенал средств поэтического изображения; это оркестровка звучания, не имеющего строго закрепленного содержательного значения.
На восприятие поэзии Ломоносова накладывает отпечаток очевидный ее рационализм: в последующем поэзия поискала пути к сердцу. Но у Ломоносова и сами размышления искрят эмоциональностью.
Ломоносов – поэт. Его заслуга зачинателя новой русской поэзии неоспорима. Но и некоторые его творения достойны войти в ее золотую антологию.
Список литературы Ломоносов: поэт или стихотворец?
- Карамзин Н. М. Избранные статьи и письма. М.: Современник, 1982. 351 с.
- Ломоносов М. В. Сочинения. М.: Гос. изд-во худож. лит., 1957. 576 с.
- Пушкин А. С. Полн. собр. сочинений: в 10 т. Л.: Наука, 1977-1979.
- Серман И. З. Русский классицизм. Поэзия. Драма. Сатира. Л.: Наука, 1973. 286 с.