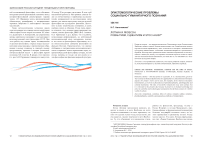Лотман и Якобсон: романтизм, сциентизм и этос науки
Автор: Автономова Наталия Сергеевна
Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv
Рубрика: Эпистемологические проблемы социально-гуманитарного познания
Статья в выпуске: 3 (29), 2014 года.
Бесплатный доступ
Романтик в науке - это парадоксальная идея. Романтиком в науке Лотман назвал Якобсона, однако и самого Лотмана можно назвать так. Романтические аспекты научных взглядов проявляются у него, в частности, в интересе к динамическим культурным взаимосвязям, к явлениям междисциплинарности, многоязычия и перевода. Идея научного романтизма может показаться архаичной, но она актуальна и в наши дни, потому что сохраняет в понятии науки не толью ее сциентистско-технологические компоненты, но также все то, что связывает ее с человеческим культурным миром
Романтизм, сциентизм, этос науки, романтик в науке, семиотика, междисциплинарность, научная коммуникация, проблемы перевода
Короткий адрес: https://sciup.org/170175521
IDR: 170175521 | УДК: 165
Текст научной статьи Лотман и Якобсон: романтизм, сциентизм и этос науки
Романтик в науке
Когда Лотману предложили написать некролог в память и в честь Якобсона, он долго мучился сомнениями и в итоге признался, что смог это сделать только тогда, когда постиг, как ему кажется, «идею» творческого пути Якобсона. Ту, что объединяет его юношеские стихи, работы по фонологии, фольклору, «Слову о Полку Игореве» и поэзии Маяковского, проблемам афазии и функциональной асимметрии больших полушарий головного мозга, по поэзии грамматики и грамматике поэзии. И еще многое другое. Эту идею Лотман сформулировал так: «Роман Осипович Якобсон всю жизнь был романтиком в науке» [6, с. 75]. Вот именно так: не лингвист, не структуралист, не семиотик, а «романтик в науке». Якобсоновский романтизм проявляется в разных аспектах и прежде всего - в личностно-характерологическом (бунтарский дух, свержение идолов), проблемно-тематическом (интерес к динамике и преодолению, связь с искусством), концептуально-стилистическом (черты «научного почерка») и пр.
Раскрывая свое понимание того, что означает определение «романтик в науке», Лотман прежде всего напоминает нам, что лингвист Якобсон поначалу имел другое призвание - он был поэтом, и в его творчестве мы видим отчасти искусство, перенесенное в науку. Отсюда дух бунтарства, свержение идолов как «повседневное занятие» - так было в кружке молодых футуристов, а потом и молодых филологов. Смысл перехода от одного к другому заключался в том, что Якобсон - человек авангардной культуры - трактовал язык Хлебникова и футуристов «не как аномалию, но как последовательную реализацию структуры языка и как импульс дальнейших фонологических разысканий» [6, с. 75] (позже об этом интересно рассказал Борис Михайлович Гаспаров [14])1. В отличие от других юных бунтарей своего поколения «Якобсон не старел, не уставал, не делался “добропорядочным” - он был и оставался бунтарем в науке, ниспровергателем, тем, кто будоражит, вносит смуту, не дает уютно устроиться в привычных, обжитых идеях, а тащит в степь, в пургу новых, ошеломляющих и непривычных мыслей и гипотез». Здорово сказано: «тащит в степь, в пургу»! - туда, где вихрь сметает все, где не остается камня на камне от устойчивого, старого и привычного. При этом наука рассматривалась вовсе «не как сложенный из вековых камней храм, но как несущийся автомобиль (курсив мой - Н.А.) (автомобиль, - уточняет Лотман, - казался тогда пределом техницизма и скорости)» [6, с. 75]. Как видим, Лотмана совершенно не смущает такое необычное воплощение духа романтизма: он совершенно спокойно соединяет романтические эпитеты с технологическими. Я подчеркиваю здесь эту связку потому, что в своей интересной статье о московско-тартуской шко- ле Виктор Маркович Живов [2р, на которого я буду и далее ссылаться, ни о каком романтизме или романтике даже и не упоминает: он строит свою картину истории московско-тартуской школы на идеях «технологизма» и «сциентизма», причем эти качества приписывает равно и Якобсону, и Лотману (особенно раннему).
В чем же видел Лотман якобсоновский романтизм? Эту идею Якобсона как романтика в науке, как ученого, который одновременно быт и поэтом, Лотман проводит по разным контекстам3. Наверное, главное для него в Якобсоне как «романтике в науке» его склонность к открытой структуре или, как говорил Лотман, к «открытой модели». Эту общую идею реализует стремление понять динамику развития как некий мотор всего сущего. Первая область, в которой можно это наблюдать, - лингвистика. И прежде всего, по Лотману, это стремление ввести динамику в само понятие структуры языка - характерная черта якобсонов-ской мысли с самого начала. Так, лингвистический структурализм как авангардное направление в мировой лингвистике 1920-1930-х годов (Праж- ский лингвистический кружок) отмечен преодолением принципов соссюрианской лингвистики с жестким разделением синхронии и диахронии. В «Принципах исторической фонологии» (опубликованы в «Трудах Пражского Лингвистического Кружка» в 1931 г.) Якобсон писал, что «статический срез - фикция», вспомогательный научный прием, а не способ существования. В целом отношение Якобсона к Соссюру Лотман именует «героической работой по преодолению Соссюра в рамках соссюрианской традиции» [6, с. 116]. Типичная модель этой динамики - «преодоление»; существуют различные ее формы и разновидности, например «преемственность через преодоление», «продолжение через преодоление» и пр. При этом «столкновение и борьба» выступают как «самое плодотворное продолжение традиции». Это, заметим, не революционная, но все же бунтарская установка. Она может показаться вполне гегелевской, но никогда не предполагает синтеза или, тем более, синтеза всего наилучшего в смысле некоего упрощенного гегельянства.
Вторая область - семиотика. Здесь Лотман также видит у Якобсона идею динамики и конфликтности. На месте распространенных статических моделей теории информации у Якобсона возникает картина «взаимоотношений, конфликтов, перекодировок, превращающих семиотическое исследование в динамический портрет духовной жизни общества» [6, с. 76]. Сама идея семиотики как «динамического портрета» представляется в своей масштабности некоторым «сциентистски» оптимистическим преувеличением. Однако возникает вопрос: можно ли видеть в этом стремлении распространить семиотику на предельно широкие области общественной и культурной жизни «аксиологическую экспансию» науки [11, с. И] как лакмусовую бумажку сциентизма? Ведь при этом ни Якобсон, ни Лотман вовсе не считают, что семиотический подход - единственно возможный или же что он исчерпывает объекты, к которым применяется.
Романтической чертой научного почерка, по всей видимости, является для Лотмана и интерес Якобсона к динамическим взаимосвязям между различными областями знания и культуры. И, стало быть, к междисциплинарности. Ведь при этом речь идет не о разграничении компетенций, не о наведении порядка на межевых территориях, но об изучении вторжений, столкновений, взаимона-ложений между областями и территориями: так, грамматика вторгается в поэтику, поэтика в живопись или кинематограф. Те же динамические процессы происходят и внутри науки. Редкое чутье
Якобсона к новому, поиски неосознанных взаимодействий Лотман видит и внутри различных научных дисциплин, и на их стыках (от лингвистики и семиотики до молекулярной генетики и новейших исследований функциональной асимметрии больших полушарий головного мозга). При этом, будучи сторонником структурных и семиотических подходов в гуманитарных науках и справедливо усматривая в Якобсоне своего предшественника, Лотман вовсе не ограничивается узкой структурностью или системностью: он ищет некие объемлющие признаки, позволяющие вписать все эти подходы и интересы в судьбу личности и жизнь культуры. Архаические смысловые обертоны понятия «романтик в науке» способствуют этому включению.
Многоязычие культурной коммуникации и проблема перевода
У читателя возникает впечатление, что, говоря о Якобсоне как романтике в науке, Лотман видел или же подчеркивал у него то, что заставал в самом себе, к чему он был наиболее чуток, хотя из этого вовсе не следует, что Лотман во всем соглашался с Якобсоном. Из того, что оба наши персонажа характеризовались как «романтики в науке», не следует абсолютного и безусловного их единства во взглядах. Одним из ярких поводов для разногласий между ними была проблема коммуникации и перевода. Среди общих моментов научного романтизма Якобсона и Лотмана мы видим, прежде всего, новую программу соотношений науки и искусства. А именно: наука вторгается в сферу непредсказуемого, которой всегда интересовалось искусство, и это меняет облик науки, а также понимание динамики структуры: «Мы до сих пор считали, что непредсказуемости нет, по Гегелю, или же полагали, что, если она есть, она остается за пределами науки. Это давало нашей науке очень малое пространство, и, по сути дела, наука получала очень тощий отпечаток реальности. Непредсказуемое, случайное <...> механизм которого является одним из важнейших объектов науки, вводит совершенно по-новому в науку и роль искусства. Потому что если наука ориентирована на предсказуемость, то искусство было всегда ориентировано на непредсказуемость» [6, с. 149]. Отмечу, что хотя любовь к искусству явным образом объединяет Якобсона и Лотмана, увлекавшие их эстетические модели - разные: в частности, авангардное искусство в каких бы то ни было его формах не было близко Лотману. Оба эти момента могли бы стать предметами отдельного рассмотрения. В первую очередь нам важна здесь трактовка коммуникативного акта, ее различия у Лотмана и Якобсона. Лотман всячески приветствует момент «конфликтности», «перекодировок» в якобсоновской интерпретации процесса коммуникации, но вносит в нее новый смысловой акцент. Это акцент на многоязычии коммуникации4. В трактовке данного момента Лотман, можно сказать, отталкивался от Якобсона и преодолевал его, если воспользоваться собственной якобсоновской терминологией. Здесь для нас важно следующее: Лотман не был лингвистом, однако именно он, переходя от анализа литературы к рассмотрению общих механизмов культуры, обосновал необходимость многоязычия как характерной черты культуры и актуальность введения этого параметра в трактовку коммуникативного механизма. При этом у Лотмана этот тезис о многоязычии коммуникативного акта формулируется фактически как критика якобсоновской концепции.
Основные моменты лотмановской критики Якобсона следующие. В основе якобсоновской схемы коммуникативного акта, по мнению Лотмана, лежит абстракция, предполагающая полную идентичность передающего и принимающего, и именно эта абстракция переносится Якобсоном на языковую реальность. Однако общий язык и одинаковый объем памяти у говорящего и принимающего - это ситуация, которая соответствует, подчеркивает Лотман, не языку, а коду, и такая подмена не безопасна. Прежде всего потому, что код - структура созданная, искусственная, введенная договоренностью, он не подразумевает истории и памяти, тогда как «язык - это код плюс его история» [9, с. 15]. Фактически подразумеваемая структура без памяти вполне адекватна для целей передачи информации, но она не сможет выполнять функции, возлагаемые на язык: «эти инстанции общения будут понимать друг друга, но им не о чем будет говорить» [9, с. 15].
Из всего того, что ранее говорилось о многоязычии коммуникативного акта, вырастает проблема перевода и непереводимости, понимания и непонимания. Спрашивается: кто тут с кем спорит? Один романтик с другим романтиком? Или, может быть, романтик Лотман спорит с классиком Якобсоном (якобсоновская трактовка перевода, можно сказать, вполне классична)? Как известно, якобсоновская схема, на которую ссылаются все современные исследователи, что-либо писавшие о переводе, объединяет три типа перевода - внутриязыковой, межъязыковой и межсемиотический [12, с. 362]. Три способа перевода - это, по Якобсону, три способа интерпретации вербального знака: так, знак может быть переведен в другие знаки того же языка (переименован), переведен на другой язык, наконец, переведен в другую, невербальную, систему символов. При внутриязыковом переводе получаются синонимичные выражения, которые не являются вполне эквивалентными. При межъязыковом переводе происходит процесс перекодировки (слов или целых сообщений). Наконец, третий вид перевода имеет дело с различными семиотическими системами и потому тем более упирается в вопрос о взаимной переводимое™ языков и знаковых систем.
Спору нет, процедура перевода в любом случае очень сложна, а потому в наши дни отчаявшиеся преуспеть в этом деле все громче провозглашают тезис о непереводимости. Якобсон некогда назвал его «догмой непереводимости» [12, с. 363]. Основной пафос Якобсона в этой статье в том, что он опровергает эту «догму непереводимости» доводами из практики межъязыкового перевода: если в языке, на который мы переводим, не находится нужных слов, можно придумать новые слова, использовать описательные обороты или же прибегнуть к заимствованиям. Если в языке, на который мы переводим, отсутствует какой-то важный грамматический прием, можно передать понятийную информацию, содержащуюся в оригинале, иными средствами. В любом случае для Якобсона практика перевода (или иначе - «перекодирующая интерпретация») есть то, что позволяет нам найти выход из ситуаций, поначалу воспринимаемых как примеры языковой несоизмеримости.
Как можно видеть, Лотман понимает перевод шире и в некоторых существенных моментах -иначе, чем Роман Якобсон. В отличие от подхода Якобсона лотмановский подход к переводу я называю идеей продуктивной непереводимости5. Прежде всего, в дополнение к трем классическим якобсоновским типам перевода Лотман фактически (хотя подчас и не явно) прорабатывает и другие возможности. Так, он обращает наше внимание на значимость первичного акта выражения, вербализации, текстуализации любого непосред- ственно переживаемого опыта , а кроме того пытается нащупать узловые моменты и типические ситуации семиозиса или, иначе говоря, множественных переходов из внесемиотического (или досемиотического) мира в семиотический, культурно опосредованный мир, и обратно.
Однако самым важным концептуальным отличием лотмановского подхода к переводу от якобсоновского была связь вопроса о непереводимости с вопросом о непонимании. Якобсон не те-матизирует непонимание как отдельный момент и не вычленяет какие-либо, хотя бы гипотетически положительные, стороны непонимания. Лотман иначе смотрит на эти вещи: « «“Понимаемость”», к которой мы так стремимся, - это один полюс; другой необходимый полюс - “непонимаемость”, потому что непонимание делает понимание мучительным и вместе с тем имеющим смысл и высокую ценность (курсив мой - Н.А.)» [6, с. 121]. Таким образом, если Якобсон трактует «непереводимость» фактически как помеху коммуникации, устраняемую определенными процедурами, то Лотман усматривает в феномене непереводимости (или осложненной переводимое™) продуктивный механизм культуры, который, затрудняя человеческое общение, делает это общение в конечном счете более насыщенным и более интенсивным, приводит к порождению новых культурных смыслов.
Другой взгляд - это сциентизм
Среди современных исследователей, писавших о московско-тартуской школе, роль концепции перевода и непереводимости у Лотмана с удовлетворением отмечал, например, уже упоминавшийся В.М. Живов. И считал это проявлением лотмановского постструктурализма [2]. Такая характеристика Лотмана достаточно типична. Так, принято считать, что структурализм в гуманитарных науках - это дела давно минувших дней, и соответственно, что Лотман интересен нам сейчас преимущественно как мыслитель, сумевший преодолеть свои структуралистские заблуждения (речь обычно идет о позднем Лотмане). Соответственно, антитезой Лотману - постструктуралисту выступает ранний Лотман-«сциентист». Позвольте, однако, напомнить, что хотя концепция перевода сформировалась в основном у позднего Лотмана, ее замысел присутствовал уже в ранний период. В своей программной статье «Литературоведение должно быть наукой» [8; 5] Лотман утверждал, что некоторые стороны структуры могут восприниматься нами только тогда, когда мы смотрим на структуру глазами другой структуры, когда мы «переводим ее на язык структуры другого типа». Кроме того, уже в этой ранней статье Лотман ставит, например, проблему рецепции или отношения читателя к тексту, считая это важнейшим аспектом исследования, что неизбежно вводит в изучение текстов проблему непредсказуемости, так как предполагает изучение трансформаций замыслов автора в сознании читателей. Правда, Лотман не быт бы Лотманом, если бы он не сказал нам о своем стремлении узнать, «каковы законы этой трансформации».
Моя позиция в отношении моих героев во многом противоположна тому, что чаще всего встречается в наши дни. Думаю, что лотмановская и якобсоновская концепции структуры никогда не чурались неструктурного, не исключали всего того, что в структуру не умещается. При этом важно, что неструктурное (например, «непереводимое» в ситуации постоянного культурного многоязычия у Лотмана) - это не мусор на фоне главного и магистрального. Совсем наоборот: именно неструктурное и непереводимое, находящееся за границами упорядоченных культурных миров, является местом поиска других структур, нам не известных. По сути, это отличает то, что Лотман называл «открытой моделью» культуры7: она предполагает различные формы взаимодействия структурного (только более сложно структурного) и неструктурного, переводимого и непереводимого, устойчивого и взрывного на тех или иных уровнях. Впрочем, не стоит упускать из виду то, что механизмы устойчивого, повторяющегося -именно из-за их привычности - подчас труднее бывает уловить, нежели моменты яркой новизны, которые, между тем, становятся заметны лишь на фоне устойчивого.
То же касается и Якобсона. Ему тоже не нужно было становиться постструктуралистом, чтобы заинтересоваться динамикой структур. Свидетельств этому много. В целом представляется более осмысленным не производить Лотмана и Якобсона в постструктуралисты (которые, по сути, отказываются от понятия структуры), но сказать себе, что, видимо, пришла пора иного понимания структуры и ее динамики на всех уровнях. Так что упрекать московско-тартуских исследователей в том, что они «проглядели постструктурализм», у нас нет оснований - в том смысле, что их траектория движения была иной. Для них было важно собирание культуры, земель, Россия советского периода не проходила через этап пресыщения культурой и контркультурные движения, хотя бы в форме Мая-68; для нее было важно собирание культуры по аналогии с собиранием земель (и, наверное, что идея собирания для страны с такой огромной протяженностью имеет особый смысл, в т.ч. и культурный).
Свою концепцию «сциентистской» науки -применительно к московско-тартуской школе и применительно к Якобсону - Живов проводит довольно широко, и доказательства тому называет самые разнообразные. Так, сциентизм Якобсона он видел в том, что гуманитарные науки, по Якобсону, должны и могут стать «настоящими» науками, а пространством и средством этой трансформации может стать семиотика. А вот и другие проявления этого сциентизма: в своих футуристических мечтах Якобсон, дескать, грезил о чем-то вроде фабрики или о своего рода производстве, которым он мог бы управлять, и ему, как организатору науки, нравилось придумывать большие проекты, основанные, считает Живов, на своего рода новых технологиях, - например, на выявлении универсальных дифференциальных признаков в звуковом составе языка. Суть этого проекта заключалась в том, чтобы «переписать фонетику» в новых терминах. Эту идею Живов считал «не слишком сложной и в целом едва ли нужной». Ведь минимальный набор дифференциальных признаков основывался на идее инвариантности (наблюдаемое разнообразие сводилось к абстрагированному однообразию), тогда как абстрактный характер языкового механизма находил соответствие в безличной индустриальное™ лингвистической науки. Однако заметим: это отрицательное отношение к идее инвариантности неизбежно бросает тень и на поиск закономерного, а потому неудивительно, что и понятие «наука» у Живова употребляется, по сути, только в кавычках - как то, что в наши дни подозрительно, не имеет устойчивого содержания и нуждается в постоянных разъяснениях и обоснованиях.
Якобсон с его технологизмом и сциентизмом -предтеча московско-тартуской школы и Лотмана. Вместе с московско-тартуской школой Лотман наследовал формалистический пафос «научности, точности, техницизма, устранения любых импрессионистических суждений». Больше того: вся программа московско-тартуской школы, по Живову, есть не что иное как «сциентистское переформулирование гуманитарных наук». В своем уже упоминавшемся манифесте «Литературоведение должно быть наукой» Лотман призывает литературоведение к сотрудничеству с лингвистикой и математикой. Фактически то, что Лотман при этом говорил или мог бы сказать о поиске структурной динамики, а затем и об открытых моделях, Живова не убеждает. Ведь московско-тартуская школа восходит к соссюровскому наследию, а Соссюр (путем определенных «манипуляций») вывел на первый план язык, устраняя тем самым речь, а вместе с ней и субъекта, а потому динамика, отличная от перекодировок и трансформаций, становится в гуманитарном познании этой ориентации недостижимой. Иное дело немецкая филологическая традиция, которая в лице Ауэрбаха, Курциуса, Шнитцера помещает литературное произведение в социальный и культурный контекст, не позволяющий ограничиваться формализациями или моделированием.
Тезис о московско-тартуском сциентизме прямо или вскользь проходит и в трактовке его отношения к филологическому наследию. Это отношение трактуется как «редукционистская реинтерпретация ассимилируемых традиций» (ср. публикации Флоренского, Фрейденберг и др.). Но главным примером «глубинной тенденциозности этого присвоения» оказывается Бахтин - например, в его прочтении Вяч. Вс. Ивановым, которое выдает постнеокантианского мыслителя за сторонника формализма и структурализма и тем самым вставляет Бахтина в чуждый ему контекст [3]. Кстати, добавлю от себя, что и Лотман в своей трактовке Бахтина (например, в юбилейном докладе в Университете Фридриха Шиллера) тоже подчеркивал в нем провозвестника открытий структурализма и семиотики. Вопрос о взаимовлияниях разнонаправленных тенденций в культуре очень сложен, и не здесь его рассматривать. В данном случае можно, по-видимому, говорить о косвенном воздействии и о стимулах, воспринимаемых не прямо, но через культуру, что не предполагает прямого следования, но допускает точечные стимулирующие воздействия.
Следующий пункт сциентистского приговора -«невежество» в том, что касалось философии, особенно современной западной, а также круга источников. Так, представители московско-тартуской школы, говорит Живов (а он знал это не понаслышке и сам, по собственному признанию, пытался преодолеть самообразованием), не знали ни Рикера, ни Лакана, ни Rezeptionsgeschichte Яусса и
Изера, ни Хайдеггера, ни Ясперса, ни Гуссерля, ни Гадамера, ни философов Франкфуртской школы» и вообще - всей «постхайдеггеровской и постгус-серлианской традиции в Geisteswissenschaften». В этой связи мысль Живова такова: если на Западе структурные и семиотические исследования могли на равных спорить с другими современными им направлениями, то российско-советские семиотики были отрезаны от естественной питательной среды, которой для немецкой филологической мысли быта философия, они такой возможности не имели. А потому неудивительно, что они, дескать, проглядели, упустили постструктурализм. Здесь я не могу не заметить, что сама интенция творчества того же Лотмана, несмотря на его многочисленные актуальнейшие прозрения, опережающие даже современные взгляды, не была «постструктуралистской», не была, если угодно, «деконструкционистской» (хотя это и не одно и то же), расчленяющей, покуда получается: скорее она была реконструктивной, стремившейся восстановить предшествующие культурные стадии, она исходила не из переизбытка культуры, но из ее нехваток - по крайней мере, в актуальном сознании ее носителей8.
Как можно видеть даже по этому краткому перечню вопросов, само понятие сциентизма употребляется в статье спонтанно, однако именно оно является объемлющим и выстраивает все остальное. Определения понятия не дается, противовесы ему не выстраиваются, при этом оно каждый раз открашено отрицательной эмоцией. Подчас возникают и самопротиворечия: бывает, что фразы начинаются за упокой, но потом все же обнаруживается нечто такое, что меняет смысл и тональность рассказа на оптимистичские. Например, вот итоговый вывод статьи: «С концом советской эпохи кончается и московско-тартуский структурализм. Попытки представить его как живое течение сегодняшней интеллектуальной мысли бесперспективны. Что ушло, то ушло навсегда». Явная и подчеркнутая социально-политическая параллель, казалось бы, окончательно закрепляет за московско-тартуской школой участь навсегда ушедшего из жизни феномена. Однако вскоре выясняется, что это суждение не окончательное, что автор готов нюансировать свою позицию: все же это было «живое движение», и его конкретные результаты «сохраняют свою значимость по сей день и нуждаются лишь в некотором обновлении концептуального контекста для того, чтобы стимулировать новые размышления и новые поиски». В этой связи рискну предположить, что не только некоторые конкретные результаты, но и общая программа московско-тартуской школы несет в себе актуальный заряд смыслов, связанных с наукой в культуре, но не ограниченных негативными коннотациями сциентизма.
Научный этос«романтического сциентизма»
Понятие сциентизма не схватывает этическое измерение и жизненный выбор, присутствующие в замыслах наших персонажей, и не выглядит надежным концептуальным инструментом для анализа важного фрагмента нашей концептуальной истории. И прежде всего оно не схватывает всего того, что связано в этой программе с достоинством знания, с человеческим достоинством научной перспективы, расширяющей горизонты, и темы научного этоса, т. е. не схватывает всего того, что ярко присутствует как у Якобсона, так и у Лотмана. Для Лотмана на протяжении всей его жизни в творчестве главным оставалось то, что он называл «потребностью человека в истине», и тут человек и наука (можно было бы сказать, «гуманитаристика» и «сциентистика») неизбежно пересекаются и взаимодействуют. Лотман говорил об этом в ответ на распространенный упрек в адрес структурализма -упрек в дегуманизации: «Единственное, чем наука, по своей природе, может служить человеку, - это удовлетворять его потребности в истине. [8, с. 93].
Что же касается сциентизма, нерефлексивно используемого как солирующий голос и без противовеса, то он оказывается ненадежным концептуальным средством. В истории смысл понятия сциентизма зависел от того, что и как ему противопоставлялось: поначалу он выступал как форма антиклерикализма, за научные факты и против откровения, затем - против метафизики и философии, претендующей на теоретический анализ мировоззрения, затем как протест против философий субъективности как главного оппонента структурализма (экзистенциализм, персонализм). Во времена Лотмана положительный смысл «сциентизма», установка на поиск точного знания имели значение антиволюнтаристского протеста против произвола, с которым приходилось сталкиваться повсюду. На этом держалось представление о ценности знания, которое они строили с огромным пафосом. В науке важна ценность автономности познания, его независимости от внешних авторитетов и сил, его демократичность, открытость для обсуждения - по крайней мере до того уровня, покуда в каждом знании не обнаружатся посылки, принимаемые на веру, где разумное обсуждение теряет всякий смысл. Сейчас идет смена идеологических ориентаций, и наши времена, когда меняются гносеологические, а также социальные параметры поиска знания, уже заражены новыми формами идеологичности, не предполагающей обсуждения.
Строгость и достоинство знания в том и состоит, чтобы противостоять любым формам идеологичности, даже если требование научной строгости тоже включает в себя определенный идеологический момент. В понятие науки всегда входил и набор ценностных представлений, который окружал и поддерживал науку в обществе. Сейчас это измерение потеряно: оно пало перед измерением полезности, которое сметает все на свете и отменяет все иные критерии. Конечно, пользу тоже можно понимать по-разному: или чисто прагматически, или с отнесением к горизонтам человека, к его отношению к самому себе, в котором он высоко ценит и способность познания. Парадоксальным образом в данном случае как бы внеидеологический сциентизм приобретает идеологическую нагрузку, а «антисциен-тистская» идея «романтика в науке» вступает с наукой в прямой союз, поддерживая в ней ценностное измерение. Архаичная идея романтизма или романтики в науке задает актуальный тон -тем, что подчеркивает, сохраняет внутри понятия науки не сциентистское, технологизируемые ее компоненты, но нечто, связывающее ее с человеческим, культурным миром.
Экзистенциальный рисунок внешнего поведения Лотмана и Якобсона был разный, но в нем в обоих случаях присутствуют некоторые романтические мотивы - погони и бегства, столкновения с противником лицом к лицу и др. Так, один из наших героев убегал от растекавшейся по Европе смертельной угрозы фашизма и, к счастью, смог спастись; другой же долго воевал, много был на передовой и потом советовал, если случится, идти на передовую. Один жил как вынужденный космополит в процессе обживания все новых мест, пригодных для интеллектуальных занятий; вся жизнь другого жестко уместилась в границы советского периода (так, Лотман родился в 1922 г, в котором Съезд Советов в своей Декларации зафиксировал образование Советского Союза, а умер в 1993 г., в самом начале постсоветского периода) и узко определенного места, хотя и была прожита, как теперь иногда говорят, во внутренней эмиграции. При этом в жизненных и познавательных установках мыслителей можно найти много общего. Фактически у обоих были свои способы побеждать человеческий страх, свой юмор и оптимизм. Этот оптимизм крепился на чем-то одновременно и личном, и общезначимом. Оба они жили в эпоху огромных перемен, потрясений и переворотов, в период катастроф, смятения, когда на первый план выдвигается идея сопротивления хаосу, смятению душ - с помощью интеллекта, разума. «...Фашисты уже у ворот, а я еще не закончил того-то и того-то... никогда еще так не работал!», говорил Якобсон. Таким же высоким самопожертвованием ради науки отличался всю жизнь и Лотман.
Однако оба они - и тартуский житель, и настоящий гражданин вселенной - были яркими представителями того этоса науки, который демократически настраивал их на многообразные формы общения с людьми, помогал им разговаривать с любым, везде узнавать нечто для себя новое, стимулировать других своими интуициями и знаниями, жить в ситуации пересекающихся отношений высокой плотности. Как если бы они чувствовали, что знание, лишенное человеческой и культурной составляющей, перестает восприниматься как ценность и тогда действительно может быть полностью технологизировано. Оба наши героя - кто бы что ни говорил про их техно-логизм и сциентизм, предполагающий отвлечение от гуманистического в пользу практического и прагматического, - высоко ставили моральный престиж и человеческое достоинство науки, что в наши дни далеко не само собой разумеется. Сейчас сама эта установка может выглядеть как несколько архаичное проявление романтизма. Но скорее это свидетельство мудрости тех, кто через многое прошел и умеет держаться за то, на чем выросла вся нововременная европейская цивилизация и без чего ее не будет (без опоры на науку у современного европейского человека не было бы ни целей, ни ценностей). Беречь разум, беречь науку как одну из главных опор европейской культуры - этот девиз, пусть романтический и уж никак не «сциентистский», и нам сегодня очень даже пригодится.
Список литературы Лотман и Якобсон: романтизм, сциентизм и этос науки
- Автономова Н С. Проблема перевода в свете идеи продуктивной непереводимости (по страницам работ Лотмана)//Пограничные феномены культуры. Перевод. Диалог. Семиосфера: материалы Первых Лотмановских дней в Таллинском университете (4-7 июня 2009 г.) Таллинн, 2011. С. 19-35
- Живов В.М. Московско-тартуская школа: ее достижения и ее ограничения//НЛО. 2009. № 98. | Электронный ресурс]: http://magazines.russ.ru/nlo/2009/98/zh5.html
- Иванов Вяч.Вс. Значение идей М.М. Бахтина о знаке, высказывании и диалоге для современной семиотики//Ученые записки Тартуского университета. Вып. 308. Труды по знаковым системам. Тарту, 1973. № 6.
- Ландольт Э. Один невозможный диалог вокруг семиотики: Юлия Кристева -Юрий Лотман//НЛО. 2011. № 109. [Электронныйресурс]: http://magazmes.russ.ru/nlo/2011/109/lal2.html
- Лотман Ю.М. О русской литературе. СПб., 1997.
- Лотман Ю.М. Воспитание души. Воспоминания. Интервью. Беседы по русской культуре (телевизионные лекции). СПб., 2003.
- Лотман Ю.М. Избранные статьи: в 3 т. Т. 3. Таллинн, 1993.
- Лотман Ю.М. Литературоведение должно быть наукой//Вопросы литературы. 1967. № 9. С.90-100.
- Лотман Ю.М. Семиосфера. СПб., 2001.
- Лотман Ю. М. Тезисы к семиотике русской культуры//Ю. М. Лотман и тартуско-московская семиотическая школа. М., 1994.
- Швырев В.С., Юдин Э.Г. Мировоззренческая оценка науки: критика буржуазных концепций сциентизма и антисциентизма. М., 1973.
- Якобсон Р.О. О лингвистических аспектах перевода//Якобсон Р.О. Избранные работы. М., 1985.
- Avtonomova, N., 2013. Le probleme de la traduction et Fintraduisible dans la conception semiotique de Lotman. In: Glissements, decentrements, deplacement. Pour un dialogue semiotique franco-russe. Paris, pp. 49-57. URL: http://www.bibliotheque-numerique-pari s8.fr/fre/cms/Fonds/Colloques de Pari s_8 html
- Gasparov, B., 1997. Futurism and phonology: futurist roots of Jakobson’s approach to language. In: Jakobson entre l’Est et l’Ouest, 1915-1939. Cahiers de 1TLSL, no. 9, pp. 109-130.
- Plungjan, V., 1997. R.O. Jakobson et N.S. Trubetzkoy: deux personnalites, deux sciences? In: Jakobson entre l’Est et l’Ouest, 1915-1939. Cahiers de 1TLSL, no. 9,pp. 185-194.
- Waldstein, M., 2008. The Soviet empire of signs: a history of the Tartu school of semiotics. Saarbrucken: VDM Muller.