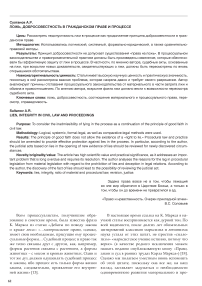Ложь, добросовестность в гражданском праве и процессе
Автор: Султанов Айдар Рустэмович
Журнал: Евразийская адвокатура @eurasian-advocacy
Рубрика: Актуальные проблемы адвокатской практики
Статья в выпуске: 5 (42), 2019 года.
Бесплатный доступ
Цель: Рассмотреть недопустимость лжи в процессе как продолжение принципа добросовестности в гражданском праве. Методология: Использовались логический, системный, формально-юридический, а также сравнительно-правовой методы. Результаты: Принцип добросовестности не допускает существования «права на ложь». В процессуальном законодательстве и правоприменительной практике должны быть произведены изменения, которые обеспечивали бы эффективную защиту от лжи в процессе. В частности, по мнению автора, судебные акты, основанные на лжи, при вскрытии новых доказательств, свидетельствующих о лжи, должны быть пересмотрены по вновь открывшимся обстоятельствам. Новизна/оригинальность/ценность: Статья имеет высокую научную ценность и практическую значимость, поскольку в ней рассмотрена важная проблема, которая назрела давно и требует своего разрешения. Автор анализирует причины отставания процессуального законодательства от материального в части запрета лжи и обмана в правоотношениях. По мнению автора, вскрытие факта лжи должно вести к возможности пересмотра судебного акта.
Ложь, добросовестность, соотношение материального и процессуального права, пересмотр, справедливость
Короткий адрес: https://sciup.org/140244680
IDR: 140244680
Текст научной статьи Ложь, добросовестность в гражданском праве и процессе
Задача права вовсе не в том, чтобы лежащий во зле мир обратился в Царствие Божье, а только в том, чтобы он до времени не превратился в ад.
«Право и нравственность. Очерки прикладной этики»
В.С. Соловьев
Всем процессуалистам, получившим образование в советское время, была известна фраза К. Маркса из статьи «Дебаты по поводу закона о краже леса»: «…материальное право, однако, имеет свои необходимые, присущие ему процессуальные формы… Судебный процесс и право так же тесно связаны друг с другом, как, например, формы растения связаны с растением, а формы животных – с мясом и кровью животных. Один и тот же дух должен одушевлять судебный процесс и законы, ибо процесс есть только форма жизни закона, следовательно, проявление его внутренней жизни» [13].
В настоящее время ссылка на К. Маркса в научной статье воспринимается как дурной тон. По всей видимости, после долгих лет обязательных цитирований классиков марксизма и ленинизма наука устала от этих цитат, не простив «силлогизм» «марксистское учение истинно, потому что верно» (в качестве редкого исключения можем назвать недавно опубликованную книгу «Право, закон и суд в ранних трудах Карла Маркса») [18]. Однако мы полагаем уместным вновь вспомнить об этой цитате, поскольку она все же, на наш взгляд, заставляет задуматься о необходимости одновременного развития материального и про- цессуального права, об их взаимосвязанности. Вполне возможно рассматривать материальное и процессуальное право как парные правовые категории, которые дополняют друг друга, обеспечивая действенность и всесторонность нормативного воздействия на формирование общественных отношений [6].
Можно смело утверждать, что материальное право России в последние годы развивается в направлении усиления принципа добросовестности. Мы можем видеть это в новых положениях Гражданского кодекса РФ, которые сделали принцип добросовестности основополагающим принципом гражданского права, подкрепленным установлением конкретных правовых последствий. Налоговое право также развивается в направлении противодействия злоупотреблениям в области налоговых правоотношений [3, 16, 17]. Отметим, что чаще всего идет речь лишь о злоупотреблениях налогоплательщиков, хотя бывают ситуации, когда можно и должно говорить о злоупотреблениях налоговых органов, об этом, в частности, говорит применение в налоговых спорах общеправового принципа добросовестности и его составляющей – принципа эстоппель, который предполагает недопустимость осуществления противоречивых действий и поведения.
Дискутируя со своими оппонентами в судебном процессе, ссылаясь, прежде всего, на положения ч. 2 ст. 125 АПК РФ, предусматривавшие возможность заявления ходатайств об истребовании доказательств от ответчика или других лиц, мы неоднократно сталкивались с тем, что стороны настаивали на якобы имеющемся у них праве предоставлять суду только то, что они считают нужным, и не раскрывать имеющиеся у них доказательства, если они этого не хотят, равно как и говорить об обстоятельствах дела так, как им выгодно, а не так, как на самом деле обстояли дела. Особое возмущение вызывало такое поведение представителей государственных органов.
Действительно, как ни удивительно, наше процессуальное законодательство, кроме общей нормы о том, что лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными правами (ч. 2 ст. 41 АПК РФ), не содержит норм, как в других правопорядках, обязывающих правдиво выступать перед судом и полностью раскрывать все доказательства. Как отмечает Д.Б. Абушенко, «Там, где законодатель полагает необходимым именно правдивое сообщение суду какой-либо информации, он на это прямо указывает (см., например, нормы о показаниях свидетеля – ч. 1 ст. 70, ст. 176 ГПК РФ, ч. 4 ст. 56 АПК РФ») [1, с. 158].
В ст. 2 АПК РФ закреплены задачи судопроизводства в арбитражных судах, в частности, задачи, которые безусловно не могут достигнуты при допущении сторонам лжи в процессе:
«ст. 2… 4) укрепление законности и предупреждение правонарушений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности;
-
5) формирование уважительного отношения к закону и суду;
-
6) содействие становлению и развитию партнерских деловых отношений, формированию обычаев и этики делового оборота».
Проблема лжи в процессе в разное время поднималась российскими учеными [5, с. 736; 8; 13; 19; 24 и др.], равно как и активно обсуждалась зарубежными юристами. Так, немецкий процессуалист Рихард Шмидт даже соглашался на наличие «права на ложь» в процессе, полагая, что главное – это полная свобода сторон и принцип состязательности [5, с. 736]. Его сторонники придерживались мнения о том, что в состязательном процессе, основанном на постулатах римского судопроизводства «Nemo tenetur armare adversarium (suum) contra se» (Никто не обязан вооружать своего противника против себя самого) и «Nemo tenetur prodere seipsum (seipsum prodere)» (Никто не обязан предавать себя самого), недопустимо вводить какие-либо ограничения в отношении сторон в части выбора ими средств нападения или защиты, в том числе путем запрещения представления суду информации, не соответствующей действительности, и установления за эти действия юридических санкций [14].
Данная точка зрения не возобладала, проиграв категорическому императиву, выведенному Иммануилом Кантом, требующему быть правдивым с другими и запрещающему ложь. В ст. 138 действующего Гражданского процессуального уложения Германии [9] закреплена обязанность сторон давать объяснения по фактам и обязанность говорить правду (сразу же акцентируем внимание на том, что «требуется так называемая субъективная правда; объективная правда не требуется. Только осознанная ложь нарушает данный принцип») [10]. Причем и у этого подхода можно найти римские корни: «Fraus et jus nunquam cohabitant» («Обман и правосудие никогда не совмещаются»).
Однако в российском гражданском процессуальном законодательстве даже в то время, когда от суда требовалось установить объективную истину, не было установлено требования о прав- дивых показаниях сторон. Хотя надо отметить, некоторые ученые предлагали «введение процессуальной процедуры принятия перед судом клятвы-присяги сторонами говорить в суде правду и ничего кроме правды», «предоставить возможность применения судом таких процессуальных мер борьбы с ложью (в случаях доказательного разоблачения лжи), как предупреждение стороны о недопустимости использования ложных сведений и о возможных негативных последствиях злоупотребления (ложью), а также в виде наложения процессуального штрафа (по усмотрению суда в размере, кратном минимальному размеру оплаты труда), прекращения производства по делу, вынесения решения в пользу противоположной (добросовестной) стороны» [11].
Однако по настоящее время подобных мер законодатель в процессуальных кодексах не предпринял. Но, как справедливо отмечено, порок процессуальной нормы с позиций должного системно-правового функционирования не может «отменять» юридико-регламентируемое правило поведения материального толка [2].
В то же время в Гражданском кодексе РФ принцип добросовестности стал главенствующим и содержит достаточно много норм о негативных последствиях в случае лжи.
К сожалению, лжи в арбитражных судах и судах общей юрисдикции с появлением данных норм не стало меньше, хотя надо отметить, что данная проблема с определенной регулярностью поднимается научной общественностью [17]. Мы не можем не согласиться с тем, что «право на ложь в суде» является фактором, дестабилизирующим правосудие [21].
Допущение лжи в суде подрывает доверие к суду, к его способности выносить справедливые судебные акты. Суды, потеряв доверие, закономерно утрачивают легитимность [7].
Соответственно, ложь вредна, поскольку подрывает возможность выполнения функции правосудия.
Полагаем, что допущение лжи в судебном процессе противоречит самим основам правосудия. «Гражданский процесс является не зависящим от произвола; здесь действует неизменный закон, и произвол влияет на проявление закона только в частностях; всякие попытки организовать гражданский процесс в противность основному закону оказывались безуспешными…» [13, c. 5]. «Закон, вытекающий из природы человека, неизбежно требующей удовлетворения своих потребностей, в дальнейшем неизбежно порождающей между людьми столкновения в области част- ноправовых отношений, с другой стороны – закон самосохранения государства, неизбежно требующий водворения спокойствия в правоотношениях граждан. Пока будет существовать государство, признающее личность человека, – этот основной закон гражданского процесса будет оставаться неизменным, определяющим процесс законом» [13, c. 8]. Современные философы также обращают внимание на то, что «если краткосрочная цель правосудия в том, чтобы прервать конфликт [19], то не состоит ли долгосрочная цель в том, чтобы восстановить социальные узы, положить конец конфликту, установить мир?».
Ложь, безусловно, является барьером в достижении этих целей. Вынесение несправедливого судебного решения, не основанного на правде, не способно сделать конфликтную ситуацию бесконфликтной. «Руководимая правдой личность отличается не только тем, что держится правил, исполняет обязанности и настойчива в правопритязаниях, но и тем, что берется не принимать фальши, даже если она узаконена» [4].
Наш Гражданский кодекс РФ предусматривает негативные правовые последствия в ситуации с прямым обманом при заключении сделки (ст. 179 ГК РФ), при даче заверений (ст. 431.2 ГК РФ) и даже сокрытии информации (обман путем умолчания) (ст. 179, ст. 431.2, ст. 10 ГК РФ). В.Ф. Яковлев, отмечал, что «метод гражданского процессуального регулирования является продолжением гражданско-правовой позволительности» [26]. Развитие принципа добросовестности в гражданском праве должно серьезнейшим образом повлиять на процессуальные кодексы и правоприменительную практику.
Очевидно, что принцип добросовестности не совпадает с запретом злоупотребления правом. Он шире, он не просто запрещает действия на причинение вреда. В частности, он предусматривает, что «при установлении, исполнении обязательства и после его прекращения стороны обязаны действовать добросовестно, учитывая права и законные интересы друг друга, взаимно оказывая необходимое содействие для достижения цели обязательства, а также предоставляя друг другу необходимую информацию (ч. 3 ст. 307 ГК РФ)».
Соответственно, положения абз. 1 ч. 2. ст. 41 АПК РФ, требующие от лиц, участвующих в деле, добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными правами, не должны восприниматься лишь как прелюдия к абз. 2 ч. 2 ст. 41, гласящему, что злоупотребление процессуальными правами лицами, участвующими в деле, влечет за собой для этих лиц предусмотренные АПК РФ неблагоприятные последствия.
Полагаем, что вскрытие факта, что сторона скрыла от суда и сторон существенное доказательство, обманув суд, должно влечь последствия в виде пересмотра судебного акта и лишения обманувшей стороны возможности ссылаться на принцип правовой определенности.
Если при заключении сделки сторона, добровольно вступая в договорные правоотношения, не вправе утаивать от другой стороны факты, относящиеся к предстоящей сделке, то и в суде она тем более не должна иметь права распоряжаться фактами, утаивая их от суда.
Полагаем логичным и справедливым, что сторона, обманувшая суд, будет жить в ожидании, что ложь вскроется, и дело будет пересмотрено.
Причем в процедуре пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам не должно быть искусственного разделения между обстоятельствами и доказательствами. Данное разделение отсутствует в других правопорядках. Не видим никакой логики в том, чтобы представление нового доказательства, имеющего важное значение для дела и скрытого от суда и лиц, участвующих в деле, могло бы не приниматься судом в качестве основания для пересмотра.
Когда доказательство было сокрыто и от суда, и от стороны, то оно, хотя и служит доказательством уже ранее заявлявшегося обстоятельства в суде, но если является важным для правильного и справедливого решения, должно быть принято, и дело должно быть рассмотрено заново с учетом этого доказательства [21]. Такой подход может обеспечить определенную защиту от лжи в процессе, делая ее невыгодной.
Безусловно, это лишь один из сравнительно легких способов повлиять на ситуацию с ложью в процессе, и он не является единственным действием, которое должно быть предпринято.
Однако реализация данного подхода может быть достаточно быстро осуществлена толкованием высших судебных инстанций, Верховного Суда РФ либо Конституционного Суда РФ [22], которое может заложить вектор искоренения лжи (безусловно, каждый шаг в этом направлении должен быть тщательно продуман) в гражданском процессе и повышения доверия к суду.
Благополучие страны, а также ее состязательная способность на фоне других стран определяются одной универсальной культурной характеристикой – присущим ее обществу уровнем доверия [25].
Только наличие эффективных средств защиты от лжи в процессе соответствует принципу поддержания доверия граждан к закону и действиям государства – все ждут от судов справедливости, а не поощрения лжи и обмана.
Список литературы Ложь, добросовестность в гражданском праве и процессе
- Абушенко Д.Б Проблемы взаимовлияния судебных актов и юридических фактов материального права в цивилистическом процессе: монография. Тверь,2013.
- Азми Д.М. К вопросу о системном значении и соотношении материального и процессуального права // Законодательство и экономика. 2010. № 2. С. 24-30.
- Анищенко Д.Е. Эстоппель в налоговом праве // Налоговед. 2019. № 4. С. 23-31.
- Арановский К.В. Аксиология правды в русском мировоззрении и государственное право // Правоведение. 2003. № 6.С. 189.
- Бугаевский А. Ложь в гражданском суде // Право: еженедельная юридическая газета. 1909. № 12.
- Васильев А.М. Правовые категории. М., 1976. С. 20.
- Гаджиев Г.А. Закон "О Конституционном Суде РФ": новеллы конституционного судопроизводства 2010 г. // Журнал российского права. 2011. № 10. С. 25.
- Гедда А.Н. Недобросовестность сторон в гражданском процессе: Заметки из судебной практики // Журнал Министерства юстиции. 1910. № 1. С. 7-8.
- Гражданское процессуальное уложение Германии. М., 2006. С. 54.
- Жалинский А., Рерихт А. Введение в немецкое право. М., 2001. С. 523.
- Коваленко А.Г. Институт доказывания в гражданском и арбитражном судопроизводстве. М., 2002. С. 200.
- Малинин М.И. Теория гражданского процесса. Одесса, 1881.
- Маркс К. Дебаты по поводу закона о краже леса // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. I. С. 158.
- Молчанов В.В. Об ответственности в гражданском судопроизводстве // Арбитражный и гражданский процесс. 2010. № 10. С. 28-31.
- Могут ли судебные представители или стороны в гражданском споре лгать суду о фактах спора? Научно-практический круглый стол [Электронный ресурс]. URL: http://m-logos.ru/publications/nauchno-praktichesky_kruglyi_stol_mogut_li_sudebnye_predstaviteli_ili_storony_v_gragdanskom_spore_lgat_sudu_o_faktah_spora/.
- Определение ВС РФ от 21.02.2017 № 305-КГ16-14941/.
- Определение СКЭС ВС РФ от 2 июля 2019 года № 310-ЭС19-1705.
- Право, закон и суд в ранних трудах Карла Маркса (к 200-летию со дня рождения К. Маркса): сборник статей / Т.Я. Хабриева, В.В. Лазарев, А.С. Автономов и др.; отв. ред. В.В. Лазарев. М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 2019.
- Рикер П. Справедливое. М., 2005. С. 259.
- Розин Н. Ложь в процессе // Право: еженедельная юридическая газета. 1910. № 48. С. 2898.
- Султанов А.Р. Как повысить уважение к суду, или пересмотр возможен // Актуальные проблемы теории и практики конституционного судопроизводства. Вып. IV. Казань, 2019. С. 210-217.
- Султанов А.Р. О неконституционности толкования ст. 311 АПК РФ, не допускающего пересмотра при выявлении новых доказательств, скрытых от суда другой стороной // Вестник Гуманитарного университета. 2019. № 2 (25) С. 52-61.
- Терехин В.А., Захаров В.В. Право на ложь в суде как фактор дестабилизации правосудия // Наука. Общество. Государство: электронный научный журнал. 2015. Т. 3. № 3 [Электронный ресурс]. URL: http://esj.pnzgu.ru/.
- Фукуяма Ф. Доверие. М., 2004.
- Юдин А.В. Имеют ли стороны право на "ложь" в гражданском процессе? //Российская юстиция. 2006. № 6. С. 32-34.
- Яковлев В.Ф. Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений //Яковлев В.Ф. Избранные труды. Т. 2. М., 2012.