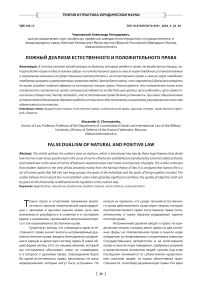Ложный дуализм естественного и положительного права
Автор: Чернявский Александр Геннадьевич
Журнал: Вестник Академии права и управления @vestnik-apu
Рубрика: Теория и практика юридической науки
Статья в выпуске: 4 (61), 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье изложен взгляд автора на дуализм, который вводят в право те юридические теории, которые делят право на две основные сферы: на положительное право в смысле норм поведения, устанавливаемых и охраняемых внешним (государственным) авторитетом и на естественное право в смысле норм поведения, требуемых разумом и нравственным сознанием людей. Автор дает оценку, что современный дуализм в воззрении на право исходит главным образом из кантовской теории права. Анализируется, что человеческая жизнь есть совокупность человеческих целей, которые распадаются на две большие группы: цели индивида и цели совместной жизни (общества). Автор полагает, что естественное право должно установить, при каких общезначимых условиях можно ближайшим образом придать исторически обусловленному социальному регулированию качество объективной истинности.
Юридические теории, естественное право, положительное право, дуализм, интерес, нравственный критерий, общение
Короткий адрес: https://sciup.org/14120350
IDR: 14120350 | УДК: 340.12 | DOI: 10.47629/2074-9201_2020_4_24_30
Текст научной статьи Ложный дуализм естественного и положительного права
Т олько ясное и отчетливое понимание аналогичности законов теоретической юриспруденции с законами в научном смысле может дать нам возможность разобраться в сложном и в последнее время, к сожалению, чрезвычайно запутанном вопросе о так называемом естественном праве.
Существует взгляд, что утверждать идею естественного права значит вносить непримиримый дуализм в понятие права, вводить безнадежное разделение в единую и целостную систему права. В такой общей форме взгляд этот, по нашему мнению, который мы постараемся обосновать ниже, не справедлив, и в вопросе о дуализме права, порождаемом будто бы идеей естественного права, накопилось не мало недоразумений, которые могут быть устранены. Но нельзя не признать, что среди течений естественного права действительно существуют теории, которые противопоставляют право естественное праву положительному и таким образом раздваивают единое понятие права.
Несомненный дуализм вводят в право те юридические теории, которые делят право на две основные сферы: на положительное право в смысле норм поведения, устанавливаемых и охраняемых внешним (государственным) авторитетом, и на естественное право в смысле норм поведения, требуемых разумом и нравственным сознанием людей, причем под этим последним понимается то субъективное нравственное сознание людей, то норма объективной нравственности, то вообще разумная идея права. Раз идея естественного права находится не как общий смысл естественного права и действующих норм, а утверждается на априорном нравственном или логическом принципе, то, разумеется, она будет служить основанием такой системы права, которая резко разойдется с правом действительным.
Эти теории исходят из признания нравственного критерия как определяющего и обосновывающего собой и положительное право, и государственную власть. Положительное право, устанавливаемое государственным авторитетом, подлежит постоянной критике и отмене; оно обязательно только внешне-формальным образом, пока оно предписывается внешним авторитетом, само по себе не имея никакой внутренней ценности: нет внешнего предписания власти, нет и юридической нормы. Нравственный же принцип не зависит ни от какого случайного, внешнего и формального признака, он вытекает из разума и нравственного сознания людей; он не подлежит отмене, а лишь углублению; он определяет собой и право положительное и власть, и в случае конфликтов между нравственным сознанием и формально-юридическими нормами последнее слово должно остаться за нравственным сознанием. Это нравственное сознание и есть естественное право.
Мы будем конечно, прослеживать здесь историю этого воззрения на естественное право; иначе мы могли бы искать корни его уже у Гуго Гроция, смотревшего на естественное право, как на humano intellectui convernies, и определявшего естественное право, как нормы, которые нам внушает правый разум, указывающий нам, – сообразно тому, соответствует действие или не соответствует разумной природе, – является ли это действие моральным извращением или моральной необходимостью и, следовательно, запрещается оно или предписывается Богом, творцом природы.
Не следует, однако преувеличивать юридический дуализм Гроция, так как его воззрение на естественное право еще недостаточно дифференцировалось от прежнего воззрения: это право действует у Гроция в силу естественной необходимости, оно же есть всеобще соблюдаемое положительное право и противопоставляется им не положительному праву, а добровольному; в качестве такого оно не противостоит положительному праву, а составляет его необходимую основу [1].
Мы должны были бы, в случае исторического рассмотрения, остановиться также и на школе Краузе-Аренса, так как по взглядам этой школы естественное право (или другими словами философия права) проистекает из общечеловеческой веры, что существуют принципы справедливости, независящие от положительных законов и учреждений и обосновывающие как критику этих законов и учреждений, так и те преобразования, которые могут быть в них произведены. Именно эта вера в абсолютную справедливость, тесно связанная с общими воззрениями людей на нравственный порядок мира и на верховную причину всего, была постоянно могущественным рычагом всякого общественного прогресса, тем светочем, который в прошлом освещал пути человечества и который дает предвидеть в будущем общественный строй, более соответствующий принципам истины, добра и справедливости. Естественное право, по словам Аренса, излагает основные принципы права, так как они вытекают из разумной природы человека, и определяет, каким образом отношения между людьми должны быть установлены, чтобы быть сообразными идее справедливости. Естественное право, по мнению Аренса, создает не химерическое состояние, а состояние идеальное, к которому общественная жизнь должна все более и более приближаться [2].
Современный дуализм в воззрении на право исходит, главным образом, из кантовской теории права. Для Канта положительное право вытекает из воли законодателя, а естественное право покоится на принципе априори. Излагая законы, действующие в определенное время и в определенном месте, нельзя найти в них самих критерия для различения правого от неправого. Для этого нужно обратиться к разуму, оставив эмпирические начала. Априорные принципы, лежащие в основе естественного права, есть свобода и нравственное сознание человека. Естественное право делается у Канта нравственной критикой.
Кантовское понимание естественного права легло в основание и теории Штаммлера. Естественное право есть для него идеально-конструируемое право, служащее масштабом и целью для положительного права. Оно не должно иметь положительного значения в то же самое время и в том же самом месте, наравне с тем правом, какое принадлежит критике и оценке, с точки зрения данной идеальной системы. Все так называемое естественное право было лишь простым проявлением стремления создать на основании общезначимого объективного познания правовые нормы, как они по справедливости должны быть, и как в критическом освещении они должны служить руководящим прообразом для законодателя, творящего положительное право. Естественное право имеет в виду установить, при каких общезначимых условиях можно ближайшим образом придать исторически обусловленному социальному регулированию качество объективной истинности. В данном случае, задача сводится к тому, чтобы выработать на «веки-вечные» проект подробного законодательства с точными параграфами. Над отдельным правом высится не идеальная правовая система с конкретным, но неизменным содержанием, – такая роль принадлежит общему углу зрения, полагаемому в основу исследования и оценки.
Такое воззрение на естественное право было в конце XIX начале XX века и имело особенный успех среди русских философов права.
Очень энергичным и последовательным защитником естественного права, как нравственной критики естественного права, проявил себя особенно П.И. Новгородцев в своих многочисленных работах направленных на обоснование «нравственного идеализма в праве» [3].
Уже в первой своей научной работе («Историческая школа юристов») П.И. Новгородцев наряду с критикой воззрений старой естественно-правовой школы, защищал необходимость возрождения идеи естественного права и указывал те принципы, на которых должно быть произведено это возрождение [4]. О естественном праве, как о «нравственном идеализме», говорит Новгородцев и в своей статье в сборнике «Проблемы идеализма». За дуализм в праве высказывается Новгородцев и в своей статье «Государство и право». Естественно-правовая конструкция государства неизбежно приводит к признанию дуализма государства и права. Тот монизм, та гармония государства и права, на которых настаивает формальная теория, есть не более как абстракция, которая содержит в себе тавтологическое утверждение, что создаваемое государством право находится в единстве со своим источником – государством. Конкретный исторический процесс и живое нравственное сознание не знают этой гармонии: напротив, им присущ постоянный дуализм, вечный процесс столкновений между тем правом, которое должно быть, и законом государственным [5].
Во всех своих работах по обоснованию теории естественного права Новгородцев остался верен той идее, что норма нравственная есть норма права естественного [5]. Главный правотворящий фактор сознания есть представление о нормальном, идея должного… Эта идея должного коренится в нравственном сознании, но нередко это нравственное или естественное право сопровождается убеждением в его действительном, а не только идеальном значении [5]. В современном правосознании Новгородцев видит кризис, который знаменует для него стремление к расширению правовой сферы, к противопоставлению положительному праву нравственной критики, т.е. естественного права [6]. Задача естественно-правовой конструкции государства, не в том, чтобы объяснить фактический строй государственных отношений, а в том, чтобы указать, насколько в данном строе отражаются нравственные начала, которые должны лежать в основе правопорядка. Вместо того, чтобы право ставить в зависимость от государства, оно (государство) ставит в зависимость от идеального представления о праве [5]. Казалось бы, раз естественное право есть лишь идеальное представление о праве, то оно не имеет внешней обязательной юридической силы, но Новгородцев склонен признавать за ним прямую обязательную силу. Он признает идею естественного права, как стоящую над государством и полагающую границы проявления государственной воли [5]. Его основная естественно-правовая идея заключается в утверждении, что над государством стоят некоторые высшие нормы, которым оно должно подчиняться, из которых оно черпает и свое оправдание, и свои руководящие начала. По отношению к этим нормам государство является лишь органом, а не творцом [5]. Связанность государства своим правом вытекает не из самоограничения государственной воли, которая сама по себе совершенно свободна, а из естественного права, которое стоит над государством и направляет его деятельность. Высказать это утверждение, значит признать обязательность для государства нравственность норм, которым оно подчиняется наряду со своими подвластными [5]. Новгородцев до того отрицает значение за действительно существующими положительными нормами, что даже полагает, что никакое рассмотрение существующей правовой системы, никакое сравнение или сопоставление различных положительных прав, никакое обращение к истории не могут дать научного определения права, а самое многое могут лишь дать практическое описание положительных юридических норм[5].
Существенно те же взгляды на естественное право мы находим у Е.Н. Трубецкого в его «Лекциях по энциклопедии права» [7]. И для Трубецкого естественное право есть нравственная критика в праве, и для него оно не только идеальное мыслимое, а сущее и непосредственно обязательное. Трубецкой считает неудовлетворительным все те определения, которые отождествляют право вообще с правом только позитивным. Право положительное, т.е. по определению Трубецкого, право, обязательность которого покоится на внешнем авторитете, в конечном счете обусловливается неписанными нормами, обитающими в глубине нашего сознания, т.е. естественным правом. Предписания естественного права по своему содержанию суть вместе с тем и предписания нравственные. Естественное право – то же, что правда: оно содержит в себе всю совокупность тех нравственных требований, в силу которых мы подчиняемся или не подчиняемся тому или другому внешнему правовому авторитету [7]. Естественное право есть синоним нравственного должного в праве… Оно есть нравственная основа всякого конкретного правопорядка [7]. Так как нравственные воззрения меняются, то и естественное право меняется.
Очень своеобразный дуализм, и именно в духе разбираемого нами дуализма,вносит в право Л.Пе-тражицкий своим делением права на позитивное и интуитивное. Признак различия их он видит в фор- мальном моменте: позитивное право основывается на нормативных фактах (вообще на гетерономных началах), интуитивное не имеет в своем основании таких нормативных фактов. Это интуитивное право в конце концов отождествляется Петражицким со справедливостью. При конфликтах интуитивного и позитивного права первенство не принадлежит вообще ни тому ни другому, а зависит от данного случая. Вследствие своеобразия правовых воззрений Петра-жицкого оценить этот дуализм можно только при рассмотрении теории Петражицкого по существу, что мы и сделаем ниже. Укажем также на книгу страсбургского профессора Юнга [8], посвященную вопросу естественного права. Юнг полагает, что позитивное право дедуктивно выводится из определенных общих норм, но наряду с ним существует и естественное право, которое индуктивно, так сказать, создается из единичных конкретных конфликтов вследствие этической реакции. Властная воля, стоящая за нормами позитивного права, есть уже позднейшее явление [8]. Теория естественного права Юнга, сближаясь отчасти с интуитивным правом Петражицкого, (сочинение которого о мотивах действия он цитирует), есть теория естественного права, как права нравственного.
Внесение дуализма в понятие права наталкивается, однако, на очень существенные возражения, которые и заставляют признать такое построение теории права неправильным.
Теории естественного права, как нравственного идеализма в праве, нашли себе ряд решительных критиков и среди русских юристов. Из соображений чисто-юридического монизма, с точки зрения юридического позитивизма, против нравственных теорий естественного права высказались: Н.М. Коркунов [9], В.М. Хвостов [10], Г.Ф. Шершеневич [11] (Шершене-вич, впрочем, соединяет юридический позитивизм с философским позитивизмом, что нисколько не взаимообусловлено), Н.И. Палиенко [12]. Из соображений философского позитивизма и с точки противопоставления социологии идеализму, высказались против теории естественного права: Н.И. Кареев [13], М.М. Ковалевский [14]. Петражицкий также выступил против теории естественного права, как нравственной критики норм положительного права, из соображений, направленных против идеализма, сначала по поводу книги Новгородцева «Кант и Гегель» в статье «К вопросу о возрождении естественного права (Право, 1902, № 41-42), а потом и в своей «Теории права и государства в связи с теорией нравственности» (2-е изд., С.С. 475-477). Впрочем, он лично еще более обострил дуализм в праве внесением в область права так называемого им интуитивного права.
Определяя естественное право, как нравственное право, сторонники нравственного идеализма в праве безнадежно смешивают области права и нрав- ственности, отчего не выигрывают в ясности ни понятие права, ни понятие нравственности. Если различается право и нравственность, значит есть признаки, присущие одному и чуждые другому, если же естественное право отождествляется с нравственной критикой, то теряется возможность различить право и нравственность. Так как отличительный видовой признак права по сравнению с родовым понятием нравственности заключается, как мы это постараемся доказать ниже, в принудительности права, то смешение нравственности и права должно привести или к тому, что признак принудительности распространится и на нравственность, или принудительности будет лишено и право [15]. У сторонников отнесения в область права особого нравственного права мы и видим, действительно, такого рода последствия. Они бессильны перед задачей различить право и нравственность, и попытки их в этом направлении, очень слабые, заранее обречены на неудачу.
П. Новгородцев, приведя слова Бергбома, что человечество должно сохранять веру, что есть нечто высшее, чем формально-обязательное право; не следует только думать, чтобы это высшее было также правом, пишет совершенно справедливо: «Пусть так! Дело не в названии, а в признании этого высшего, стоящего над положительным правом, в качестве руководящего масштаба» [5]. Спрашивается только, если дело не в названии, по убеждению самого Новгородцева, то почему же он, раз его название вызывает возражение и спор, так настаивает на нем? Именно, чтобы не возбуждать не нужных и бесполезных препирательств из-за слов, и следует избегать не точных наименований. Конечно, дело не в названии, но зачем нравственное рассмотрение права называть естественным правом, когда оно и не естественное, а нравственное (что разумеется не одно и то же) и не право (так как в нем нет необходимого для права признака принудительности)?
И вот еще что важно было знать и на что мы напрасно стали искать определенного ответа у сторонников указанного дуализма в праве: какая нравственность имеется в виду, когда говорится о нравственном праве, положительная, извлекаемая из истории, или не положительная, мыслимая вне истории? Если имеется в виду положительная нравственность, т.е. нравственные нормы поведения, которых действительно придерживаются реальные люди в определенном обществе, то она тоже есть факт и входит в область истории, почему же, – возникает вопрос, – может быть найдено научное определение для права из истории положительной нравственности, а не может быть найдено из истории положительного права? И почему, если для философа, по словам П. Новгородцева, странно звучат слова «философия положительного права», т.е. другими словами, философия положительной нравственности? Если же имеется в виду не положительная нравственность, то речь может идти лишь о разумной или, по аналогии с правом, естественной нравственности. Но что такое эта естественная нравственность? Если на вопрос о том, что такое естественное право, дается ответ, что это нравственное право, то такой ответ может быть дан и на вопрос, что же такое естественная нравственность? Продолжая, следовательно, аргументацию дуализма права, мы должны прийти к признанию и дуализма нравственности, и все спорные вопросы такого дуализма снова возникнут и по отношению к нравственности, без всякой надежды на свое разрешение.
При внесении дуализма в единое понятие права мы наталкиваемся на неразрешимый вопрос и значимость того и другого права. Если происходит конфликт нормы положительного права с нормой нравственного права, то возникает вопрос, какая норма значительнее, какая норма обязательна к исполнению, нравственная или юридическая. Вопрос этот совсем выходит из области права и пытаться вставить его в область права, значит делать непростительное смешение понятий, которое служит не к углублению, а скорее к разрушению самого понятия права. При столкновении отдельных норм положительной нравственности и положительного права (по существу здесь конфликта быть не может, потому что, как мы постараемся показать, право есть минимум нравственности), с точки зрения данного действующего права, никакой другой обязательности, кроме юридической, нельзя признать, так как для права всякий вопрос общественной жизни, относительно которого произошел спор, могущий нарушить общественный мир, должен быть разрешен правом [16]. Право перестало бы быть таковым, если бы против него можно было делать отвод ссылками из чуждой ему области. Подобный конфликт, всегда тягостный и возможный не только между отдельными нормами нравственности и права, но и между отдельными нормами единого права, юридически может быть разрешен в целях примирения тем, что сама юридическая норма, вызывающая конфликт, будет изменена сообразно направленной против него критики, но пока она остается неизменной, юридически обязательна только она. Разумеется, так как общественная жизнь не исчерпывается одним правом, возможно, что фактически в обществе получит обязательную силу именно нравственная норма, но надо ясно сознавать, что в данном случае происходит нарушение права, а не облекать этого правонарушения в мнимо-юридические (естественно-правовые) формы, как будто оно и есть самое настоящее торжество права.
Ведь точно также может произойти конфликт между нормой положительной нравственности и индивидуальным нравственным сознанием или ре- лигиозной нормой, и снова возникает вопрос, какая норма обязательна. Ответ на этот вопрос, очевидно, может быть дан аналогичный предшествующему: с точки зрения положительной нравственности обязательны только ее нормы, но эти нормы для отдельного индивидуального нравственного сознания или религиозного верования своей обязательной силы иметь не будут; но эту индивидуальную субъективную или религиозную обязательность нельзя вводить в сферу нравственности и облекать в формы особой естественной нравственности, противостоящей положительной.
Конечно, в реальной жизни (как и в философском мышлении) в случае расхождения различных нравственных и религиозных норм восторжествует норма положительного религиозного сознания, так как сама положительная нравственность покоится и обосновывается религиозными принципами (понимая под религиозным принципом отношение к явлениям временной жизни с точки зрения вечности и абсолютного начала), а в случае расхождения норм положительной нравственности и положительного права восторжествует начало нравственное, так как само право, как таковое, обосновывается и оправдывается более широким принципом нравственного поведения. Но признавая эту фактическую и логическую иерархию значимости различных норм, нужно в то же время тщательно избегать двух вещей: во-первых, не следует смешивать различные сферы, чтобы не внести в рассмотрение общественной жизни полной неопределенности и недифференцирован-ности, где объективные нормы будут опровергаться субъективными, а субъективные объективными, где в юридическое рассмотрение будут вводиться нравственные точки зрения, а в нравственное – юридические соображения; во-вторых, нельзя этого примата нравственных норм над юридическими выставлять как принцип объективной обязательности. Субъективные нравственные воззрения слишком различны, точно так же, как и субъективные толкования юридических норм; но для юридических норм объективная обязательность достигается тем, что создаются особые общественные органы, объективно закрепляющие эти нормы и устанавливающие определенно и непререкаемо, под какую норму должно быть поведено данное спорное житейское отношение. Для сферы нравственных норм таких органов, фиксирующих нравственные нормы и подводящих под них отдельные отношения, не существует; поэтому, конечно, ни о какой объективной обязательности нравственных норм для права не может быть и речи, так как не известно, кто же определит точное содержание нравственной (или, как выражаются сторонники дуализма в праве, естественно-правовой) нормы, и кто применит ее к данному случаю. За отсутствием каких бы то ни было органов естественного права, все здесь, очевидно, предоставлено произвольному субъективному толкованию и усмотрению. Субъективный же произвол не может быть введен в область права, даже и под покровом естественного права.
Если признана правовая обязательность и примат естественно-правовых (нравственных норм), то, – спрашивается, – каким образом тогда вообще можно говорить о существовании наряду с естественным правом еще какого-то положительного права? Ведь это последнее должно вполне слиться с естественным, ибо только естественное право определяет юридическую обязанность. Гораздо последовательнее, с логической точки зрения, чем дуалисты права, путающиеся в собственных противоречиях, поступают те представители теории естественного, нравственноразумного права, которые само право отождествляют именно с естественным разумным правом, а под естественным правом понимают нормы, извлекаемые разумом априорно из рассмотрения идеи права, как такового.
Яркий образец такого монистического априорного построения разумно-обоснованного права мы находим у Руссо. Разумно, оправдано, правомерно только то право, которое покоится на общественном договоре, и только то государство, в котором господствует общая воля, согласная в своих частях, направленная на общий интерес и охраняющая свободу каждого. Здесь не извлекается из нравственного сознания людей особого естественного права, но конструируется чисто априорно система права, отвечающая разумной идее права. Мнение, иногда высказываемое в литературе, будто Руссо уничтожил идею естественного права, не совсем правильно, не идею естественного права он уничтожил, а дуализм в праве, признав за право только право разумное (естественное).
Лишь разновидностью того же воззрения на естественное право являются те теории права, которые хотя и отрицают нравственный идеализм вообще, тем не менее так конструируют нормы объективного права, что эти нормы объективной нравственности выводимы не из нравственного сознания, а из социологического рассмотрения
Наиболее последовательно эта теория естественного права, как норм, вытекающих из основного принципа социальной морали, развита Дюги. Правда у него это право не носит названия естественного права, но только потому, что все объективное право есть у него не что иное, как разумное право, ему же противостоит не положительное право, а положительный закон, который может отвечать или не отве- чать праву. Монизм в праве достигается тем, что признается только естественное право.
По воззрению Дюги, правило общественной солидарности вытекающее из социологического закона общественной взаимозависимости или солидарности, есть основа объективной общественной этики; оно же является руководящей идеей объективного права, тем критерием, каким должны оцениваться положительные законы. Разумна и оправдана только та система положительных законов, которая построена на уважении к правилу общественной солидарности и направлена на поддержание и развитие этой солидарности [17].
Система (абстрактных) норм, вытекающих из принципа общественной солидарности, именуемая Дюги объективным правом, конечно есть не что иное, как естественное право в духе Руссо, но только базирующееся на принципе, взятом из области социологии. Признается существование только объективного права, нормы права, возвышающиеся и над индивидом, и над обществом, изначальной, из которой дóлжно выводить всю систему права и с которой сообразоваться должна всякая власть, в том числе и государственная и всякий положительный закон. Положительный закон, по его мнению, еще не есть право; правом он является тогда, когда отвечает естественно-правовой норме общественной солидарности. Государственная власть и поддерживаемая ею система положительных законов могут быть обоснованы и оправданы только при согласии их с «объективным правом, которое выводится разумом из принципа общественной солидарности. Это объективное право – право чисто разумное, так как оно не есть создание какой бы то ни было человеческой воли; ни воля Божественная или главы государства, ни воля всего народа, которыми обосновывают системы права теории теократические и демократические, не могут оправдать своей обязательности. Обязательность всякой положительной юридической нормы лишь в ее соответствии разумному принципу общественной солидарности. Все право покоится на regle de droit, a regle de droit (верховенство права, правовая норма) есть норма чисто рационалистическая. Трудно представить себе более крайнюю апофеозу идею естественного права.
Эти монистические теории естественного права в сущности отождествляют все право с так или иначе, идеалистически или позитивистически, понятой нравственностью и подлежат тем же всем возражениям, какие возникают против теорий последовательно дуалистических.
Список литературы Ложный дуализм естественного и положительного права
- Чернявский А.Г., Фундаментальные основы права: компаративистика в юриспруденции, Москва, 2019, С. 57.
- Ahrens H., Cours de droit naturel ou de philosophie du droit : fait d’apres l’Etat actuel de cette science en Allemagne, – 4 edition, revue et considerablement augmentee. – Meline, Cans et Compagnie, Libraires-Editeurs, 1853, S.S. 1-6.
- Новгородцев П.И., Нравственный идеализм в философии права (Проблемы идеализма), 1902, С.С. 236-296.
- Новгородцев П.И., Историческая школа юристов, М., 1896, С.С. 1-22.
- Новгородцев П.И., Государство и право, Вопросы философии и психологии, кн. 74-75.
- Новгородцев П.И., Кризис современного правосознания, М. 1908, С. 16.
- Трубецкой Е.Н., Лекции по энциклопедии права, Москва, Т-во типографии А.И. Мамонтова, 1917.
- Erich Jung, Das Problem des naturlichen Rechts, Leipzig, 1912.
- Коркунов Н.М., Лекции по общей теории права, 7-е. изд., СПб., 1907, С.С. 84-99.
- Хвостов В.М., Общая теория права, 4-е изд., -М., 1905, С.С. 58-60.
- Шершеневич Г.Ф., Общая теория права, М., Изд. Бр. Башмаковых, 1911. С.С. 26-39.
- ПалиенкоН.И., Учение о существе права и правовой связанности государства, Харьков, Тип. и лит. М. Зильберберг и с-вья, 1908.
- КареевН.И., Нужно ли возрождение естественного права, Рус. Богатство, 1902, № 4.
- КовалевскийМ.М., Социология и сравнительная история права, Вестник воспитания, 1902, №2.
- ЧернявскийА.Г., Роль и значение идеологии для государства и права, Монография / 2020. Сер. Научная мысль (Изд. 2-е, испр. и доп.), С. 147.
- Чернявский А.Г., Погребная Ю.К., Идеологическая функция права, Москва, 2015, С. 153.
- Чернявский А.Г., Право как минимум нравственности, Образование и право, 2020, № 3, С. 53-57.