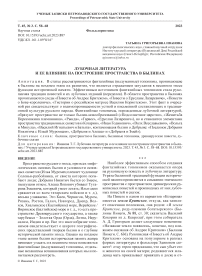Лубочная литература и ее влияние на построение пространства в былинах
Автор: Иванова Татьяна Григорьевна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Филологические науки. Фольклористика
Статья в выпуске: 3 т.45, 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются фантазийные (выдуманные) топонимы, проникающие в былины на позднем этапе их развития, что является отражением затухания в песенном эпосе функции исторической памяти. Эффективным источником фантазийных топонимов стала рукописная традиция повестей и их лубочных изданий (переделок). В области пространства в былинах прочитываются следы «Повести об Андрее Критском», «Повести о Еруслане Лазаревиче», «Повести о Бове-королевиче», «Гистории о российском матросе Василии Кориотском». Этот факт в очередной раз свидетельствует о взаимопроницаемости устной и письменной составляющих в традиционной культуре русского народа. Фантазийные топонимы, порожденные лубочной литературой, образуют пространство не только былин-новообразований («Подсолнечное царство», «Женитьба Пересмякина племянника», «Рында», «Гарвес», «Еруслан Лазаревич»), но и становятся элементами пространства традиционных сюжетов («Козарин», «Иван Годинович», «Волх Всеславьевич», «Вольга и Микула», «Василий Игнатьевич и Батыга», контаминация былин о Добрыне: «Поединок Добрыни Никитича с Ильей Муромцем», «Добрыня и Алеша» и «Добрыня и Змей»).
Былины, пространство в былинах, былинные топонимы, древнерусские повести, лубочные сказки
Короткий адрес: https://sciup.org/147240127
IDR: 147240127 | УДК: 821.161.1.09"8/16" | DOI: 10.15393/uchz.art.2023.887
Текст научной статьи Лубочная литература и ее влияние на построение пространства в былинах
Пространство русского эпоса, при всех мифологических основах былин и условности основных сюжетов (Илья Муромец пленяет чудовище Соловья-разбойника, от свиста которого погибают люди; Добрыня Никитич бьется со Змеем, пышущим огнем; Алеша Попович убивает Тугарина Змеевича, который умеет летать; Илья один сражается со всем татарским войском и т. д.), весьма узнаваемо. Это Киев, Чернигов, Муром, Рязань, Ростов, Галич, Новгород, Днепр, Волхов, Хвалынское (Каспийское) море, Верейское / Вирянское (Балтийское) море и т. д., то есть пространство Древнерусского государства, а также зарубежья – Золотая Орда (Орда), Литва, Иерусалим, Индия и пр. Все это многообразие топонимов свидетельствует о широте географических представлений творцов былин и о глубине исторической памяти эпоса. Однако на позднем этапе жизни былин историческая память жанра начинает угасать и в песенном эпосе появляются фантазийные (выдуманные) топонимы, отдельные механизмы возникновения которых мы и попытаемся рассмотреть.
***
Наиболее эффективным способом создания фантазийных топонимов оказывается опора на рукописную повесть и лубочную литературу. Утрата былинной традицией функции исторической памяти проявляется в смыкании эпического пространства с пространством древнерусских рукописных повестей и производных от них лубочных повестей и сказок.
На Пинеге в одном из вариантов «Козарина» имеется земля Критское, откуда, как заявляет спасенная полонянка, она родом: «Я земли Критское, роду-племени богатырского» (Былины Пинеги, № 88, ст. 30; сказитель Василий Кокорин из д. Кеврола)1, при этом собиратель А. Д. Григорьев делает следующее пояснение: «Название земли появилось, конечно, под влиянием сказания об Андрее Критском» (Былины Пинеги. С. 636). Рукописная «Повесть об Андрее Критском» основана на популярном в разных формах литературы и фольклора Эдиповом сю-жете2: отцу героя предсказано, что сын убьет его и женится на своей матери; родившегося младенца мать приказывает привязать к доске и от- править в море; его спасают монашенки, которых он, войдя в возраст, растлевает; затем герой появляется в Крите, нанимается сторожить виноградник своего неузнанного отца и убивает его, приняв за вора; после этого Андрей женится на своей матери, но та, признав по шраму в нем сына, отправляет его каяться; три исповедника не дают герою отпущения грехов, и он их убивает; епископ накладывает на Андрея покаяние – долгое сидение в погребе; в конце концов раскаявшийся герой освобождается из погреба и, получив прощение, становится епископом Крита. Эдипов сюжет в этом произведении, считающемся оригинальным русским памятником (XVI век), связывается с именем византийского церковного писателя и православного святого Андрея, архиепископа Критского (VII– VIII века), чье каноническое житие не имеет ничего общего с коллизией Повести3. Источником Повести, скорее всего, является одно из духовных произведений архиепископа Андрея о безымянном герое – «Великий покаянный канон», читающийся в церкви в четверг пятой недели Великого поста. Основная идея канона связана с представлением о всесильности раскаяния даже самых больших грешников. Текст Повести в краткой и распространенной редакциях дошел до нашего времени в 47 списках XVI–XIX веков. Один из списков начинается предложением: «БЪ град Крит, и в том градЪ бЪ некий купецъ именем Поуливач» (Повесть об Андрее Критском. С. 270), где обозначен топоним, заинтересовавший пинежскую былинную традицию.
Отметим, что «Повесть об Андрее Критском», в отличие от «Повести о Бове» и «Повести о Еруслане Лазаревиче», о которых мы будем говорить далее, не нашла отражение в лубочной литературе, которая была посредником между рукописной повестью и устной традицией. Тем не менее сюжет Повести оказался привлекательным для фольклора, где христианская идея покаяния исчезла, а на первый план вышла занимательность рассказа. В форме сказки (СУС 931 «Кровосмеситель (Андрей Критский)») повесть зарегистрирована в фольклоре всех трех восточнославянских народов. Устные сказочные варианты сюжета рассмотрены М. Н. Климовой и В. Л. Кляусом [7], [11].
Таким образом, механизмы появления в пинеж-ской былине о Козарине топонима земля Критское следующие: Повесть об Андрее Критском → ее устные сказочные варианты → топоним в былине. Тема инцеста, разворачивающаяся в Повести, в сознании крестьян была соположена с былиной о Козарине, которая также строится на этом древ- нем мотиве: герой, как известно, после спасения не узнанной им сестры предлагает ей брачные отношения, но эпос не допускает инцеста, который мог бы дискредитировать образ богатыря, сражающегося с врагами Руси4. Общий мотив инцеста и стал основанием для использования пи-нежскими сказителями топонима земля Критская в сюжете о Козарине.
В пинежской традиции в одном из вариантов того же сюжета о Козарине мы находим топоним Флоринский город . Козарин оказывается уроженцем этого города. Былинщица М. Е. Лобанова из д. Пильегоры начинает старину следующими строками: «Во Флоринском славном новом городи / У купца Петра, гостя богатого» (Былины Пинеги, № 77, ст. 1–2; см. также: ст. 103, 195 – в форме Фралынский ). В отрывке, зафиксированном на фонограф, представлена форма Фралыкский : «Во Фралыкском было в новом городи » (№ 77а, ст. 1). Мы полагаем, что источником этого топонима могло быть еще оно произведение древнерусской литературы – «Гистория о российском матросе Василии Кориотском и о прекрасной королевне Ираклии Флоренской земли » (о Гистории см. ниже). Флоренская земля – это, как следует из текста Повести, однозначно итальянский город Флоренция5.
Повторим еще раз, что появление топонимов земля Критское и Флоринский город в былине о Козарине, где подвиг богатыря заключается в борьбе с татарами (освобождение девушки-полонянки), свидетельствует о затухании исторической мысли в былинах. Пинежский материал эти процессы затухания демонстрирует наглядно. Местная традиция предлагает разные топонимы для родного города Козарина. Чернигов ( Церни-гов , Цернилов ) (Былины Пинеги, № 78, 78а, 80) и Галицин ( Галичин ; от былинного Галич; № 82, 82а) остаются в рамках классического былинного пространства. Москва (№ 85, 87) – это уже шаг к разрушению того пространства, которое создано русским эпосом. На Пинеге имеются варианты, в которых локус никак не обозначен (Былины Пинеги, № 79, 81, 83). И наконец, топонимы земля Критское и город Флоринский полностью вписываются в общую картину процессов выхолащивания в русском эпосе функции исторической памяти.
Источником для конструирования фантазийных топонимов в былинах является еще одно произведение древнерусской литературы – «Повесть о Бове королевиче»6. Сюжет о Бове впервые зарегистрирован в одной из частей французской поэмы «Французские короли» (XIV век). В своем пути на Русь Бова прошел следующие этапы:
Италия (народно-лубочные издания поэм и прозаических произведений о Бове) → Дубровник (сербский перевод), находившийся в XV–XVI веках под большим культурным итальянским влиянием → Белоруссия с ее восточнославянской культурой внутри Речи Посполитой, для магнатов которой в 1540-е годы была создана «Повесть о Бове» (так называемый познанский список) → русская рукописная «Повесть о Бове» (не позднее середины XVI века), претерпевшая трансформацию от рыцарского куртуазного романа к богатырской сказке → лубочные издания сказки о Бове (XVIII–XIX века) → устные сказки [13].
В. Д. Кузьмина выделила на русской почве пять редакций рукописной «Повести о Бове» (74 списка). В лубочных изданиях насчитывается 20 редакций (учтено 225 книжных изданий XVIII–XX веков). Имеются также «забавные листы» (лубочные картинки) с изображением персонажей и эпизодов из сказки о Бове (всего 88 изданий) [12], см. также: [19]. Устные варианты сказки – СУС 707В* «Бова-королевич» (16 русских вариантов). Один из выразительных устных вариантов – сказка А. Д. Ломтева из Пермской губернии «Боба-королевич» (Зеленин, № 18).
В сюжете Повести о Бове есть король Гви-дон, правитель города Антона, отец Бовы; его неверная жена Милитриса и ее любовник Додон, которые убивают Гвидона; попытка убить мальчика Бову; верный дядька Бовы Симбалда, помогающий герою в его борьбе с Додоном и Милитрисой. Весь этот образный ряд находит место в русской литературе, в том числе и у А. С. Пушкина. Нам же важно указать на случаи влияния Повести (лубочной сказки) о Бове на топонимику былин. Обратим внимание на былину «Женитьба Пе-ресмякина племянника» сказительницы с Зимнего берега Белого моря Марфы Крюковой – известной любительницы чтения лубочной литературы. «Женитьба Пересмякина племянника» – это былина-новообразование, то есть произведение, сочиненное сказителем былинным стихом на основе внебылинных знаний. Как выяснил Н. В. Васильев7, эта старина Марфы Крюковой восходит к уже названной нами «Гистории о российском матросе Василии Кориотском и о прекрасной королевне Ираклии Флоренской земли» – памятнику литературы времен Петра I, построенному по законам западноевропейского любовно-авантюрного романа. «Гистория» была научно осмыслена и опубликована по одному из списков Л. Н. Майковым8. В 1914 году «Гистория» в рамках задуманной Б. И. Дунаевым «Библиотеки старорусских повестей», предна- значенной прежде всего для учащихся, была напечатана издательством И. Д. Сытина (Гистория о российском матросе 1914). Это издание не было лубочным в прямом смысле этого термина, но иллюстрировано оно было лубочными картинками с изображением персонажей из других произведений. Лубочных же изданий, то есть изданий, обращенных к самым широким слоям низовой читающей публики, «Гистория», кажется, не имела. Былина «Женитьба Пересмякина племянника» впервые была записана от Марфы Крюковой в 1901 году (повторная запись относится к 1939 году), то есть сказительница никак не могла пользоваться изданием Б. И. Дунаева. Тем не менее полагаем, что Марфа Крюкова могла познакомиться с сюжетом или по неизвестному нам рукописному варианту «Гистории», или по невыявленному пока лубочному изданию «Гистории».
По сюжету «Гистории», дворянский сын Василий Кориотский, по скудости жизни, записывается в Санкт-Петербурге в матросы и едет для обучения в Голландию; при возвращении в Россию корабль, на котором он плывет, разбивает буря, и герой оказывается на острове, где живут морские разбойники; Василий Кориотский вскоре становится разбойничьим атаманом; пленницей разбойников оказывается «флоренская королевна» Ираклия, в которую Василий влюбляется и бежит с нею от разбойников; после ряда приключений герой женится на Ираклии и становится «королем флоренским».
Марфа Крюкова в былине «Женитьба Пере-смякина племянника» достаточно полно воспроизводит сюжет «Гистории», но изменяет именной и топонимический ряд. Так, ее герой именуется не Василий Кориотский, а Пересмякин племянник. Безымянный разбойничий остров, на котором оказывается Пересмякин племянник, получает имя – Милитрийские острова: «Подули-то верты неспособныя / Со тех остовов Милитри-скиих» (Былины Зимнего берега. Крюкова, № 32, ст. 24–25; см. также: ст. 71, 79; № 32в, ст. 35, 38, 90). Н. В. Васильев предполагает, что Мили-трийские острова - это Мальтийские острова, встречающиеся в рукописных повестях: «Что же касается Милитрийских островов вместо безымянного острова повести, то это не что иное, как Мальтийские острова, весьма часто встречающиеся в наших повестях»9. Однако более убедительным нам представляется второе предположение Н. В. Васильева: «Искажению могло содействовать имя Милитрисы Кирбитьевны в популярнейшей повести о Бове Королевиче»10. В «Повести о Бове» Милитриса, повторим, – злая и коварная мать Бовы, в результате преследований которой он был вынужден бежать из своего королевства и оказался на службе у короля Зен-зевея.
Топоним Милитрийские (Мелетрийские, Милотрийские, Милотрисски) острова зарегистрирован и в других былинах Марфы Крюковой. Она создает топос учения богатырей на Мили-трийских островах , используемый ею в нескольких сюжетах. В старине «Волх Всеславьевич» Волх «премудрое ученьице» проходит на Мило-трийских островах : «Уезжал у нас Волх же Све-тослаевич / На Милотрийськи-ти уезжал славны острова» (Былины Зимнего берега. Крюкова, № 1а, ст. 61–62). Эта же тема разворачивается и в былине «Вольга и Микула» - на Милитрий-ских островах учится Вольга: «Вот отправил его в ученьица восточныя, / На Милотрисски-ти на славныя на острова » (Былины Зимнего берега. Крюкова, № 2б, ст. 62; см. также: № 2в, ст. 846). Еруслан Лазаревич в неопубликованной былине-новообразовании Марфы Крюковой также обучается восточным премудростям на Милитрийских островах [18: 144-145].
Топоним Милитрийские острова был подхвачен сестрой Марфы Крюковой П. С. Пахоловой. В ее старине в сюжете «Василий Игнатьевич и Батыга» у «прехитрых-премудрых» учителей Васька-пьяница учится также на Милитрийских островах : «А кóгда отдал мня-ко рóдной батюшка, / Он учитце-то на славны острова же всё да Милитрийския...» (Былины Зимнего берега Белого моря, № 119, ст. 317–318). «Повесть (сказка) о Бове-королевиче», таким образом, стала почвой, на которой был сконструирован один из фантазийных топонимов былин Зимнего берега.
Из сказки о Бове рождается еще один былинный топоним - царство Малобруново . В сложной контаминированной мезенской былине сказителя В. П. Аникиева («Поединок Добрыни Никитича с Ильей Муромцем», «Добрыня и Алеша» и «Добрыня и Змей») Добрыня Никитич привозит подарочки для князя Владимира:
«Подарочки: еичко изумрудово,
В торо еичко брельянтово,
Из отдалённого царства Малобрунова »
(Былины Мезени, № 25, ст. 279).
Один из героев «Повести о Бове» Марко -брун был противником главного героя. Ко -роль Маркобрун из Задонского царства угрожает королю Зензевею сжечь его царство и требует себе в жены его дочь Дружневну. После ряда приключений Бова, живший у Зензевея на положении холопа, освобождает Дружневну накануне ее свадьбы с Маркобруном. Имя Маркобрун и дало толчок мезенскому сказителю для создания былинного локуса царство Малобруново.
Еще одно произведение древнерусской литературы, которое вступало во взаимодействие с устной эпической поэзией, – «Повесть о Ерус-лане Лазаревиче», замешанная на фольклорных мотивах11. Следует подчеркнуть, что сюжет о Еруслане Лазаревиче занял особое место в фольклорной традиции. «Повесть о Ерусла-не Лазаревиче» нашла подробное освещение в монографии Л. Н. Пушкарева [18]12. Исследователь обозначил фольклорный путь Еруслана Лазаревича на русской почве: рукописная Повесть (XVII век) → лубочная сказка (с конца XVIII века) в разных редакциях → устная сказка → былина на сюжет о Еруслане. Последнее звено в цепочке (былины на сюжет о Еруслане) – это то принципиально новое, что отличает бытование сюжета в устной традиции от «Повести о Бове» и «Повести об Андрее Критском».
Еруслан Лазаревич, воспринятый из лубка, что вполне ожидаемо, оказался чрезвычайно популярным в сказочной традиции. В Указателе сказочных сюжетов зарегистрировано 24 устных варианта (СУС – 650В* «Еруслан Лазаревич»). Мы хотели бы обратить внимание на разные тенденции в освоении лубочной книжки двумя принципиально разными жанрами – сказкой и былиной. Конечно, во многих вариантах сказочники стремятся максимально точно повторить все особенности лубочной сказки (см., например, сказку с Терского берега Белого моря – Балашов, № 81), включая топоним Картаусово царство. Однако в других текстах сказка, с отсутствием в ней установки на историческое пространство, опускает все топонимы. Так, в рязанском тексте сохранены имена Лазаря Лазаревича, Еруслана Лазаревича, детские игры героя, добывание богатырского коня у Ивашки пастыря, змееборство, встреча с Рас-лановой головой, женитьба Еруслана по указанию Раслана, исцеление ослепленного отца (Смирнов. Вып. 2. C. 611–613). При этом, повторим, в тексте нет ни одного географического названия.
Как мы уже сказали, богатырский образ Ерус-лана Лазаревича, представленный в Повести и сказке, дал некоторым сказителям основание для создания былин-новообразований на данный сюжет. Еще А. Д. Григорьеву некоторые сказители указывали на то, что слыхали былину о Еруслане Лазаревиче. Так, некий старик Моисей из д. Печь-Гора Архангельского уезда сообщил собирателю, что на Кедах он слыхал такого рода былину (Архангельские былины 1904: 148). В д. Дорогая Гора на Мезени, по словам А. Д. Григорьева, также певали о Еруслане (Архангельские былины 1910: 130–131).
Варианты былины о Еруслане были записаны уже в советское время. Следует отметить, что все зафиксированные тексты используют только часть мотивов и сюжетных поворотов, имеющихся в Повести. Так, былина зимнебережной сказительницы А. В. Стрелковой «Про Еруслана Лазаревича» построена на мотиве «бой отца с сыном», хорошо известном русскому эпосу (былина «Илья Муромец и Сокольник»): Еруслан Лазаревич женится на прекрасной Василиске Вах-рамеёвне; оставляет ее, она рожает сына Лазаря Еруслановича; герой, не узнав сына, вступает с ним в поединок. Сказительница использует в своем тексте топоним царьсво Вахрамеёсь-скоё – еще один пример фантазийных топонимов в былинах, сконструированный от имени царя Вахрамея, отца героини повести (БПиЗб, № 129, ст. 35, 139, 142).
Гораздо большее количество мотивов лубочной повести преобразует в песенно-эпический вид пудожский сказитель Г. А. Якушев: богатырское детство героя, калечащего в играх детей; изгнание его из царства; добыча богатырского коня и доспехов и пр. Из былины исключается эпизод освобождения героем царства Картауса от Данилы Белого и исцеления ослепленных родственников Еруслана. Повествование старины Г. А. Якушева, как и А. В. Стрелковой, сводится к одному из главных мотивов повести – «бой отца с сыном». В тексте Г. А. Якушева мы находим топоним, связанный с именем царя Картауса, – город Картаульский . Горожане приходят к отцу героя и требуют, чтобы он выслал из города своего сына, калечащего их детей:
«Вышли-ко Еруслана да Лазаря
Из того из города из Картаульского , Пушай-то ходит, где, да ни шатаитсе!»
(Сок. – Чич., № 31, ст. 42–44; см. также: ст. 54).
Другой пудожанин, Ф. А. Конашков, явно отталкиваясь от сказки о Еруслане Лазаревиче, создал новый сюжет: царь Индии богатой посылает на стражу своих границ Ивашку Сорочинского; русский богатырь Данила Белый (в Повести это имя носит отрицательный персонаж) по просьбе своей дочери едет в Индию богатую, чтобы купить ей свадебные подарки; происходит поединок с Ивашкой, выясняется, что герои равны силой; Данила Белый объясняет цель своего путешествия в Индию богатую, Ивашка его пропускает; Данила покупает подарки (Сок. – Чич., № 92; повторная запись: Конашков, № 20).
Имеется также неопубликованная былина М. С. Крюковой о Еруслане Лазаревиче, рассмотренная наряду с названными записями А. М. Астаховой и Л. Н. Пушкаревым [3], [18: 138–155].
Нам важно отметить, что Еруслан в былинах выходит за рамки своего сюжета. Так, вопрос о влиянии Еруслана Лазаревича на образ Ильи Муромца был поднят еще В. Ф. Миллером, который отметил «смешение былинных подвигов Ильи Муромца с похождениями Еруслана»13. Мы же укажем на отражение в традиционных былинных сюжетах топонимов, сконструированных на основе «Повести о Еруслане Лазаревиче».
В кулойской былине «Иван Годинович» (запись О. Э. Озаровской в 1921 году в с. Карьепо-лье от сказителя Н. П. Крычакова) герой в поисках невесты отправляется не в традиционное королевство Литовское (что как-то соответствует исторической ситуации), а к королю Кортоусову в Кортоусово царство : «Отправлялся он тогда в Кортоусово цярсво » (Былины Кулоя, № 83, ст. 71; см. также: ст. 74).
Со сказителем Н. П. Крычаковым в самом начале ХХ века работал также А. Д. Григорьев. В записи этого собирателя Иван Годинович ищет невесту не в Кортоусовом царстве , а в городе Чернигове : «Я поеду жа во город да во Чернигову » (Былины Кулоя, № 82, ст. 37). Кортоусово царство , следовательно, в былине Н. П. Кры-чакова появилось между 1901 и 1921 годами. Любопытно также то, что в полевой записи О. Э. Озаровской есть указание на Чернигов , возникшее, вероятно, после того, как собирательница переспросила плохо понятое ею название Кортоусово царство. Л. И. Петрова, подготовившая текстологические комментарии к публикации кулойских былин в Своде русского фольклора, описывает этот фрагмент полевой рукописи собирательницы следующим образом:
«…судя по правке в полевой записи, слово (Кортоу-сово. - Т И .) первоначально не было понято собирательницей: первые два слога (до знака переноса) выправлены и перечеркнуты, слева обведено в кружок и вставлено на это место слово “Черниговец”; однако остались неза-черкнутыми четко зафиксированные (после знака переноса) три последних слога: “усово”» (Былины Кулоя. С. 664).
Источник топонима Кортоусово царство, без сомнения, «Повесть о Еруслане Лазаревиче» (XVII век). Согласно Повести, главный герой связан с царем Картаусом родственными отношениями. Один из списков (XVII век) Повести начинается строками: «Бысть в царств^ Кар-тауса Картаусовича дядюшка ево, князь Лазарь Лазаревичь, а жена у него Епистимия, а сына родила Еруслона Лазаревича» (Повесть о Еруслане Лазаревиче 1988: 301). Один из эпизодов Повести рисует, как Еруслан Лазаревич освобождает от Данилы Белого Картаусово царство («И поехал Еруслонъ Лазаревичь х Картаусову царству, ажно Картаусово царство пусто, по-пленено, и огнемъ пожьжено, и мхом поросло» (Повесть о Еруслане Лазаревиче 1988: 312)) и исцеляет магической мазью ослепленных царя Кар-тауса и своего отца Лазаря Лазаревича.
Нам важно отметить, что топоним Картаусово царство в песенном эпосе начинает жить самостоятельной жизнью – вне зависимости от сюжета о Еруслане. Названное нами Кортоу-сово царство кулойского сказителя Н. П. Крыча-кова зарегистрировано в традиционном сюжете «Иван Годинович».
Из «Повести о Еруслане Лазаревиче» в былинной традиции родился еще один топоним – Подсолнечное царство. По сюжету Повести, освободив от Данилы Белого свое родное Картаусово царство, Еруслан Лазаревич едет в Дербию-град к царю Варфоломею, убивает Чюдо (= Змея), угрожающее царству, женится на Настасье Прекрасной, но узнает, что в «Девичьем царстве, в Солнышном граде » (Повесть о Еруслане Лазаревиче 1988: 320) живет красавица краше его жены. Еруслан Лазаревич отправляется в Солнечный город, живет с новой царевной и забывает свою жену Настасью Прекрасную, родившую ему сына Еруслана Еруслановича (далее развернется коллизия «бой отца с сыном»). Впрочем, образ Солнечного (Подсолнечного) локуса известен не только в «Повести о Еруслане Лазаревиче», но и в русских народных сказках. Например, на Выгозере М. М. Пришвин от сказочника Мануйлы Петрова записал сказку «Иван-царевич в Подсолнечном царстве», опубликованную в сборнике Н. Е. Ончукова (Ончу-ков, № 166). Это сюжет СУС 551 «Молодильные яблоки» о престарелом царе, пожелавшем, чтобы ему из Подсолнечного царства привезли «молодецкие яйца».
Солнечный город «Повести о Еруслане Лазаревиче» и Подсолнечное царство сказки и дали толчок к созданию локуса Подсолнечное царство в былине-новообразовании «О царстве Подсолнечном, царе Иване Васильевиче и царевиче Федоре Ивановиче», записанной в единственном варианте в Кижах от сказителя А. Е. Чукова. Это произведение построено на сказочных сюжетах «Деревянный орел» (СУС 575) и «Царь и купеческая дочь» (СУС 873): искусный мастер для царя Василия Михайловича делает «орла самолетного», на котором сын царя Иван Васильевич улетает в Подсолнечное царство; он тайно посещает запертую в высоком тереме царевну Марью Лиховидьевну, она рожает сына Федора Ивановича; Иван Васильевич отдает ребенка бабушке-задворенке, оставив сыну царский перстень; выросший Федор Иванович, став приказчиком, влюбляется в Анну Дмитри- евичну, невесту Ивана Васильевича; голи кабацкие доносят грозному царю Ивану Васильевичу (явный отголосок имени героя исторических песен XVI века) о тайных свиданиях его невесты; он приказывает схватить приказчика и казнить, но по царскому перстню узнает в своем сопернике сына; Федор Иванович женится на Анне Дми-триевичне, а сам Иван Васильевич на царевне Подсолнечного царства, получающей в конце старины былинное имя Марья Лебедь Белая.
В былине А. Е. Чукова читаем о Иване Васильевиче:
«Прилетел он в царство под солнышком,
Слезает с орла самолетного
И начал по царству похаживать,
По Подсолнечному погуливать»
(Рыбников, т. 1, № 37, ст. 65–68; см. также: ст. 69, 105).
Соответственно властитель царства, царь Ли-ховид Лиховидьевич, именуется «царем Подсолнечным» (ст. 111, 112).
А. Н. Веселовский былину о Подсолнечном царстве вписывает в широкий круг западноевропейских средневековых литературных произведений, в которых одним из главных является мотив красавицы, запертой в башне (подвале) и охраняемой от посягательств мужчин. Истоки этого мотива, считает исследователь, надо искать на Востоке, откуда он двигался в Европу и на Русь. Русская былина о Подсолнечном царстве есть производное от сказки. В былине сказочный материал прикрепляется к историческим именам Московских великих князей: Василий Михайлович (правильно: Василий Иванович, то есть Василий III (1479–1533), великий князь Московский в 1505–1533 годах); грозный царь Иван Васильевич, то есть Иван IV Грозный (1530–1584), великий князь Московский и царь всея Руси в 1533–1584 годах; его сын Федор Иванович (1557–1598), царь в 1584–1598 годах, последний правитель из династии Рюриковичей. А. Н. Веселовский писал:
«…сюжет Подсолнечного царства перешел из сказки в былины, когда, отвечая какому-то народно-поэтическому требованию, исторические деятели дали свои имена безымянным и беспочвенным героям сказки»14.
В былине-новообразовании о Подсолнечном царстве столкнулись две тенденции: с одной стороны, активное прорастание в эпосе занимательного начала (отсюда былинная обработка сказочного сюжета), с другой – попытка законсервировать важнейшую функцию эпоса – историческую память русского народа (отсюда имена реальных исторических лиц).
Былины М. С. Крюковой, большой любительницы чтения лубочной литературы, особенно ее былины-новообразования, то есть произведения, созданные на основе сказочных сюжетов, требуют дальнейшего детального изучения. Мы пока позволим себе остановиться на одной ее старине, являющейся песенно-эпическим переложением лубочной книжки.
В репертуаре Марфы Крюковой имеется старина «Рында», записанная А. В. Марковым в 1901 году и републикованная в Приложении к 9-му тому Свода русского фольклора (Былины Зимнего берега. Крюкова, № 33, 33а). Второй вариант этого же произведения, гораздо более полный, с приключениями не только Рынды, но и его сына Гарвеса («Гарвес»), был записан в 1934 году В. П. Чужимовым (Чужимов, «Гарвес» 1936: 119– 151). «Рынду» упоминает Н. В. Васильев в статье «Беломорские былины и Повесть Петровского времени», отметив, что это произведение является «несомненно переделкой какой-то повести, пока мне неизвестной»15. Не выяснила источник «Рынды» и А. М. Астахова, указав только, что былина М. С. Крюковой является «обработкой волшебно-рыцарского повествовательного сюжета» [2: 214]16. В Своде русского фольклора комментарии ограничиваются также общими словами о некоем литературном источнике.
В результате наших разысканий было установлено, что источник «Рынды» («Гарвеса») – это анонимная авантюрно-рыцарская повесть «Заколдованный чародейственный замок, с приключениями знатного рыцаря Гарвеса» (М., 1883). В каталоге Российской национальной библиотеки зарегистрированы напечатанные в издательстве А. И. Манухина издания 1866, 1870, 1873, 1879 и 1883 годов, причем последнее названо восьмым изданием. «Заколдованный замок» – типичная рыцарско-волшебная повесть с запутанной интригой и нагромождением приключений героев. Князь Курсив «из Смурой чарованной земли» едет «искать рыцарской отваги» в замок, славящийся своими рыцарями; вступает в поединок с рыцарями, побеждает всех; на поединок с ним выезжает рыцарь Рында, которого Курсив пленяет и отвозит к себе в замок. Сестра Курсива, прекрасная Флорида, и Рында полюбили друг друга; состоялась свадьба. Соскучившись по родному замку Фортелю, Рында решает съездить на родину, чтобы затем вернуться к Флориде, но на обратном пути не может найти «очарованную землю» Курсива и возвращается домой. Далее начинается новый поворот сюжета – героем становится сын Рынды Гарвес, которого в отсутствие мужа родила Флорида.
Пройдя рыцарское обучение, Гарвес решает найти своего отца. Он приезжает в замок Фортель; его принимают в круг рыцарей; Рында покровительствует Гарвесу. Во время рыцарского турнира на пир является незнакомка, которая просит помощи, чтобы защитить ее родной город Херостин. Помочь девушке вызывается Гарвес. Они едут в Херостин; по пути Гарвес вступает в несколько поединков, освобождает от великанов девушку и пр. Спутница Гарвеса рассказывает историю Херостинской земли. Хозяина земли рыцаря Кохининского убил его воспитанник Жуан, являющийся «заклятым волшебником». Земля Херостинская превратилась в груду камней. Из замка Кайну выходит таинственный змей алого цвета. Тот, кто освободит Херостин от злодея Жуана, станет супругом прекрасной Мары, дочери бывшего властителя земель. Гарвес приезжает в замок Кайну, восхищается красотой Мары. В лесу он находит змея алого цвета, который на его глазах превращается в человека – это убитый Жуаном хозяин замка, отец Мары. Он дает герою волшебную ветку тополя, которая должна спасти Гарвеса от яда змея (по-видимому, другого). Гарвес вступает в бой со змеем, убивает его; затем сталкивается в пещере с ведьмой; описывается еще ряд его мелких приключений. Гарвес не может найти обратную дорогу в Херостин, где живет Мара. Наконец, он приезжает в роскошный замок Жуана и одерживает победу над чародеем. После этого герою открывается путь в Херостин. Далее повествование разворачивается уже не в подробностях, а прописывается скороговоркой. На свадьбу Гар-веса и Мары приезжает Рында; он получает известие, что его жена Флорида скончалась от тоски по мужу. Мара родила Гарвесу сына Проспера; Рында воспитывает внука. Когда Просперу исполнилось 23 года, он женится на красавице из Ардабарской земли.
Эта волшебно-авантюрная повесть, надо полагать, стала одной из любимейших книг Марфы Крюковой. Без сомнения, она перечитывала ее ни один раз. В своем «Гарвесе» сказительница повторяет все ключевые повороты коллизии повести, равно как и основной антропонимический ряд. Правда, у Марфы Крюковой Курсив превращается в Крусива, а Проспер в Пересвета. Нам важно обратить внимание на топонимы в ее «Рынде» и «Гарвесе». Опуская некоторые топонимы повести, сказительница активно использует географические имена Крусив город и Херостин . См.: «И дошла то эта славушка / До Крусина славна hорода, / До того ли князя Крусивского» (Чужимов, «Гарвес», ст. 39–41);
«Тогда поехали боМтыри / Во славной город- от Крусивской же» (ст. 277–278; см. также: ст. 79, 581, 586, 905 и др.) . В «Рынде» мы находим тот же Крусив славный город (Былины Зимнего берега. Крюкова, № 33, ст. 40, 69, 84, 119, 122, 221; см. также: № 33а, ст. 8, 9) и Крусинскую землю (№ 33, ст. 30).
Любопытно осмысление Марфой Крюковой лубочного топонима Херестин . Безымянная (как и в повести) девушка, приехавшая просить у рыцарей защиты для своей страны, представляется следующим образом:
«Моя мать-то есь княгина,
Как вдова она вдовет двенаццать лет,
Отец родитель был-от мой Херестина славна города »
(Чужимов, «Гарвес», ст. 1294–1297; см. также: ст. 1360, 1528–1529, 1531, 1586 и др.).
В этом месте своей старины сказительница сделала примечание: «Херестин, такой город Христиан есь в Норвеге» (Чужимов, «Гарвес», С. 133). Скорее всего, лубочный топоним в сознании Марфы Крюковой оказался связанным с именем реального норвежского города Христи-ансанда (Кристиансана), своеобразной столицы Южной Норвегии. Город назван в честь одного из норвежских королей, которые, как известно, в подавляющем большинстве носили имя Христиан (Кристиан). Для поморов, напомним, плавание в Норвегию было обычным делом, могли они побывать и на юге страны в Кристиансане. Любознательная Марфа Крюкова от кого-то из своих земляков и узнала название этого города, связав его с лубочным топонимом из «Заколдованного замка».
Топоним Херестин город у Марфы Крюковой вышел за пределы «Гарвеса». Она использует его и в своей былине «Женитьба Пересмякина племянника», напомним, основанной на «Гистории о российском матросе Василии Кориотском и о прекрасной королевне Ираклии Флоренской земли». Флоренская земля «Гистории» в былине Марфы Крюковой становится городом Хере-стином ( Харастин, Христин ) в Херестинской земле : «Во славном-то городе Христине было, / У того ли у князя Херестинского » (Былины Зимнего берега. Крюкова, № 32, ст. 58–59; см. также: ст. 73, 115, 136, 150, 156). Заметим также, что в других вариантах Марфы Крюковой (№ 32б и 32в) этого же произведения (с существенно измененным сюжетом) топоним город Херестин не употребляется.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Появление фантазийных топонимов, повторим еще раз, является следствием затухания в песен- ном эпосе функции исторической памяти. Проекция былин на Киевскую Русь, столь важная для носителей эпической традиции, связывающая их с глубоким прошлым этноса, постепенно отходит на второй план. Все чаще и чаще начинает доминировать функция развлечения, требовавшая сюжетного и персонажного разнообразия. Процессы рождения нового топонимического поля зарегистрированы практически во всех регионах Русского Севера: в Заонежье, на Пинеге, Кулое, Мезени, Зимнем берегу Белого моря.
Эффективным источником фантазийных топонимов на позднем этапе существования былинной традиции стала рукописная традиция Повестей и их лубочных изданий (переделок). В области пространства в былинах прочитываются следы «Повести об Андрее Критском», «Повести о Еруслане Лазаревиче», «Повести о Бове-королевиче», «Гистории о российском матросе Василии Кориотском». Этот факт в очередной раз свидетельствует о взаимопроницаемости устной и письменной составляющих в традиционной культуре русского народа.
Фантазийные топонимы, порожденные лубочной литературой, образуют пространство не только былин-новообразований («Подсолнечное царство», «Женитьба Пересмякина племянника», «Рында», «Гарвес», «Еруслан Лазаревич»), но и становятся элементами пространства традиционных сюжетов («Козарин», «Иван Годино-вич», «Волх Всеславьевич», «Вольга и Микула», «Василий Игнатьевич и Батыга», контаминация былин о Добрыне: «Поединок Добрыни Никитича с Ильей Муромцем», «Добрыня и Алеша» и «Добрыня и Змей»).
Продуктивной моделью создания фантазийных топонимов является конструирование имен локусов от имен персонажей, правящих в данной земле: король Кортоус – Кортоусово царство; князь Крусив – Крусив город и Крусин-ская земля. Такие топонимы, как Малобруново царство и Милитрийские острова также являются производными от антропонимов, правда, не названных в былинах (Маркобурн, Милитриса Кирбитьевна).
Фантазийные географические имена обозначают в былинах далекие локусы, где герои находят свою суженую (Кортоусово царство, Подсолнечное царство, Крусив город, Хе-ростин город). По мере разрушения эпической традиции топонимы, рожденные из лубка, проникают и в русский мир. Теряя привязку к Киевскому миру, былины родиной русских богатырей (Козарин) делают землю Критскую или Флоренский город.
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
Архангельские былины 1904 – Архангельские былины и исторические песни, собранные А. Д. Григорьевым в 1899–1901 гг. М.: Университетская тип., 1904. Т. 1. 706 с.
Архангельские былины 1910 – Архангельские былины и исторические песни, собранные А. Д. Григорьевым в 1899–1901 гг. СПб.: Тип. АН, 1910. Т. 3. 730 с.
Балашов – Сказки Терского берега Белого моря / Изд. подгот. Д. М. Балашов. Л.: Наука, 1970. 447 с.
БПиЗб – Былины Печоры и Зимнего берега (новые записи) / Изд. подгот. А. М. Астахова, Э. Г. БородинаМорозова, Н. П. Колпакова, Н. К. Митропольская, Ф. В. Соколов. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1961. 606 с.
Былины Зимнего берега – Былины Зимнего берега Белого моря / Изд. подгот. А. Н. Власов, С. А. Жадовская, Н. Г. Комелина, Ю. И. Марченко, Ю. А. Новиков; Отв. ред. тома А. Н. Власов. СПб.: Наука; М.: Классика, 2018. 995 с. (Свод русского фольклора. Былины; Т. 8).
Былины Зимнего берега. Крюкова – Былины Зимнего берега Белого моря: Сказительница Марфа Семеновна Крюкова / Изд. подгот. М. В. Рейли, Ю. И. Марченко, А. Н. Розов. СПб.: Наука; М.: Классика, 2020. 1703 с. (Свод русского фольклора. Былины; Т. 9).
Былины Мезени – Былины Мезени / Корпус текстов и коммент. подгот. А. А. Горелов, Т. Г. Иванова, А. Н. Мартынова, Ю. И. Марченко, Ю. А. Новиков, Л. И. Петрова, А. Н. Розов, Ф. М. Селиванов. СПб.: Наука; М.: Классика, 2003. – 530 с.; 2004. – 715 с.; 2006. – 599 с. (Свод русского фольклора. Былины; Т. 3–5).
Былины Кулоя – Былины Кулоя / Изд. подгот. Ю. И. Марченко, Ю. А. Новиков, Л. И. Петрова, А. Н. Розов. СПб.: Наука; М.: Классика, 2011. 922 с. (Свод русского фольклора. Былины; Т. 6).
Былины Пинеги – Былины Пинеги / Изд. подгот. Т. Г. Иванова, А. Ю. Кастров, М. В. Рейли. СПб.: Наука; М.: Классика, 2012. 973 с. (Свод русского фольклора. Былины; Т. 7).
Гистория о российском матросе – Гистория о российском матросе Василии Кариотском и о прекрасной королевне Ираклии Флоренской земли. XVIII век. Петровская эпоха. М.: [И. Д. Сытин], 1914. 44 с. (Б. И. Дунаев. Б-ка старорусских повестей).
Заколдованный замок – Заколдованный чародейственный замок, с приключениями знатного рыцаря Гарве-са. 8-е изд. М.: Манухин, 1883. 70 с.
Зеленин – Великорусские сказки Пермской губернии. Сборник Д. К. Зеленина / Изд. подгот. Т. Г. Иванова. СПб.: Дмитрий Буланин, 1997. 583 с.
Конашков – Сказитель Ф. А. Конашков / Подгот. текстов, вступ. статья и коммент. А. М. Линевского. Петрозаводск: Госиздат Карело-Фин. ССР, 1948. 210 с.
Ончуков – Северные сказки (Архангельская и Олонецкая гг.). Сборник Н. Е. Ончукова. СПб., 1908. XLVIII, 646 c. (Зап. имп. Рус. геогр. об-ва по Отд-нию этнографии; Т. 33).
Повесть об Андрее Критском – Повесть об Андрее Критском / Подгот. текста и коммент. М. Н. Климовой // Памятники литературы Древней Руси. XVII век. М., 1988. Кн. 1. С. 270–274, 640–641 (примеч.).
Повесть о Бове Королевиче – Повесть о Бове Королевиче / Подгот. текста и коммент. А. М. Панченко // Памятники литературы Древней Руси. XVII век. М., 1988. Кн. 1. С. 275–300, 641–643 (примеч.).
Повесть о Еруслане – Повесть о Еруслане Лазаревиче / Подгот. текста и коммент. Н. С. Демковой // Памятники литературы Древней Руси. XVII век. М., 1988. Кн. 1. С. 301–322, 643–645 (примеч.).
Рыбников – Песни, собранные П. Н. Рыбниковым / Изд. подгот. А. П. Разумова, И. А. Разумова, Т. С. Курец. Петрозаводск, 1989. Т. 1. 527 с.
Смирнов – Сборник великорусских сказок архива Русского географического общества / Издал А. М. Смирнов. Пг., 1917. Вып. 2. С. 507–990. (Зап. Рус. геогр. об-ва по Отд-нию этнографии; Т. 44 (2)).
Сок. – Чич. – Онежские былины / Подбор былин и науч. ред. текстов Ю. М. Соколова; Подгот. текстов к печати, примеч., и словарь В. И. Чичерова. М.: Изд-во Гос. лит. музея, 1948. 937 с. (Летописи Гос. лит. музея; Кн. 13).
СУС – Сравнительный указатель сюжетов: Восточнославянская сказка / Сост. Л. Г. Бараг, И. П. Березовский, К. П. Кабашников, Н. В. Новиков. Л.: Наука, 1979. 437 с.
Чужимов, «Гарвес» – Чужимов В. П. Новые записи былин в Поморье // Советский фольклор: Сб. статей и материалов. М.; Л., 1936. Вып. 2/3. С. 119–151.
Список литературы Лубочная литература и ее влияние на построение пространства в былинах
- Астахова А. М. К новым записям былин в Поморье // Советский фольклор: Сб. статей и материалов. М.; Л., 1936. Вып. 2/3. С. 153-158.
- Астахова А. М. Русский былинный эпос на Севере. Петрозаводск: Гос. изд-во Карел.-Фин. ССР, 1948. 396 с.
- Астахова А. М. К вопросу об отражениях в русском былинном эпосе сказания о Еруслане // Труды Отдела древнерусской литературы. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1958. Т. 14. С. 504-509.
- Каган М. Д. Повесть о Еруслане Лазаревиче // Словарь книжников и книжности Древней Руси. XVII в. СПб.: Наука, 1998. Ч. 3. С. 115-118.
- Капица Ф. С. Фольклорные мотивы в сказочной повести XVII века (на примере «Повести о Еруслане Лазаревиче») // Фольклорные традиции в русской и советской литературе. М.: Мос. гос. пед. ин-т, 1987. С. 44-51.
- Климова М. Н . Опыт текстологии Повести об Андрее Критском // Древнерусская рукописная книга и ее бытование в Сибири. Новосибирск: Наука, 1982. С. 46-61.
- Климова М. Н. Повесть об Андрее Критском и фольклор: (некоторые аспекты сопоставительного анализа) // Рукописная традиция XVI-XIX вв. на Востоке России. Новосибирск, 1983. С. 27-38.
- Климова М. Н. О художественном своеобразии Повести об Андрее Критском // Памятники литературы и общественной мысли эпохи феодализма. Новосибирск: Наука, 1985. С. 41-51.
- Климова М. Н . Повесть об Андрее Критском // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 2 (вторая половина XIV-XVI в.). Л.: Наука, 1989. Ч. 2. С. 211-214.
- Климова М. Н. «Эдипов сюжет» в древнерусской литературе (повести о кровосмесителе) // Сибирский филологический журнал. 2008. № 3. С. 22-34.
- Кляус В. Л. Сюжет АТи/СУС 931 («Эдип» / «Кровосмеситель») в устной словесности Забайкальского российско-китайского пограничья // 8Ш&а ЬШегагаш. 2020. Т. 5, № 3. С. 308-326.
- Ку зьмина В. Д. Русская сказка о Бове-королевиче в лубочных изданиях XVIII - нач. ХХ века // Исследования и материалы по древнерусской литературе. М.: Изд-во АН СССР, 1961. С. 185-192.
- Ку зьмина В. Д. Рыцарский роман на Руси: Бова, Петр Златые ключи. М.: Наука, 1964. 344 с.
- Моисеева Г. Н. Гистория о российском матросе Василии Кириацком (к вопросу о составе и происхождении повести) // Труды Отдела древнерусской литературы. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1954. Т. 10. С. 358-388.
- Пропп В. Я. Эдип в свете фольклора // Пропп В. Я. Фольклор и действительность: Избранные статьи. М.: Наука, 1976. С. 258-299.
- Путилов Б. Н. История одной сюжетной загадки (Былина о Михаиле Козарине) // Вопросы фольклора. Томск: Изд-во Томского ун-та, 1965. С. 9-21.
- Путилов Б . Н. Русский и южнославянский героический эпос: Сравнительно-типологическое исследование. М.: Наука, 1971. 315 с.
- Пушкарев Л. Н . Сказка о Еруслане Лазаревиче. М.: Наука, 1980. 183 с.
- Салмина М. А. Повесть о Бове // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 2 (вторая половина XIV - XVI в.). Л.: Наука, 1989. Ч. 2. С. 220-222.