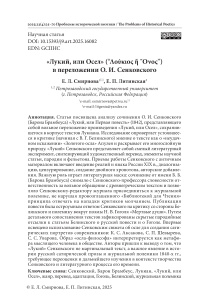«Лукий, или Осел» (“Λούκιος ἢ ῎Oνος”) в переложении О. И. Сенковского
Автор: Смирнова Е.Л., Литинская Е.П.
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 4 т.23, 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу сочинения О. И. Сенковского (Барона Брамбеуса) «Лукий, или Первая повесть» (1842), представляющего собой вольное переложение произведения «Лукий, или Осел», сохранившегося в корпусе текстов Лукиана. Исследование опровергает устоявшееся в критике (начиная с В. Г. Белинского) мнение о тексте как о «неудачном искажении» «Золотого осла» Апулея и раскрывает его многослойную природу. «Лукий» Сенковского представляет собой смелый литературный эксперимент, синтезирующий художественный перевод, элементы научной статьи, пародии и фельетона. Приемы работы Сенковского с античным материалом включают введение реалий и языка России XIX в., диалогизацию, цензурирование, создание двойного хронотопа, авторские добавления. Важную роль играет литературная маска: сочинение от имени Б. Б. (Барона Брамбеуса) снимало с Сенковского-профессора словесности ответственность за вольное обращение с древнегреческим текстом и позволяло Сенковскому-редактору журнала присоединиться к журнальной полемике, не нарушая провозглашенного «Библиотекой для Чтения» принципа отвечать на нападки критиков молчанием. Публикация повести была остроумным ответом Сенковского на критику со стороны Белинского и полемику вокруг поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые души». Путем детального сопоставления текстов зафиксированы скрытые пародийные отсылки к статьям Белинского о русской повести и о Гоголе. Впервые освещено использование Сенковским сюжета об осле для создания сатирических портретов современников: К. С. Аксакова, С. П. Шевырева, С. С. Уварова. Образ «осла-философа» интерпретируется как метафора мыслящего человека в обществе. Авторы пришли к выводу о том, что «Лукий» Сенковского не маргинальный текст, а важное явление в истории русской сатирической прозы и журнальной полемики 1840-х гг., требующее переоценки и дальнейшего изучения в контексте творчества Сенковского и литературного процесса его времени.
Сенковский, Барон Брамбеус, Лукиан, «Лукий, или Осел», жанр, перевод, адаптация, Гоголь, Белинский, журнальная полемика
Короткий адрес: https://sciup.org/147252376
IDR: 147252376 | DOI: 10.15393/j9.art.2025.16082
Текст научной статьи «Лукий, или Осел» (“Λούκιος ἢ ῎Oνος”) в переложении О. И. Сенковского
Благодарность. Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (РНФ, проект № 22-18-00423-П «Античный код русской литературы XIX — начала ХХ вв.», .
Л итературная судьба сочинения «Лукий, или Первая повесть», созданного О. И. Сенковским под псевдонимом Б. Б., оказалась незавидной. Текст, впервые опубликованный в завершающем выпуске журнала «Библиотека для Чтения» за 1842 г.1, был включен в посмертное собрание сочинений Сенковского 1858–1859 гг.2, однако следующее переиздание состоялось только через сто шестьдесят шесть лет3. Отсутствуют специальные статьи о повести, практически не встречаются упоминания о ней в работах, посвященных художественной прозе Сенковского4.
Отсутствие интереса к «Лукию» отчасти можно объяснить тем, что автор преуспел в игре с читательской аудиторией: сочинение, облеченное в форму ученой статьи, состоящей из перевода античного текста с предпосланной ему вступительной заметкой об истории жанра повести в европейской литературе, при беглом взгляде создавало впечатление произведения ученого, предназначенного для узкого круга профессиональных антиковедов5. Определенную роль могла сыграть и пренебрежительная оценка, данная В. Г. Белинским в статье «Русская литература в 1842 году» — критик назвал повесть «неудачным искажением известной сказки Апулея "Золотой осел", переведенной по-русски Ермилом Костровым еще в 1780 году» [Белинский; т. 6: 541]. Непререкаемый авторитет суждений Белинского, закрепленный в советском литературоведении6, превращал любое новое обращение к «Лукию» Сенковского в излишнее, даже несмотря на наличие фактической ошибки в утверждении критика: Сенковский переложил вовсе не «Золотого осла» Апулея, а сочинение (λόγος)7 «Лукий, или Осел», которое сохранилось в корпусе произведений Лукиана из Самосаты8.
Забвение «Лукия» Сенковского, хотя и объяснимое, представляется не вполне оправданным. Во-первых, текст являет собой пример смелого эксперимента по использованию древнегреческого наследия при создании современного произведения и представляет интерес в рамках изучения созданного Сенковским «нового жанра научно-философской повести, в которой профессиональная ученая шутка обернулась новым способом подачи материала» [Каверин: 10] и оригинальным способом научной полемики. Во-вторых, ряд деталей появления «Лукия» позволяют считать текст не просто остроумной литературной игрой с читательской аудиторией, но орудием журнальной борьбы, свое участие в которой Сенковский — редактор журнала «Библиотека для Чтения» — упорно отказывался признавать.
Барон Брамбеус в роли филолога-классика
К сожалению, не представляется возможным с уверенностью определить, каким именно изданием трудов Лукиана пользовался Сенковский: вскоре после смерти писателя его жена продала библиотеку, находившуюся во флигеле дома, букинистам на рынок9. Впрочем, вряд ли можно сомневаться, что Сен-ковскому были доступны книги из библиотеки Петербургского университета, среди которых имелось издание сочинений Лукиана 1743 г. [Коллекция знаний: 52]. Кроме того, он мог приобрести одно из новейших изданий Лукиана10 для личной библиотеки: А. В. Старчевский указывает, что в доме Сенков-ского «книг и журналов выписывалось и забиралось в иностранных книжных магазинах не менее чем на 2000 р. ежегодно»11.
Заметим, что 1820–1830-е гг. были временем повышенного интереса к Лукиану: помимо публикации его сочинений на древнегреческом и комментированных переводов на латин-ский12, немецкий13 и английский14 языки, появились и специальные ученые изыскания15, в том числе — на французском о сочинении «Лукий, или Осел»16. В 1839 г. в журнале «Галатея» была опубликована статья «Лукиан и его век», составленная на основе материалов из “Revue de Paris”, за публикациями которого следил и Сенковский17. В октябре 1842 г. в журнале «Сын Отечества» увидела свет статья «Лукиан и его сочинения», в которой античный автор получил характеристику неутомимого критика догматов языческой религии и идолов древней литературы, остроумного разоблачителя глупости и пороков своих современников и оригинального писателя с легким слогом, чьи сочинения имели большое влияние на новейшую литературу18. «Лукий» был выделен как «один из самых ранних образчиков романического рассказа» и «самый ранний образчик фантастических путешествий»19. Автор статьи не указан, однако следует заметить, что активным участником «Сына Отечества» в 1842 г. был Сенковский [Дементьев: 463].
В «Библиотеке для Чтения» автор статьи «Лукий, или Первая повесть» обозначен как Б. Б., то есть Барон Брамбеус. Литературная маска была очень важным приемом: она давала простор для вольного обращения с античным источником, отделяя облеченный в форму научной статьи текст от профессора словесности Петербургского университета. Профессор Сенковский не нес никакой ответственности за литературную провокацию, предложенную публике Брамбеусом: фельетонную манеру вступительного историко-литературного комментария, отступления от буквальной передачи оригинального текста и целый ряд добавлений, которые меняли замысел античного автора, превращая древний текст в про изведение сов ременной словесности.
Сравнение перевода Сенковского с древнегреческим оригиналом дает представление о творческом методе писателя. Перед нами не перевод, а литературная переделка, вольная адаптация, насыщенный аллюзиями художественный текст, ориентированный на читателя начала 1840-х гг.
Сенковский трансформирует стиль и часто содержание греческого сюжета, модернизируя его использованием реалий и языка России XIX в. Так, например, введены лексемы «барыня», «вельможа» ( Лукий : 88, 121); добавлены словосочетания «гастрономические приостановки», «выслуженный пенсион», «светлейший граф», «ученый муж» ( Лукий : 90, 106, 129, 131); жрецы Сирийской богини названы «плутами, которые разъезжают по городам и селам <…> и во имя ее надувают всех и каждого» ( Лукий : 109). Переводчик осуществляет целый ряд лексических замен: «горница» вместо κοιτών (спальня) ( Лукий : 80, ср.: Λούκιος : 2), «сторож» — οἰκέτης (слуга) ( Лукий : 90, ср.: Λούκιος : 16), «латук, репа, петрушка» — θρίδαξ μὲν καὶ ῥαφανὶς καὶ σελίνον (латук, редька, сельдерей) ( Лукий : 91, ср.: Λούκιος : 17), «сабля» — ξίφος (меч) ( Лукий : 94, ср.: Λούκιος : 21), «квартира» — οἰκία ἀνθρώπων πενήτων (дом бедных людей) ( Лукий : 114, ср.: Λούκιος : 41).
Сенковский создает двойной хронотоп, который является основой для сатирического отстранения. Действие формально происходит в античном мире, но насыщено реалиями, социальными типажами его времени и современным ему русским языком. Отталкиваясь от авантюрно-аллегорического сюжета, он делает акцент на злободневности. Порицает нравы современного ему общества: ханжество, невежество, глупость, жестокость, развращенность элиты, модный мистицизм. Пишет сатиру на слишком требовательных и беспощадных хозяев (эпизод с Мегалополой), на вкусы и нравы высшего света (вставки о «гастрономических приостановках», «славном житье» у вельможи, пародийный диалог о «любви к ослиной породе»), на моральную развращенность людей (эпизод со слугой — «сорванцом, живодером»).
Пародийные вставки («Сцена была живописная…», «Какое счастье!», «О ужас…», «Палестра!.. богиня!.. я скоро буду возле тебя, в твоих объятиях!», «Пошло на счастье…» и др.)
высмеивают литературные штампы романтических и сентиментальных романов. Так, спасение Палестры и бегство с ней ( Лукий : 96–98) передано в романтической стилистике, детализировано и превращено в почти театральный эпизод с добавлением эмоциональных реакций и описаний:
«Я не видал конца своему блаженству, воображая себя вне опасности; я таял от восторгу при мысли быть спасителем этой бесподобной девушки: вне себя от избытку чувств, я летел, а не бежал» ( Лукий : 98).
Пародийный эффект возникает за счет использования «двуголосого слова». Высказывания Лукия, полные романтического пафоса, произносятся в нелепой ситуации бегства на ослиных ногах. Добавленная сцена о воине и девице с элементами иронии и психологизма — едва ли не пародия на сюжет сентиментального романа:
«Вдруг, как стрела из лука, вылетел из комнаты высокий, стройный молодой человек, с полумертвою пленницею на руках.
Думаю: бедненькая! Верно, из огня в пламя. Видно, уж ей на роду написано!.. Но вдруг он зовет ее по имени! И голос его знаком ей! Это ясно: она радостно открыла глаза на его зов.
О, боги! Чтó выразилось на этом лице, когда она взглянула на него, как она обвила около его шеи свои прекрасные ручи (sic!) и прильнула к нему губами… Этого не описать никакому ослу на свете, хоть бы уши у него были длиннее ушей всех риторов. Я чуть не умер от восторгу» ( Лукий : 102).
Переводчик значительно смягчает или вовсе опускает эротические эпизоды. Он лишь намекает на «любовные состязания» в сцене с Палестрой, тогда как в оригинале она откровенна и насыщена метафорами борьбы ( Λούκιος : 7–10). Любовники в русском варианте становятся «искренними друзьями» ( Лукий : 85). Эпизод с дамой, влюбившейся в осла, также передан сдержанно ( Лукий : 124, ср.: Λούκιος : 50–52). Цензурирует Сенковский и излишне жестокие моменты. Им, например, более сжато и менее натуралистично описаны расправа над старухой, эпизод с мальчишкой, истязающим осла, и предложение оскопить осла ( Лукий : 99, 105–106, 108, ср.: Λούκιος : 24, 29–30, 33).
Автор опускает непонятные или сложные для читателя отсылки. Например, он убирает сравнение героя с Кандавлом ( Лукий : 103, ср.: Λούκιος : 28), считая, вероятно, его неточным и требующим пространного пояснения.
К сознательным изменениям оригинала отнесем диалогиза-цию повествования. Сенковский последовательно переводит косвенную речь в прямую. Создает живые диалоги, драматизируя изложение, делая его более динамичным, комичным. Вспомним, например, развернутые диалоги разбойников ( Лукий : 98–101), диалог огородника с римским воином, который, в отличие от оригинала, говорит на латыни ( Лукий : 117).
Сенковский пишет богатым, образным, часто ироничным языком, насыщенным идиомами и просторечием («ни на минуту без сабли», «пошло на счастье»), часто распространяет существительное определениями: «гадкий хвост», «вьючное животное» (в оригинале «скот»), «алые розы».
Он неоднократно ссылается на образность Рима (Юпитер, Купидон, Венера и Меркурий вместо Зевса, Амура, Афродиты и Гермеса; триклиниум как показатель римского зажиточного дома; Цезарь, ликтор, префект, консул для обозначения статуса должностного лица) и использует латинскую лексику. В сюжете такой прием является пародированием моды на классическое образование и показную эрудицию ( Лукий : 117, 129).
Чтобы добиться большей легкости и занимательности повествования, Сенковский дробит или объединяет фразы оригинала, дополняет его вставками. Вставные эпизоды (а их чуть более 20) в «Лукии» составляют почти четверть текста. Половина из них предназначена для раскрытия образа главного героя, причем Сенковский использует характерные для «Золотого осла» Апулея [Альбрехт: 1585–1586] приемы. Обстоятельное самопредставление героя и его разговоры с самим собой создают впечатление присутствия и повышают убедительность рассказа. Создание достоверности через наглядные описания: шарлатанов, выдающих себя за служителей Сирийской богини, и вельможи Менеклеса, главным украшением виллы которого была прекрасная статуя, изображающая его персону, — также помогало стилизации авторских вставок под сочинение античного автора. Тем не менее Сенковский оставлял для читателей подсказки, помогающие распознать обман. Во-первых, ключевая характеристика главного героя: «философ, историк, ритор и грамматик» — повторяется к месту и не к месту (Лукий: 79, 82, 83, 88, 89, 94, 97, 100, 104, 131, 132). Во-вторых, добавлен нехарактерный для языческого сочинения эпизод о прощении христианки по воле Юпитера, отца богов и людей (Лукий: 128–129).
Наиболее значимое преобразование греческого источника касается переработки образа главного героя, что ведет к знаковым смысловым сдвигам. В оригинале Лукий — несколько наивный юноша из Патр, который из-за свойственного ему любопытства оказывается превращен в осла и попадает в комические ситуации. Его характер почти не меняется, он является скорее «камерой», через которую читатель наблюдает за событиями. Лишь в финале герой чуть подробнее говорит о себе:
“κἀγώ, Πατὴρ μέν, ἔφην, <…> ἔστι μοι Λούκιος, τῶι δὲ ἀδελφῶι τῶι ἐμῶι Γάϊος· ἄμφω δὲ τὰ λοιπὰ δύο ὀνόματα κοινὰ ἔχομεν. κἀγὼ μὲν ἱστοριῶν καὶ ἄλλων εἰμὶ συγγραφεύς 20 , ὁ δὲ ποιητὴς ἐλεγείων ἐστὶ καὶ μάντις ἀγαθός· πατρὶς δὲ ἡμῖν Πάτραι τῆς Ἀχαΐας” ( Λούκιος : 55), букв. «Отец, я сказал <…> у меня — Луций, а у моего брата — Гай; но оба же остальных имени у нас общие. И я — писатель историй и других сочинений, а он — поэт, пишущий элегии, и хороший прорицатель; родина наша — Патры в Ахайе».
Сенковский, сохраняя повествование от первого лица, иначе, более развернуто, академически представляет героя в самом начале своего перевода:
«Я — человек не глупый. Учился я в Афинах всякой книжной мудрости, прочитал почти все творения древних и, благодаря Юпитеру, сделался сам известным моими сочинениями. Я много писал о философии, об истории, о древностях, о языке. Философ, историк, ритор и грамматик, я, право, не хуже других…» ( Лукий : 79).
Создан иронический контраст между статусом героя и глупыми ситуациями, в которые он попадает. Лукий у Сенковско-го гораздо более ироничен, даже саркастичен. Он не просто страдает, но и комментирует свои переживания, более склонен к самоанализу. Так, в эпизоде, в котором мальчик-слуга, «сорванец, живодер», различными способами докучает животному, Лукий отмечает:
«Сколько прекрасных философических выводов сделал я в это время о доброте человеческого сердца. Жаль, что потом забыл их, сделавшись снова человеком», — и подытоживает аллюзией на евангельские строки:
«Таков человек!» ( Лукий : 105, 106).
Герой чаще выражает человеческие эмоции и мысли, чем в оригинале. Вспомним здесь вставку с его размышлениями о молодости, красоте, любви:
«Если, бывало, завижу перед собою хорошенькую женскую фигуру, тотчас, хоть бы это было с ношей и самим погонщиком, прибавляю шагу, догоняю, меряю глазами, всматриваюсь в лицо: в эти минуты я часто забывал, что я важное лицо, философ, ритор, а притом настоящий осел, и что ужасное беремя ломит мне спину. Чтὸ делать! Молодость и красота!» ( Лукий : 107).
Образ Лукия-осла у Сенковского рефлексирующий. Так, фрагмент с эмоциональными философскими обобщениями ( «Грустные думы...» ( Лукий : 94) ) перекликается с образом «asinus philosophans», ослом-моралистом из «Метаморфоз» Апулея ( Met . X, 33). Для аргументации превращения греческого Лукия в «ученого мужа», ученого-неудачника, начитавшегося «книжной премудрости», Сенковскому была необходима одна семантическая замена. В оригинале госпожа Палестры превращается в κόραξ νυκτερινός (ночной ворон), а в русском варианте, как и в романе Апулея, — в «сову», птицу Минервы, богини мудрости ( Лукий : 87, ср.: Λούκιος : 12; Met . III, 21).
Грустной иронией наполнен ряд добавлений Сенковского к античному тексту, в которых осел-ученый делится своими наблюдениями об окружающих его людях: они склонны верить разного рода шарлатанам; они с бóльшей охотой идут смотреть на выступление осла, чем на представление превосходнейших трагедий Софокла и Еврипида, и при этом больше дивятся умению осла пить вино, чем его познаниям в грамматике; они готовы отправить человека на смерть за отличие его убеждений от взглядов большинства (Лукий: 114, 122–123, 125, 127).
Сенковский переосмысливает финал. В греческом варианте Лукий, обращаясь вновь в человека с помощью лепестков роз, припадает к земле, соединяясь с ней:
“γυμνὸς καλῶς ἐστεφανωμένος καὶ μεμυρισμένος τὴν γῆν γυμνὴν περιλαβὼν ταύτηι συνεκάθευδον” ( Λούκιος : 12) (букв. «нагой, прекрасно увенчанный и умащенный, я, обняв голую землю, спал на ней»).
Исследователи видят здесь пародию на мистико-религиозную «египетскую» концовку «Золотого осла» Апулея [Левинская, 2002: 31]. В версии Сенковского обратное превращение значительно расширено. Розы, которые дают спасение герою, приносит в корзинке птица Юпитера — орел. Публика, испугавшись, называет Лукия-человека колдуном и христианином. Разрастается полемика о христианстве. Спасает героя жрец, выступая со словами:
«Говори, святой человек!.. Объяви волю Юпитера, который тебя из осла сделал римским гражданином и всех нас может превратить в ослов!..» ( Лукий : 128).
В ответном слове Лукий заступается за Палестру, которую как христианку хотят сжечь. Далее он общается с префектом на латыни: «Illustrissime comes!.. Светлейший граф!» ( Лукий : 129). Последний разоблачает Лукия, считая его и жреца сообщниками, и добавляет:
«Но знаете ли вы, негодяи, что без моего позволения Юпитер не имеет права творить чудес в этом месте?» ( Лукий : 130).
Разрешает конфликт вступившая в разговор Палестра, подтверждая все слова Лукия о его судьбе.
Завершается повесть грандиозной метафорой-самоиронией:
«…сказание о том, как я, философ, историк, ритор и грамматик, долгое время, по воле бессмертных богов, был настоящим, неподдельным ослом… а, может быть, и теперь есмь!.. Я кончил повесть» ( Лукий : 132).
И это, конечно, прямая сатира на современную автору интеллектуальную высокообразованную элиту, оторванную от реальности и живущую книжными иллюзиями. В этом заключении можно усмотреть отсылки к «Золотому ослу» Апулея, где, как отмечалось в исследовательской литературе [Альбрехт: 1590], развлечение не единственная цель. Но это становится совершенно понятно только в последней книге. Так классический гротескный мотив метаморфозы человека в животное становится у Сенковского метафорой социального положения мыслящего человека. Быть «ослом» — значит быть униженным, зависимым, лишенным голоса, но при этом вынужденным наблюдать за абсурдом человеческого общества изнутри.
Крайне любопытна и вступительная заметка к «переводу» Лукиана, задуманная как элемент стилизации текста под сочинение ученой словесности, а значит, как часть литературной игры с читателем, но на самом деле соединяющая шутейное с серьезным, развлекательную фельетонную манеру с профессиональным пониманием сложности вопроса об истоках жанра повести в европейской литературе. Указывая, что автором повести был Лукиан, Сенковский характеризует его как человека, который, «видя вокруг себя общее разрушение разума, <…> потеряв надежду на будущее, разрушал все острыми ударами своего сарказма, осмеивал богов и людей, уничтожал последние мечты древнего мира и отталкивал от себя его новые упования» ( Лукий : 76), а также называет его «греческим Вольтером» и отмечает, что «не говоря уже об Апулее, который подражал "Лукию" еще в древности, почти все известные писатели повестей, начиная с шестнадцатого столетия, имели эту повесть в виду и считали образцовою» ( Лукий : 76, 77). Автор указывает:
«Макиавелли просто выкрал из нее своего осла. Лесаж в "Жиль Блазе" почти буквально скопировал с ней свою пещеру разбойников. Вольтер беспрерывно обращался к ней за формою и даже за остроумием» ( Лукий : 77).
В этом шутливом пассаже Сенковский высказывает вполне серьезную идею о влиянии античной художественной прозы на развитие повествовательных жанров и литературных приемов в европейской беллетристике Нового времени.
Сенковский характеризует текст не только как филолог, но и как историк, подчеркивая его значение в качестве источника для изучения античного мира: в «Лукии» отразился «с своими характерами, нравами и понятиями этот совершенно свежий колорит давно исчезнувшего общества, эта подлинность подробностей древнего житейского быту, наконец, занимательность самого времени, наполненного борьбою старых верований с новыми» ( Лукий : 77). Сходную оценку можно найти в предисловии к французскому переводу «Лукия», выполненному увлеченным филологом-эллинистом Полем-Луи Курье21, чей труд, скорее всего, был знаком Сенковскому:
«У нас действительно мало книг столь же любопытных, как эта; в ней можно найти сведения о частной жизни древних, которые любители этого исследования тщетно искали бы где-то еще <…>. Это картины чистого воображения, в которых, тем не менее, каждая черта взята из природы <…> которые не только развлекают изяществом вымысла и наивностью языка, но и одновременно поучают своими замечаниями и размышлениями <…> эти рассказы о фактах, не только ложных, но и невозможных, представляют нам время и людей лучше, чем любая хроника» 22 .
Таким образом, Сенковский подошел к переводу не как филолог-классик, стремящийся к точности, а как яркий писатель-сатирик, однако в глубоких историко-филологических замечаниях вводного комментария и нюансах стилизации авторских добавлений к древнегреческому оригиналу под маской смешливого барона Брамбеуса все же заметен серьезный профессор словесности. Он по нескольким причинам использует популярный в эпоху романтизма прием литературной мистификации. Во-первых, мистификация служила «литературной маской», которая позволяла автору быть более свободным в обращении с античным текстом, а также более смелым и критичным в своей сатире. Во-вторых, это был изящный способ продемонстрировать собственную эрудицию и остроумие, вовлекая образованного читателя в интеллектуальную игру по распознаванию обмана и пониманию истинных, скрытых под античной формой сатирических целей.
Сенковский не стремится воспроизвести античный текст предельно точно. Он адаптирует оригинал для восприятия современной ему публики и создает увлекательное, остроумное произведение, которое в легкой и доступной форме расширяет представления массового читателя о литературном наследии античности23. Вместе с тем сокращения, пропуски и замены призваны сконцентрировать читателя на сатирическом и пародийном замысле. Известный сюжет Псевдо-Лукиана, «злой, но гениальный памфлет на рассказы о волшебстве, написанный остроумным и просвещенным человеком» [Schwartz: 143] (перевод наш. — Е. С ., Е. Л .), использован как каркас для злободневной сатиры на литературу, нравы общества (ханжество, глупость, жестокость, модный мистицизм) в России начала 1840-х гг. Античный автор говорит языком петербургского журналиста, и древнегреческий текст превращается в сатирическую повесть, написанную в манере литературного фельетона, и становится важным явлением в истории развития русской сатирической прозы.
Ослы в творческой лаборатории Сенковского 1842 г. и «Мертвые души» Гоголя
Но действительно ли «Лукий» Сенковского интересен исключительно как один из примеров литературной игры с читателем и обращения к античному материалу как основе злободневной сатиры на современные нравы? Некоторые детали произведения приобретают, на наш взгляд, новое звучание, если учесть год и месяц его публикации — декабрь 1842 г., через полгода после выхода «с нетерпением ожидаемого всеми любителями изящного романа Гоголя "Похождения Чичикова, или Мертвые души" <…>, или, как Гоголь назвал его <…> поэм ы » [Белинский; т. 6: 199].
Примечателен выбор Сенковским названия для своего произведения: «Лукий, или Первая повесть» вместо оригинального древнегреческого «Лукий, или Осел». Акцент на слове «повесть» мог напомнить читателям «Библиотеки для Чтения» о рецензии на «Похождения Чичикова, или Мертвые души» Гоголя, опубликованной в августовском выпуске журнала24. Категорически не принимая определение «поэма», данное Гоголем своему произведению, Сенковский добавил это слово ко всем книгам, рассмотренным в разделе «Литературная летопись» вместе с «Похождениями Чичикова». Поэмами были названы не только три стихотворные брошюрки Е. Алипанова (1. Теофил. «Поэма» Е. Алипанова, СПб., 1842; 2. Военные песни. «Поэмы» Е. Алипанова, СПб., 1842; 3. Досуги для детей. «Поэмы» Е. Алипанова, СПб., 1842), но также «Записки о старом и новом русском быте» К. А. Авдеевой, книги «Холодная вода, как всегдашнее лекарство», «Общая анатомия», «О распознавании и лечении аневризмов», «Практические упражнения в физике», «Древесная флора» и, наконец, несомненно вымышленная брошюра «Об устройстве скотных дворов, содержании рогатого скота и приготовлении навоза. Сочинение А. С. Москва, 1842», про которую рецензент сообщал читателям: «…поэма, должно ей отдать справедливость, написанная гораздо опрятнее, чем некоторые другие»25.
Любопытны и начальные строки «Лукия» Сенковского:
«Между тем не подлежит сомнению, что великие литературы, вечные образцы искусства и ума человеческого, развились и достигли зенита своей славы без повестей. Эта чудная литература греческая, которая началась "Илиадой" и заключилась комедиями Менандра, торжественно прошла все свое бессмертное поприще, не унизившись ни одного разу до повести » ( Лукий : 75).
Этот пассаж недвусмысленно отсылал читателя сразу к нескольким отзывам 1842 г. о «Мертвых душах»: брошюре К. С. Аксакова, отклику на нее Белинского, ответному объяснению Аксакова и объяснению на объяснение, написанному «неистовым Виссарионом»26. Одним из поводов для полемики стала фраза из первого отзыва Аксакова, которую Белинский, высмеивая, процитировал почти дословно дважды27:
«…древний эпос, перенесенный из Греции на Запад, мелел постепенно <…> снизошел <…> до романов и, наконец, до крайней степени своего унижения, до французской повести » 28 .
Наконец, отметим рукописную редакцию августовского отзыва-фельетона Сенковского о сочинении Гоголя29. Она свидетельствует, что отзыв первоначально был задуман в форме притчи, которую в книге «Тысяча и одна ночь» рассказывает Шахерезаде мудрый визирь, желая предостеречь ее от излишней самоуверенности на примере печальной участи одного тщеславного сочинителя, который, «написав нечистоплотный роман в пошлом роде Поль-де-Кока, вздумал гордо назвать его поэмою»30. Развертывалась притча как разговор быка Силича, читающего «Мертвые души», с восторженным апологетом поэмы Гоголя ослом Разумниковичем и верблюдом, подмечающим недостатки текста. Но не только идея разбора произведения под маской рецензии на совершенно постороннюю книгу и в виде беседы животных, среди которых есть осел с характерным именем, примечательна в замысле Сенковского. Начало притчи («У одного умного человека, который читал книги древних мудрецов и постигал тонкости вещей, была за городом небольшая усадьба»31) имеет параллели с начальными строками из рассказа Лукия, добавленными Сенковским к античному оригиналу:
« Я — человек неглупый . Учился я в Афинах всякой книжной мудрости , прочитал почти все творения древних …» ( Лу кий : 79).
Добавим еще одну любопытную деталь: в переводе на французский древнегреческое “Λούκιος ἢ Ὄνος” выглядело как “La Luciade, ou L’Ane”, напоминая об «Илиаде» Гомера, с которой ставили в один ряд «Похождения Чичикова» похвальные отзывы о поэме Гоголя32.
«Лукий, или Первая повесть» Б. Б. (Барона Брамбеуса) и ее творческая история заслуживают рассмотрения в контексте журнальной полемики по поводу «Мертвых душ» Гоголя. Литературная маска позволила Сенковскому, не изменив своему редакторскому кредо «не отвечать ни на какие выходки» и наказывать врагов молчанием33, тем не менее остроумно парировать выпады Белинского против барона Брамбеуса, которыми изобиловал фельетон «Литературный разговор, подслушанный в книжной лавке» (см.: [Белинский; т. 6: 361–363]), написанный в ответ на сатирический отзыв Сенковского о «Похождениях Чичикова», и изящно ответить на брошенный Белинским в «Литературном разговоре…» вызов: «Посмотрим, чем кончится спор, если он уже и не кончился… Гоголь, разумеется <…> будет отвечать только новыми своими произведениями, от которых иные романисты-рецензенты запыхтятся насмерть…» [Белинский; т. 6: 365]. Новым произ ведением отве тил и Брамбеус.
Вступительный комментарий к «Лукию» как диалог Сенковского с Белинским
Во вводной части «Лукия» заметны, на наш взгляд, постоянные пародийные отсылки к статье Белинского «О русской повести и повестях Гоголя»34, изданной в 1835 г. Не исключено, что решение Сенковского обратиться к этой давней рецензии было своеобразным «зеркальным ответом» на обвинения «в дурном тоне, в плоскостях, в сальностях, в явном незнании русского языка и русской грамматики» [Белинский; т. 6: 361], которые Белинский предъявил Брамбеусу в «Литературном разговоре…», опираясь на выписки из сочинений смешливого барона, увидевших свет в 1833–1834 гг.
Сопоставление текстов приводит к выводу о том, что Сенковский последовательно выстраивал вступительный комментарий Б. Б. к «Лукию» с опорой на статью Белинского, используя парафраз, синонимы, синтаксические параллели и аллюзии (см. Таблицу 1 ):
Таблица 1 / Table 1
«О русской повести и повестях г. Гоголя» Белинского (1835)
…Теперь вся наша литература превратилась в роман и повесть . <…> Роман всё убил, всё поглотил, а повесть, пришедшая вместе с ним, изгладила даже и следы всего этого… (С. 261) Кто , какой гений, какой могущественный талант произвел это новое направление ?.. (С. 261)
Век поэзии идеальной оканчивается младенческим и юношеским возрастом народа, и тогда искусство должно или переме нить свой характер, или умереть . <…> с искусством человечества древнего случилось последнее … (С. 264).
«Лукий, или Первая повесть» Сенковского (1842)
Заваленные повестями всякого разбору, виду и покрою , мы теперь не понимаем, как могли существовать литературы без романов и повестей (С. 75)
Ктó же изобрел их ? Когда свет увидел первую повесть? (С. 75)
…прочитав в последний раз великие образцы прежнего греческого и латинского искусст ва , свернул их, поставил в шкаф, запер ключом и сказал насмешливо: «Покойтесь там, мощные умы! Ваше царствование кончилось.
… повесть во всех литературах теперь есть исключительный предмет внимания и деятельности всего, что пишет и читает…
(С. 261–262)
В чем же заключается причина этой общей потребности, этого господствующего духа времени, которые все литературы подвели под форму романов и повестей? (С. 262). … вера в богов и чудесное умерла; дух героизма исчез; настал век жизни действительной… (С. 265)
Повесть наша началась недавно <…>. В двадцатых годах обнаружились первые попытки создать истинную повесть. <…> … г. Марлинский был <…> зачинщиком русской повести (С. 272)
…повесть во всех литературах теперь есть <…> наш дневной насущный хлеб … (С. 261–262).
Итак — Марлинский, Одоевский, Погодин, Полевой, Павлов, Гоголь — здесь полный круг истории русской повести. Да — полный… (С. 283)
Отличительный характер повестей г. Гоголя составляют — простота вымысла, народность, совершенная истина жизни , оригинальность и комическое одушевление, всегда побеждаемое глубоким чувством грусти и уныния. Причина всех этих качеств заключается в одном источнике:
Свет уже вас не понимает. Мы измельчились до повести (С. 76)
Первую известную повесть написал человек, который, видя вокруг себя общее разрушение разума, не верил уже ни разуму, ни его величию, ни творчеству таланта ; который, потеряв надежду на будущее, разрушал все острыми ударами своего сарказма, осмеивал богов и лю дей, уничтожал последние мечты <…> и отталкивал от себя его новые упования… (С. 76) Честь, или несчастие, изобретения совершенно романической повести, такой, какие мы пишем или посредством каких исписываемся нынче, неотъемлемо принадлежит Лукиану (С. 76)
О вы, которые питаетесь повестями, сỳдите о повестях, знаете наперечет все мудрые повести нашего времени, до самой последней, до самой новейшей! Читали ль вы самую первую по весть грешного человека, ту, с которой началась вся эта бесконечная вереница?.. (С. 77) ...этот странный мир, <...> который отразился <…> с своими характерами, нравами и понятиями <…> подлинность подробностей древнего житейского быту, <...> занимательность самого времени, наполненного борьбою старых верований с новыми, — все это ставит «Лукия» гораздо
|
г. Гоголь — поэт, поэт жизни действительной (С. 284) |
выше того, чтó мы рассказываем в повестях наших наугад о прошедшем и с приторною для современников верностью о настоящем (С. 77) |
Пародируя теоретические построения Белинского, посвященные истории повести, Сенковский раскрывает свою точку зрения. Во-первых, он показывает появление жанра повести уже в античной литературе, а не в литературе Нового времени; во-вторых, полемизирует с утверждением Белинского о том, что Гоголь был первопроходцем в изображении «действительной жизни» в повести. Кроме того, называя первой повестью именно «Лукия» — повествование о фантастическом превращении человека в говорящего осла и его приключениях на пути к обратной метаморфозе, — Сенковский изящно подчеркивает значение «Фантастических путешествий Барона Брамбеуса» в ряду русских повестей 1830-х гг.35, несмотря на то что сочинение и его автор не были упомянуты Белинским в его «полном круге истории русской повести»36. Свою мысль Сенковский усиливает как вопросом («Читали ль вы самую первую повесть грешного человека?»), так и замечанием, что Лукиана «прошедший век так справедливо прозвал "греческим Вольтером"» ( Лукий : 77, 76), что могло напомнить о прозвище «Вольтер толкучего рынка»37, которое Сенковскому дали недоброжелатели.
Заключительная часть вступительных замечаний Б. Б. к «Лукию» на первый взгляд не имеет параллелей с текстом Белинского. В ней дается картина «господствующего духа времени», в ко торое выпало жить и творить Лукиану:
«Христианство быстро усиливалось. Язычество <…> старалось <…> одушевиться последними остатками прежнего теплого верования. Обе стороны обвиняли друг друга в колдовстве, чернокнижии и употреблении сверхъестественных мер к своему торжеству. Этого было достаточно, чтобы колдовство действительно пошло в моду» ( Лукий : 77–78).
Однако отдельные красноречивые детали возвращали внимательного читателя к статье Белинского — к той ее части, в которой давалась оценка творчеству Гоголя:
Таблица 2 / Table 2
|
«О русской повести и повестях г. Гоголя» Белинского (1835) |
«Лукий, или Первая повесть» Сенковского (1842) |
|
Я нимало не удивляюсь, подобно некоторым, что г. Гоголь мастер делать всё из ничего … (С. 289). Вы видите всю пошлость, всю гадость этой жизни <…> и между тем принимаете <…> участие в персонажах повести… (С. 291). О, г. Гоголь истинный чародей … (С. 292) |
Во втором веке древний образованный мир наполнился страшными колдунами , которые, по общему мнению, произ водили невероятные дивы и которые <…> оспаривали могущество над умами философов … (С. 78) |
Вероятно, с целью окончательно удостоверить читателя в том, что вступление к Лукию, как и весь последующий рассказ, имеет скрытый подтекст, связанный с оценками творчества Гоголя в контексте истории русской повести и с полемикой вокруг «Похождений Чичикова», Сенковский добавляет еще одну деталь:
«Фессалия <…> прославилась <…> гнездом самых опасных кудесников, и один из городов этой провинции, именно Ипата , признан был сборным пунктом или Лысою Горою искуснейших ведьм того времени » ( Лукий : 78).
Лысая Гора не единожды упоминалась в русской литературе 1830-х гг. как место шабаша ведьм, которое находится «под самым Киевом»: в повести О. М. Сомова (1833)38, сказке В. И. Даля (1837)39. В «Вечерах на хуторе близ Диканьки» Гоголя, переиздание которых состоялось в 1842 г.40, картины шабаша нечистой силы встречаются трижды [Левашев, Тетерина: 173].
Таким образом, Сенковский проводит параллели между борьбой язычества и христианства во II в., называя ее «одной из самых разительных черт общества» ( Лукий : 78), и борьбой идей и страстей в российских журналах своего времени41. Полагаем, что Сенковский уловил остроту и серьезность развернувшихся вокруг «Мертвых душ» дискуссий, которые в итоге оказали «существенное влияние на само формирование славянофильства и западничества» [Виноградов: 72]. Отмечая, что обе стороны (христиане и язычники) «обвиняли друг друга в колдовстве, чернокнижии и употреблении сверхъестественных мер» и «равно страшились друг друга» — и «этого было достаточно, чтобы колдовство действительно пошло в моду» ( Лукий : 78), Сенковский тонко иронизирует над впадающими в крайности участниками журнальной полемики, намекая на парадоксальный, как по волшебству, переход критиков от оценок нового произведения третьего лица к нападкам друг на друга. Финал вступительного комментария к «Лукию» был подсказкой читателям, как можно трактовать повествование:
«Пусть теперь Лукиан, или правильнее его герой Лукий, расскажет нам, чтó случилось в Ипате с одним молодым ахейским уч еным » ( Лукий : 78).
Открывающий повесть вставной эпизод в виде портрета-самопредставления молодого ахейского ученого: «философа, историка, ритора и грамматика», который учился в Афинах всякой книжной премудрости и сделался известным своими сочинениями, но затем превратился в осла вследствие своего чрезмерного интереса к колдовским зельям, — это образ восторженного почитателя «Похождений Чичикова», портрет высокообразованного критика, который, «право, не хуже других», но с ним приключился «казусный случай» ( Лукий : 79), а именно — неотразимое воздействие поэмы Гоголя. Осмелимся предположить, что к замыслу изобразить литературных критиков-современников в герое античного текста, превратившемся в осла, Сенковского могло подтолкнуть среди прочего замечание Белинского из статьи «Похождения Чичикова, или Мертвые души»: «У нас всякий писака так и таращится рисовать бешеные страсти и сильные характеры, списывая их, разумеется, с себя и с своих знакомых» [Белинский; т. 6: 220].
Вставные эпизоды с использованием характерного для Апулея приема обстоятельного самопредставления героя стали способом создания фельетонного портрета.
Вступительный комментарий ярко демонстрирует жанровый синкретизм, характерный для всего текста. Он задуман как мистификация и сочетает в себе черты научной статьи (ссылки на античный источник, историко-литературный экскурс), литературно-критического памфлета (полемика с Белинским, замаскированная под рассуждение о повести) и фельетона (шутейная, развлекательная манера изложения).
К. С. Аксаков и С. П. Шевырев — герои античного сюжета
Наиболее благожелательно отозвались в 1842 г. об авторском определении жанра «Мертвых душ» К. С. Аксаков, В. Г. Белинский и С. П. Шевырев42. В открывающих рассказ Лукия словах: «…учился я в Афинах <…> сделался сам известным моими сочинениями <…> философ, историк, ритор и грамматик» (Лукий: 79) — можно было усмотреть намек на каждого из них.
Самым молодым автором хвалебного отзыва о поэме Гоголя стал 25-летний Константин Сергеевич Аксаков, окончивший в 1835 г. словесное отделение Московского университета со степенью кандидата. В годы учебы в Московском университете Аксаков был участником кружка Станкевича, где велись бурные дискуссии о философии Шеллинга, Канта и Гегеля. В 1838 г. он написал сочинение «О грамматике вообще (по поводу грамматики г. Белинского)»43, в следующем — «О некоторых современных собственно литературных во-просах»44. Аксаков заявил о себе и на поэтическом поприще, печатаясь с начала 1830-х гг., часто под псевдонимом К. Эври-пидин. В 1835 г. был опубликован отрывок из его драматической пародии «Олег под Константинополем», написанной под воздействием скептической школы М. Т. Каченовского и высмеивавшей чрезмерное доверие к преданиям о далеком прошлом Древней Руси. Автором вступительного примечания к публикации был Белинский45, также симпатизировавший взглядам Каченовского46. К 1839 г. пьеса была завершена [Машинский: 598]. Эпилог произведения состоит из стихов, передающих лекцию Профессора:
«Помилуйте! Какой Олег? Всё сказки! Олег никак не мог существовать.
Вот г оворят, что с парусами в лодках
Он пóсуху ходил до Цареграда, Да там еще и щит прибил. Ну вот Какие басни! Им совсем не место В истории» 47 .
Полностью текст драмы Аксакова об Олеге был опубликован только в 1858 г., однако, на наш взгляд, нельзя исключать, что отсылкой к творческой биографии юного Аксакова и его взглядам на историю является вставной эпизод в «Лукии» Сенковского, в котором только что превратившийся в осла ученый восклицает:
«О боги! Я — осел?.. Я, философ, историк, ритор и грамматик — осел?.. Я, который написал столько знаменитых сочинений обо всех отраслях знания, который собирался основать новую школу философии и красноречия, который открыл в одном Гомере десять ошибок против языка и две — против размеру стиха, который доказал , что Александр Великий никогда не бывал в Индии , я, я — осел?» ( Лукий : 88).
Заметим, что сам Сенковский был решительным противником гиперкритического отношения к сведениям письменных источников о далеком прошлом, будь то история Древнего мира или история Древней Руси. Он показывал, как новейшие археологические открытия подтверждают данные античных авторов, отмечая:
«Прошло время, когда бранили Геродота и смеялись над Кте-сиасом. Нынче думают, что благоразумнее и полезнее изучать Геродота и Ктесиаса, сличая их тексты с наблюдениями, сделанными на месте, и смыслом памятников…» 48 .
Он доказывал, что
«обесславленные критиками прошлого столетия скандинавские саги <…> открыли глазам нашим <…> целый ряд подлинных картин давн о исчезнувшего общественного быта…» 49 .
В 1837 г. Сенковский принял к публикации статью Н. И. Надеждина, отправленного в ссылку в Усть-Усольск за издание «Философического письма Чаадаева». Рассуждая о пути приближения к исторической истине, Надеждин выступал против гиперкритики и ученых, которые «важно расхаживают середи белого дня и отмечают попавшиеся на глаза предания, говоря: "Нынче ты в сломку; завтра дойдет очередь до соседа"»50. Двадцать лет спустя Аксаков тоже признал ошибочность скептических мнений Каченовского, отметив в предисловии к изданию драмы об Олеге 1858 г.: «Пародия эта потеряла современность, а вместе с тем, может быть, и занимательность…»51.
Следующий пространный вставной эпизод «Лукия» в виде самохарактеристики осла-ученого содержал детали, не характерные для биографии Аксакова: «учил людей, славился на весь мир». Почти каждая фраза включала намеки на другого автора похвалы «Мертвым душам» Гоголя — Степана Петровича Шевырева:
«Грустные думы овладели мною. Вот судьба ученого!.. пи сал книги, учил людей, славился на весь мир : и вдруг, глядь, я — осел!.. <…> никогда еще не философствовал так глу бо ко, как тогда , в ослиной коже. Я с удивительною легкостью решил множество важных умозрительных вопросов и достиг до таких высоких наведений, каких не вижу даже у Плато на . В промежутках я занимался этимологией и открыл несколько удивительных корней для разных имен и глаголов» ( Лу кий : 94–95).
И действительно, 35-летний Шевырев к 1842 г. был ординарным профессором словесности Московского университета, доктором фил ософии, членом Педагогического института52
и автором трудов по истории и теории поэзии53. В поездке по Европе 1838–1840 гг. Шевырев, как следует из воспоминаний М. П. Погодина, сделал много примечательных знакомств с именитыми учеными и писателями54. В «Теории поэзии» Шевырева значительная часть первой главы была посвящена учению Платона о прекрасном55. Основные положения труда воспроизводили «характерный для того времени взгляд на Платона как на философа-поэта» [Тихеев: 134], а саму поэзию Шевырев понимал, в соответствии с этимологией слова (греч. ποίησις , от ποιέω — делаю, создаю, творю), как вид искусства, принимая «атрибуцию Жаном Полем Рихтером романа как поэтического жанра» [Нилова: 109–110], что послужило отправной точкой для защиты взгляда на «Мертвые души» как на поэму.
В 1842 г. публикации Шевырева в журнале «Москвитянин» касались различных вопросов, что и стало, по-видимому, основой самопрезентации осла-ученого у Сенковского:
«…никогда еще не философствовал так глубоко, как тогда, в ослиной коже» ( Лукий : 94).
К двум программным статьям Шевырева о современной русской литературе56 добавились две статьи о «Мертвых душах»
Гоголя57; несколько публикаций были посвящены истории воспитания в древности, значению педагогики в современнос-ти58 и разработке «основных положений теории воспитания русского человека и гражданина отечества» [Цветкова: 43]. В одной из статей Шевырев критиковал Платона, который «в идеальной своей республике <…> не признает никакого семейства: так, у него человеческое подавлено государствен-ным»59. Автор призывал родителей не освобождаться «от священной обязанности править воспитанием семейным» и, достигнув «до таких высоких наведений, каких не ви[дел] даже у Платона» ( Лукий : 94), провозглашал:
«Из университета выходит студент или кандидат; из ваших же рук выходит человек — звание важнейшее всех других званий. Да, только в самой тесной, в самой неразрывной связи семейного воспитания с государственным заключается идеал воспитания совершенного, везде, но особенно в настоящую минуту, в нашем Отечестве» 60 .
В этой же статье Шевырев «занимался этимологией и открыл несколько удивительных корней для разных имен» ( Лукий : 94–95) — рассуждал о значении слова воспитание в русском языке в сравнении с немецким Erziehung61 и отмечал:
«…прекрасна и глубока мысль тех филологов наших, которые производят русское слово семья от семени , знаменуя тем призвание семьи, выражаемое в коренном ее понятии: служить семенем всему человечеству» 62 .
Интересно, что фраза из самопрезентации осла-ученого в «Лукии» Сенковского «писал книги, учил людей, славился на весь мир» перекликается с построением характеристики
Лиодора Ипполитовича Картофелина из памфлета Белинского «Педант (литературный тип)» в мартовском номере «Отечественных Записок» за 1842 г., направленного против Шевы-рева. Используя пародийное имя, данное Шевыреву Н. Полевым в 1832 г., Белинский выделяет важные вехи в биографии Картофелина. Сначала, воспитываясь «в единственном пансионе губернского города», он «подбил товарищей издавать журнал» и «объявил себя монополистом» отделений стихов и критики. Затем, «обремененный лаврами», приехав «в одну из столиц наших, <…> он является учителем "российской словесности"». Наконец, «вот что многим может показаться невероятным: прозаическими статьями своими Картофелин обратил на себя общее внимание, как человек со вкусом, умом и дарованием» [Белинский; т. 6: 70–72].
Отсылкой к характеристике Картофелина в «Педанте» Белинского, который среди прочего высмеивал готовность Шевырева как сотрудника одного из журналов трудиться до кровавого пота из тщеславия и взвалить на себя всю работу, а разживу предоставить хозяину [Белинский; т. 6: 71], была, по всей видимости, еще одна ремарка осла-ученого в сочинении Сенковского:
«…я почти не выходил из хомута. Тут страдало не одно тело, но и гордость. Пусть уже так: молоть так молоть для своих хозяев, а не на весь мир ; тем больше, что я был осел мыслящий, осел-философ, осел-ритор и грамматик» ( Лукий : 104).
Заметим, что изображение современников в литературных героях из других исторических эпох было для Сенковского далеко не новым приемом. В комедии «Фансю, или Плутовка горничная», публикация которой в «Библиотеке для Чтения» 1839 г. была представлена как перевод с китайского пьесы Джин-Дэхуэя, выполненный неким провинциальным чи-новником63, также были вставные эпизоды, один из которых — самохарактеристика книжных дел мастера Пху-Лалиня — несомненно п одразумевала Ф. Булгарина [Карпов: 137].
Крайне любопытен пространный вставной эпизод в «Лукии», рассказывающий историю про вельможу Менеклеса, «которого льстецы титуловали illustrissimus » ( Лукий : 121). Осел-философ сообщает:
«Менеклес воздвиг в своей великолепной вилле прекрасную статую, которая, разумеется, изображала собственную его персону, и для пьедестала сам сочинил надпись, исчисляющую все его титулы и подвиги. Титулов у него было множество, но подвигов, кажется, никаких…» ( Лукий : 122).
Осмелимся предположить, что рассказ про Менеклеса содержит намеки на министра просвещения С. С. Уварова, занимавшего также должность президента Академии наук64. Уваров был владельцем великолепного имения в Поречье, которое получило славу русских Афин и сравнение с Платоновой Академией, поскольку главный зал был украшен статуями и картинами, а частыми посетителями были ученые и писатели [Виттекер: 272]. В 1841 г. в журнале «Москвитянин» была опубликована вызвавшая широкий резонанс статья, в которой владелец Поречья именовался «его высокопревосхо ди тель-ство г. министр народного просвещения Сергей Семенович Уваров»65, а само имение было охарактеризовано в самых восторженных тонах:
«…радуешься, словно роскошному оазису, когда приближаешься к Поречью. <…> Сюда русский вельможа, владелец Поречья, приезжает летом для кратковременного отдохновения от трудов государственных. <…> мысль хозяина, с какою он пересоздал Поречье: он хотел иметь в нем обитель науки и искусства и пристань от житейских треволнений. <…> Поречье — не итальянская вилла, назначенная для забав…»66.
Отношение Сенковского к Уварову вряд ли было восторженным. Судя по дневниковым записям цензора А. В. Никитенко, в 1834 г. Уваров отдал ему «приказание смотреть как можно строже за духом и направлением "Библиотеки для чтения"» Сенковского, «очень резко говорил о его "полонизме", о его "площадных остротах" и проч.»67. Сенковский стал главной мишенью нападок двух статей Шевырева в первом же номере «Московского Наблюдателя»68 — журнала, находившегося под покровительством Уварова69.
Высмеивание Уварова в образе античного вельможи могло напомнить читателям о стихотворении Пушкина «На выздоровление Лукулла (подражание латинскому)», которое было опубликовано в сентябрьском выпуске «Московского Наблюдателя» за 1835 г.70 и стало «основной темой пересудов в светских салонах северной столицы» [Перцов, Пильщиков: 57]. В отталкивающем образе корыстолюбца-наследника, который жаждал скорейшей кончины заболевшего богача, общество моментально узнало министра просвещения. Пушкин в одном из писем начала 1836 г. писал по-французски:
«В образе низкого скупца, пройдохи, ворующего казенные дрова, подающего жене фальшивые счета, подхалима, ставшего нянькой в домах знатных вельмож, и т. д. — публика, говорят, узнала вельможу, человека богатого, человека, удостоенного важной должности»71.
Особого упоминания заслуживает тот факт, что активным участником «Московского Наблюдателя» был М. П. Погодин [Бадалян: 108, 114]. Иными словами, Сенковский не только отсылал внимательного читателя к истории о смелом пасквиле Пушкина, но и недвусмысленно указывал на изменения в Погодине: не воспротивившись публикации дерзкого памфлета против Уварова, всего через шесть лет он принял к изданию поразительную по льстивости статью72.
Любопытна в связи с этим еще одна самохарактеристика осла-ученого в «Лукии» Сенковского:
«[Менеклес] не мог нарадоваться, наглядеться на меня : я для него был чудом, сокровищем <…> он отдал меня на руки одному вольноотпущенному , чтобы тот <…> учил меня выделывать разные штуки. <…> Он попробовал заставить меня слагать разные слова <…> я и это исполнил отлично . Мы сложили таким образом целую фразу: " Менеклес украшение Греции ". Менеклес объявил торжественно, что я очень умный осел, и подарил прекрасное платье моему наставнику» ( Лукий : 121–122).
По всей видимости, здесь представлены дополнительные штрихи к портрету Шевырева, а вместе с ним и Погодина. В 1837 г. Уваров «устроил дело так, что император подписал прошение Погодина и Шевырева об издании "Москвитянина"», несмотря на действовавший запрет на выпуск новых периодических изданий [Бадалян: 110]. В первом же номере журнала, издание которого началось в 1841 г., была размещена статья Шевырева «Взгляд русского на современное образование Европы»73, разъясняющая содержание не имевшей еще в нача ле 1840-х гг. о фициального характера триады «Православие.
Самодержавие. Народность» [Бадалян: 111]. В этой статье примечательны строки:
« Тремя коренными чувствами крепка наша Русь и вер но ее будущее. Муж царского Совета, которому вверены поколения образующихся, давно уже выразил их глубокою мыслию , и они положены в основу воспитанию народа» 74 .
Чем не «Менеклес — украшение Греции»? В том же году издатель «Москвитянина» Погодин был избран академиком Петербургской Академии наук по отделению русского языка и словесности.
Рассказ о своем пребывании у Менеклеса осел-философ дополняет красочными подробностями обсуждения надписи, сочиненной вельможей для пьедестала собственной статуи:
«Вельможа, его друзья, его придворные философы, софисты и риторы часто приходили к пьедесталу рассуждать об этой надписи. Все находили ее отлично умною и правильно написанною . Принадлежа к домашнему обществу, я однажды присоединился к кругу критиков надписи. В одном из слов ее была маленькая ошибка против орфографии. Я подошел к пьедесталу, уперся концом морды в неправильную букву и заревел так пронзительно , как еще ни один грамматик не ревел, открыв погрешность в сочинении своего врага» ( Лукий : 122).
Пронзительный рев осла-философа как деталь к портрету Шевырева имеет параллель в журнальных статьях 1842 г. В апрельском номере «Русского Вестника» была опубликована эпиграмма Н. Полевого против Шевырева, процитированная затем Белинским в статье «Журнальные и литературные заметки», завершением которой были строки:
«Молчи, пискун ! Ну, где ты находил, Чтоб льва могучего, с зубами и когтями Когда-нибудь осел копытом бил?» [Белинский; т. 6: 239].
Кроме того, в описании приема гостей у Менеклеса несомненна отсылка к восторженному рассказу о поездках ученых в имение Уварова в статье «Село Поречье», автор которой, И. И. Давыдов , входил в число приглашаемых гостей:
«Между нами были пожилые и юноши, профессоры <…> , художники <…> и образованные любители наук и искусств <…> Первые две недели все наше общество с хозяином проводило утреннее время в библиотеке <…>. Каждый говорил откровенно; чаще л юбили мы слушать самого хозяина, неистощимого в мыслях, с сладким словом . <…> Никогда не изгладятся из памяти нашей те сладкие беседы, в которых хозяин, не как высокий сановник, а как первый из товарищей, позволял говорить с собою откровенно и чистосердечно » 75 .
Белинскому была хорошо известна практика профессорских вояжей в имение Уварова: в письме к Гоголю от 20 апреля 1842 г. он назвал руководителей журнала «Москвитянин» «холопами знаменитого села Поречья» [Белинский; т. 12: 108]76.
Но почему в «Лукии» Сенковского осел-ученый, чудо и сокровище Менеклеса, вдруг говорит о себе, что присоединился к числу критиков вельможной надписи и заревел пронзительно, обнаружив маленькую орфографическую ошибку? Рискнем предположить, что Сенковский намекает на новые уточняющие акценты в трактовке Шевыревым формулы «Православие. Самодержавие. Народность» в статьях 1841–1842 гг. Во-первых, основы уваровской триады тот обнаруживает в Древней Руси, а не в Петровской эпохе77. Во-вторых, из всех элементов формулы более всего его интересует народность, которая, по его мнению, наиболее ярко выражается в словесности78. Наконец, в статье о «Мертвых душах» Шевырев пишет:
«Русская словесность <…> всегда призывала народ к сознанию своей внутренней жизни, — и правительство наше (честь и хвала ему) никогда не скрывало от нас таких сознаний, если только совершались они талантами истинными, с искренним чувством любви к России и с уверенностью в ее высоком назначении» 79 .
Анализируя черную и светлую стороны современной словесности в статьях 1842 г., Шевырев с похвалой отзывается о многих современных литераторах, приложивших «благородные усилия» на поприще «изучения устного языка народного»80, но подвергает уничтожающей критике своих давних врагов — «журнального пересмешника (clown)» Сенковского и «рыцаря без имени», одетого в «броню наглости», Белинского81. Сенковско-го Шевырев называет «повествовательной машиной», говоря:
«…бросьте в нее любое происшествие, из любого народа, из какого хотите века, бросьте любой анекдот, да хоть картинку… завтра же чудная машина превратит вам все это в повесть» 82 .
Белинский ответил Шевыреву фельетонным портретом Лио-дора Картофелина, созданным от имени Петра Бульдогова, Сенковский — от имени Лукиана и его переводчика Б. Б. самохарактеристикой древнегреческого философа-осла.
Нет никаких сомнений в том, что Белинский понял все отсылки «Лукия» к своим критическим статьям, начиная с давней «О русской повести и повестях Гоголя», переложенной в стилистике вступительного комментария к сочинению древнего автора, заканчивая параллелями к фельетону о Ше-выреве и ответом в античной стилистике на вызов, брошенный Белинским Барону Брамбеусу в «Литературном разговоре». Странный, перегруженный деталями отзыв Белинского о «Лу-кии», производящий впечатление ошибки, на наш взгляд, не может быть объяснен тем, что творчество Лукиана было «мало» известно «в России в 1840-е гг.» [Кошелев А. В., Кошелев А. В., 2024b: 695]. Белинский намеренно изменяет название античного источника «Лукия» Сенковского, демонстрируя желание завершить полемику о повести с позиции победителя:
«…в "Библиотеке для чтения" прошлого года были напечатаны и еще две повести, тоже, кажется, Барона Брамбеуса: "Падение Ширванского царства" и "Лукий, или Первая повесть". Первая очень потешна, а вторая — довольно неудачное искажение известной сказки Апулея "Золотой осел", переведенной по-русски Ермилом Костровым еще в 1780 году, под титулом: "Луция Апулея платонической секты философа Превращение, или Золотой Осел. Перевел с латинского императорского Московского университета бакалавр Ермил Костров. В Москве, в университетской типографии, у Н. Новикова, 1780 года"» [Белинский; т. 6: 541].
Белинский, по всей видимости, попытался выставить Сенковского писателем-подражателем, незадачливым эпигоном. Однако именно обращение к «чужим» текстам и вольная игра с сюжетами и героями, творческая переработка «чужих» тем и мотивов, а также диалог с ними через цитаты, аллюзии, пародию, стилизацию создавали в «Лукии» неповторимый стиль, в котором ключевым способом создания текста становится насыщенная интертекстуальность в сочетании с аналитической иронией.
* * *
Подводя итоги, отметим, что «Лукий, или Первая повесть» Сенковского представляет интерес в нескольких отношениях. Автор осуществил смелый литературный эксперимент и создал гибридный в жанровом отношении текст. Формально он имеет структуру научной статьи, однако его содержание является сплавом художественного перевода и адаптированного пересказа древнегреческого сочинения с пародией и фельетоном, написанными на основе злободневных журнальных статей. Текст является остроумным инструментом литературной и журнальной полемики, а вступительный комментарий к «Лукию» — замаскированным ответом на критику В. Г. Белинского и бурные дискуссии вокруг поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые души». Сенковский оспаривает идеи Белинского о новизне жанра повести и первенстве Гоголя в изображении «действительной жизни».
Используя древнегреческое произведение для создания сатирического портрета эпохи, Сенковский обращается к двойному хронотопу, применяет различные художественные приемы, в том числе «двуголосое слово», гротеск, пародийные вставки, позволяющие представить главного героя и охарактеризовать современное общество, метафоры-самоиронии. Ключевым творческим приемом становится литературная мистификация, которая позволила, с одной стороны, Сенковскому-профессору быть максимально свободным в обращении с античным материалом, а с другой — Сенковскому-редактору вступить в полемику с критиками. Для массового читателя «Лукий» — это развлекательное чтение с просветительским элементом. Для образованной московской и петербургской элиты, следившей за журнальной борьбой, — многослойный, злободневный сатирический текст на литературных и не только современников, отличающийся интенсивной интертекстуальностью.
Повесть имеет мощный философский компонент. Мотив метаморфозы человека в осла становится у Сенковского многогранной метафорой мыслящего человека и его заблуждений. Осмысление в «Лукии» судьбы высокообразованного интеллектуала, увлеченного сомнительной теорией или стоящего перед выбором между научной честностью и карьерой, перекликается с типами из провинции в «Похождениях Чичикова» Гоголя.
Прекрасное знание древнегреческого языка, литературных приемов античных авторов и структуры научной статьи по классической филологии в совокупности с энциклопедической образованностью, профессиональной осведомленностью о новейших научных дискуссиях и погруженностью в перипетии журнальной борьбы позволили Сенковскому не только создать необычное внешнее оформление для остроумной повести-мистификации, но и наполнить ее содержание сатирой на современников, выразив в ней свои взгляды по самым злободневным сюжетам литературной полемики и взаимоотношений между авторами и издателями, дискуссионным проблемам истории словесности и методологии истории, борьбе мнений относительно важнейших основ воспитания и образования.