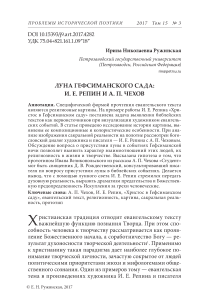Луна Гефсиманского сада: И. Е. Репин и А. П. Чехов
Автор: Ружинская Ирина Николаевна
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 3 т.15, 2017 года.
Бесплатный доступ
Специфической формой прочтения евангельского текста являются религиозные картины. На примере работы И. Е. Репина «Христос в Гефсиманском саду» поставлена задача выявления библейских текстов как первоисточников при визуализации художником евангельских событий. В статье проведено исследование истории картины, выявлены ее композиционные и колористические особенности. При анализе изображения сакральной реальности на полотне рассмотрен богословский диалог художника и писателя - И. Е. Репина с А. П. Чеховым. Обсуждение вопроса о присутствии луны в событиях Гефсиманской ночи позволяет выявить характер взаимоотношений этих людей, их религиозность в жизни и творчестве. Высказана гипотеза о том, что прототипом Ивана Великопольского из рассказа А. П. Чехова «Студент» мог быть священник Д. В. Рождественский, консультировавший писателя по вопросу присутствия луны в библейских событиях. Делается вывод, что с помощью лунного света И. Е. Репин стремился передать духовную реальность, выразить драматизм предательства и Божественную предопределенность Искупления за грехи человеческие.
А. п. чехов, и. е. репин, "христос в гефсиманском саду", евангельский текст, религиозность, картина, сакральная реальность, прототип
Короткий адрес: https://sciup.org/14749024
IDR: 14749024 | УДК: 75.04+821.161.1.09“18” | DOI: 10.15393/j9.art.2017.4282
Текст научной статьи Луна Гефсиманского сада: И. Е. Репин и А. П. Чехов
Х ристианская традиция отводит евангельскому тексту важнейшую функцию познания Творца. При этом способность человека к творчеству рассматривается как проявление Божественного начала, а соработничество Богу — результат духоносности творческой деятельности1. Применимо к христианину такая парадигма дает наиболее глубокое понимание творческой личности, зачастую сокрытое от людей политическими приоритетами эпохи и мифологемами общественного сознания. Один из примеров тому — евангельская тема в произведениях художника И. Е. Репина и писателя
-
А. П. Чехова. Несмотря на то, что сфера творческой деятельности каждого относилась к разным жанрам культуры, евангельский сюжет Гефсиманского сада оставил заметный след в их жизни и творчестве.
В фонде «Музея изобразительных искусств Республики Карелия» находится уникальная картина — живописная работа И. Е. Репина «Христос в Гефсиманском саду»2. История данного полотна характерна для картин религиозного жанра в отечественной культуре XIX–XX вв. При жизни авторов они вызывали сдержанные отклики современников, а после смерти создателей — попадали в частные коллекции. В СССР такие картины были сокрыты в музейных хранилищах по идеологическим соображениям на долгие годы. После кончины И. Е. Репина в 1930 году владельцем полотна стал сын художника, Юрий, затем — коллекционеры В. и М. Мазовы. С 1966 года данная работа является частью фондов Музея ИЗО Карелии. В наши дни ее можно видеть в составе постоянной экспозиции «Русское искусство XVIII — начала XX вв.». Однако понимание сюжета картины может вызвать затруднения у зрителей, поскольку предполагает знание евангельского текста как первоисточника того, что изображено на полотне. Современный неподготовленный зритель видит лишь «силуэты людей на черном фоне», хотя на картине представлен один из самых драматичных моментов Библии, связанный с последними днями земной жизни Иисуса Христа.
В искусствоведческой литературе отсутствует исследование картины И. Е. Репина «Христос в Гефсиманском саду». Атрибуцию затрудняет вариативность датировки (80-е гг. XIX – начало XX вв.) и названия данного произведения искусства3. Комплексный анализ полотна невозможен без разрешения ряда ключевых вопросов. Приоритетными из них, на наш взгляд, являются следующие: выявление сути живописной интерпретации и визуальной репрезентации евангельского текста И. Е. Репиным, побудительных мотивов к созданию работы, определение уровня общественного интереса к религиозному направлению творчества художника. Таким образом, наше исследование имеет задачу историко-сравнительного изучения взаимодействия текста и изображения в разных видах искусства.
Картина И. Е. Репина о пребывании Христа в Гефсиманском саду менее известна, чем работы современников художника на ту же тему (М. В. Врубеля, Н. Н. Ге, А. А. Иванова, В. А. Ко-тарбинского, А. И. Куинджи, В. Г. Перова, Я. П. Турыгина). Это объясняется рядом обстоятельств, но прежде всего тем, что И. Е. Репин не афишировал картину. Полотно, находившееся в мастерской художника, стало объектом длительных экспериментов. И. Е. Репину предстояло передать самую сложную сторону религиозной картины — сакральную реальность [18; 45, 96, 114–115]. Кроме того, художник сомневался, что его обращение к евангельскому сюжету вызовет понимание у современников. Большинству из них необходима была «идея» [18, 118–119]. Действительно, общественный интерес к творчеству И. Е. Репина был тогда на стороне «обличительных» работ художника («Бурлаки на Волге», «Отказ от исповеди», «Арест пропагандиста»). Если социальные картины автора воспринимались интеллигенцией как «предисловие к чему-то бесконечно более важному», то религиозные полотна — как «заурядность» [2, 225–226].
При этом художники второй половины XIX века обращались к религиозной теме достаточно часто. Побудительные мотивы подобного интереса были разнообразны. Под влиянием политических событий не последнюю роль играло увлечение интеллигенции поиском модели общественного идеала личности, радеющей за «благо народа». Переосмысление мессианской роли Иисуса Христа привело к убеждению, что это — ярчайший пример борца, «стоявшего выше врагов, не замечавшего их, натура мужественная, ровная и широко думающая» (Письма, 3, 37)4, Христос — «действительная жизнь за других» [17, 146]. Члены Товарищества передвижных художественных выставок (передвижники) также акцентировали человеческую природу Спасителя [3, 90–91], умаляя Божественную сущность Христа. Таким образом, одними авторами Христос воспринимался борцом за народное благо, другими — как исторический персонаж красочной парсуны. Помимо этого, важным обстоятельством для художников того времени являлся технологический эксперимент в живописи — возможность воплощения новых изобразительных решений в области физики света, колористики, пространственной композиции. При этом точность передачи евангельского текста, сакральный смысл первоисточника становились второстепенными. В случае отсутствия иконографического канона того или иного библейского сюжета авторы зачастую руководствовались собственным пониманием смысловых акцентов (психологических, нравственно-этических, философских, эстетических). Таково вообще свойство искусства: «…тут все — личное настроение, личное впечатление» [16, 79].
Картина И. Е. Репина «Христос в Гефсиманском саду» заметно отличается от большинства полотен Страстного цикла. При отсутствии иконографического канона «гефсиманской» темы автор «часто и много увлекался этим сюжетом» [6, 118] в стремлении к буквальному и к духовному прочтению Евангелия. Судя по письму И. Е. Репина к В. Ф. Зеелеру, художник «начал трактовать Христа в Гефсиманском саду» еще в 1873– 1874 гг. [6, 118]. В Париже картину видел И. С. Тургенев — полотно вызвало живой интерес писателя. Однако сам автор был недоволен сделанным и «записал картину Стенькой Разиным на лодке»5 [6, 118]. Впоследствии Репин снова обратился к «гефсиманской» теме. Находясь в непрерывном поиске единения деталей евангельского текста с изображением на картине, он не повторил распространенных вариантов сюжетно-композиционной основы: «моление о чаше», группа апостолов, поцелуй Иуды Искариота, арест Христа, пейзаж ночного сада. Предельный драматизм сакральной реальности достигается композиционными, колористическими и световыми решениями. Немаловажно и то, что иконописный опыт, полученный Репиным в молодые годы, позволил художнику избежать «приземленности» при изображении Христа. Сопоставление текстов Нового Завета с полотном «Христос в Гефсиманском саду» дает основание утверждать, что смысловой доминантой картины является духовная реальность евангельских событий. Ей Репин стремился подчинить историзм и символизм полотна. Художник следовал фабуле евангельского текста, создавая перед зрителем иллюзию пересказа. На переднем плане картины одинокая фигура Христа в неярком, но устойчивом свечении божественной сути. Лик Спасителя изможден «молением о Чаше», но величественен и спокоен, ибо Он всецело предал себя Божественной Воле. Фигура Спасителя развернута к зрителю, но уже как бы «парит» над миром дольним — зритель видит последние минуты перед арестом Христа. Взгляд Спасителя обращен к Иуде, «одному из двенадцати» (Лк. 22:47). Движение левой руки Христа к согбенному предателю символично, ибо, «когда <…> приидет Сын Человеческий во славе Своей <…>; и поставит овец по правую Свою сторону, а козлов — по левую» (Мф. 25:31, 33). Заискивающий Иуда полон лживой радости: «И, тотчас подойдя к Иисусу, сказал: радуйся, Равви! И поцеловал Его» (Мф. 26:49). Его лицо — маска лицедея, скрывающая коварство предательства. Момент свершившегося поцелуя не изображен Репиным, но угадывается приближением толпы за спиной Иуды. Зловещие фигуры «с мечами и кольями, от первосвященников и книжников и старейшин» (Мк. 14:43) совершенно бесформенны. Их лица не могут осветить даже «фонари», «ибо всякий делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы» (Ин. 3:20). Темная колористика картины настолько плотна, что создает эффект практически безвоздушного пространства в глубине Гефсиманского сада. Мастерство художника настолько велико, что зритель становится практически свидетелем событий библейской ночи. Такой эффект достигается не только сюжетно-композиционной основой картины, но и светотеневыми решениями полотна. Если искусственный свет художник передал изображением факелов и светильников толпы, то с передачей естественного света лунной ночи у И. Е. Репина возникло затруднение.
В богословской интерпретации все имеет глубокую символику. Безлунная ночь, абсолютная мгла — это знаки присутствия зла, когда правит «власть тьмы» (Лк. 22:53). Свет луны как тварного начала — это Божие присутствие в мире ночи. Отсутствие луны — отсутствие «Божьего присутствия». Таким образом, луна в религиозной картине — это не просто часть пейзажа, это часть Божественного Творения, указующая на день Господень, знамения (Иоил. 2:10), праздники (Сир. 43:7). Она создана для научения познания времени (Пс. 103:19) и прославления замысла Творца (Пс. 148:1–3). Следовательно, лунный свет мог бы дать путь к богословскому осмыслению изображаемого явления.
Обратившись к Библии, И. Е. Репин обнаружил, что ни один из текстов Четвероевангелия не сообщает, была ли луна в «селении, называемом Гефсимания» (Мк. 14:32), за кедрон-ским потоком, где «был сад» (Ин. 18:1). Осознавая важнейшее значение лунного света при передаче духовной реальности, художник обратился за советом к А. П. Чехову. В январе 1893 года писатель был в петербургской мастерской художника на Калинкинской площади в доме № 3/5 (ныне пл. им. И. Е. Репина), где и увидел новую картину живописца. В этом плане представляется важным определение мотивации обращения художника к писателю с вопросом: «…была ли луна в Гефсиманском саду?» ( Письма , 5, 156).
Личное знакомство И. Е. Репина и А. П. Чехова состоялось в 1887 году, но с творчеством друг друга они были знакомы задолго до встречи. Столичная интеллигенция того времени вела активные дискуссии в салонах, собраниях и кружках. Так, например, по четвергам ученые и творческие деятели Петербурга собирались на квартире И. Е. Репина. Здесь «много и горячо спорили» [18, 119] о новых веяниях культуры и общественной мысли. Завсегдатаями «четвергов» были ученые Н. Н. Бекетов и Н. А. Меньшуткин, художники И. И. Шишкин и Г. Г. Мясоедов, литераторы И. И. Ясинский и В. М. Гаршин. Будучи в Петербурге, посещал эти собрания и А. П. Чехов. Молодой писатель запомнился Репину «положительным», «трезвым», «здоровым», «несокрушимым силачом по складу тела и души»6. Литератор, облаченный в «мундир холодной проницательности», напомнил Репину тургеневского Базарова. Чехов олицетворял «новое явление в литературе», но его манеру писать «бессюжетные» вещи принимали тогда далеко не все [17, 175–176]. Осознавал это и сам писатель: «…около меня нет людей, которым нужна моя искренность и которые имеют право на нее» (Письма, 2, 165). Можно предположить, что сквозь «кольчугу мужества» литератора художник сумел разглядеть высокую нравственность и духовную чуткость Чехова.
При отсутствии частых личных встреч в последующие годы художник и писатель были чрезвычайно внимательны к творчеству друг друга. Не случайно в своеобразной иерархии деятелей культуры того времени А. П. Чехов отводил И. Е. Репину ведущее место, наряду с Л. Н. Толстым и П. И. Чайковским ( Письма , 4, 40). Особенно любил Репин рассказы «тончайшего мастера слога», эти «близкие душе истории, полные глубокого смысла» [16, 122].
Несмотря на разницу в характерах, возрасте, направлениях деятельности, Репина и Чехова многое объединяло. Для них, как для творческих личностей, не существовало мелочей. Каждый «осколок» реальности ими воспринимался как отражение «правды» бытия. Вчитываясь в рассказы писателя, И. Е. Репин поражался мастерскими описаниями пейзажных зарисовок лунной ночи. А. П. Чехов же признавался, что при всей «затрепанности» этой темы, надо стараться увидеть в луне что-нибудь свое, оригинальное, авторское. Можно предположить, что при всей многозначности лексем «луна» и «лунная ночь» в языковой картине мира А. П. Чехова этим «своим» стало для него религиозно-философское осмысление лексемы (см.: [7, 28–29]). Так, в присутствии луны особенно сознавал свое одиночество герой Чехова Имбс («Русский уголь»), любящий Терентий благословлял спящих детей («День за городом»), в свете луны, «ярком и покойном, плелись богомольцы» («Архиерей»), а душа Андрея Ефимыча прощалась с миром («Палата № 6»).
При внешней открытости И. Е. Репина и А. П. Чехова религиозная сфера их жизни была не публична. Известия о появлении у Репина новых «библейских» работ, вызывали разочарованные отклики современников — «сбился с пути» [2, 274]. Писателя же обвиняли в пессимизме, когда он обращался к «вечным темам».
Изучение творческого наследия И. Е. Репина до сих пор неоднородно. Бытовой, исторический, портретный жанры в его живописи исследованы достаточно полно, тогда как работы на библейские темы малоизученны [1]; [5]; [10]; [13];
-
[25]. В настоящее время влияние христианского текста на творчество А. П. Чехова — предмет актуальных исследований7. На наш взгляд, вера писателя и художника выросла из осмысления собственного религиозного опыта, в котором православие играло важнейшую роль. Конечно, религиозность каждого из них складывалась под влиянием множества переживаний. Однако истоки религиозности И. Е. Репина и А. П. Чехова имели сходство: религиозные традиции семьи, обстановка дома, эстетика православной обрядности и восприятие христианского текста. При этом формы религиозного опыта художника и писателя были различны. Религиозность И. Е. Репина во многом питалась «восторгами» детства: иконами и картинами из родительского дома на библейские темы, житийным слогом от чтения «маменьки», крестными ходами, фресками храма, «писанками к великодню», ранним опытом «богомаза» [15; 37–43, 65, 75]. Религиозность А. П. Чехова выросла из «полученного в детстве религиозного образования и такого же воспитания» ( Письма , 5, 22), глубины богослужебного слова, колокольного перезвона и православной символики. Не случайно в произведениях и письмах писателя цитирование Библии встречается более 500 раз [8]. Гимнографические тексты утрени Великого Четверга отчетливо рисовали в детском воображении образ «Иуды злочестивого», предавшего в руки «беззаконных судий» «льстивым лобзанием» «праведного Судию» [12, 112–124]. Но суровая школа клиросного послушания при регенте–отце дала раннее осознание «ширмочки» ( Письма , 5, 27), по одну сторону которой декларирование христианской любви, а по другую — деспотизм и ложь, превращающие детство в «страдание» ( Письма , 5, 25). Писателя и художника объединяло глубокое отвращение к показной религиозности — «притворству, фарисейству, театральности» [16, 426]. Самоирония превратила Репина в «язычника» [16, 425]. Скепсис Чехова декларировал о «потере веры» ( Письма , 5, 22; 9, 33). При этом творчество каждого из них свидетельствует о сокровенном «искании веры». Как писал Чехов к В. С. Миролюбову: «Нужно веровать в Бога, а если веры нет, <…> искать одиноко, один на один со своею совестью» ( Письма , 10, 156). Вера каждого из них зиждилась
на нравственности, «которая дала нам во время оно Иисуса Христа и которая <…> мешает красть, оскорблять, лгать» ( Письма , 4, 44). Эта вера не существовала без «добрых дел», что объясняет ту отзывчивость, с которой А. П. Чехов отнесся к вопросу И. Е. Репина «о луне» в Гефсиманском саду.
Остается неизвестным, в какой степени готовности увидел писатель картину И. Е. Репина. При взгляде А. П. Чехова на полотно все детали евангельского повествования предстали «ясно во всех подробностях» — картина произвела на него «сильное впечатление» (Письма, 5, 156). То, что могло являться только частью ночного пейзажа, приобретало глубокий смысл Богоприсутствия в сакральной реальности. И хотя ответить на вопрос, была ли луна в Гефсиманском саду, А. П. Чехов определенно не смог, но тема сильно заинтересовала его. В поисках истины писатель обратился за советом к эксперту-богослову, изучавшему древнееврейские тексты — молодому священнику Димитрию Рождественскому [9, 48–49]. Как на важный источник информации о присутствии луны в Гефсиманском саду накануне ареста Спасителя богослов указал на XII главу книги Исход. При всей значимости текста для понимания символики Тайной вечери и «пасхального агнца» ветхозаветный отрывок не давал прямого ответа на вопрос, волнующий И. Е. Репина и А. П. Чехова. Через писателя о. Димитрий прислал художнику письмо, где уточнил суть толкования, а также обратил внимание на книгу Анри Дидона (см.: [27]). Художник вполне удовлетворился календарным объяснением непременного присутствия луны во время «еврейской Пасхи». Астрономическое соответствие лунного календаря с празднованием Пасхи позволило И. Е. Репину сделать вывод, что «луна всегда бывает у них на полнолуние, следовательно, луна и даже полная луна могла светить» [18, 102]. Но, исходя из событийного замысла картины, представляющего собой момент от предательского поцелуя Иуды до ареста Христа, луна уже не могла быть явственна. Следовательно, развивая сакральный контекст картины, художник должен был изобразить ее прикровенно — отблесками лунного света. В единстве с теплотой Тихого Света от лика и фигуры Христа на картине свет луны свидетельствует о Богоприсутствии. При этом фигура Иуды Искариота выполнена очень символично. Композиционно она находится не только между Христом и приближающейся толпой, а между Светом (ученик Спасителя) и тьмой (предатель Спасителя). Такой многозначной недосказанностью светового решения И. Е. Репин, на наш взгляд, стремился передать не только евангельский момент перехода предательства от «света» ко «тьме». Для Репина как для художника не менее важно было изобразить состояние, когда Иуда, проиграв своим страстям, еще верует в Свет («Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света» Ин. 12:36), еще может покаяться. При этом Репин по-человечески далек от осуждения Иуды: «Почти каждому из нас приходится разрешать этот роковой вопрос — служить Богу или мамоне» [15, 147].
В последующие годы И. Е. Репин и А. П. Чехов сохранили «добрые отношения» ( Письма , 6, 284). Их связывало совместное попечительство о библиотеке и музее Таганрога [18, 158], ( Письма , 10, 28). Художник иллюстрировал рассказы писателя и предполагал писать его портрет [17; 134, 162–163]. Писатель дарил свои сочинения Репину. Художник по-прежнему восторгался рассказами Чехова, язык которых сравнивал с Библией [18, 141]. «Гефсиманская» тема имела интересное продолжение в творчестве каждого из них.
В 1894 году А. П. Чехов опубликовал проникновенный рассказ «Студент», в котором через евангельский рассказ Ивана Великопольского воскресла памятная миру «холодная, страшная, длинная ночь» в Гефсиманском саду ( Сочинения , 8, 301). Вероятно, образ студента духовной академии собирателен. Однако можно предположить, что одним из прототипов Ивана Великопольского был о. Димитрий Рождественский, консультировавший И. Е. Репина и А. П. Чехова по поводу луны в Гефсиманском саду. В рассказе писателя Ивану Великопольскому — 22 года, на момент обсуждения картины о. Димитрию — 28 лет. Их многое объединяет: рождение в глубокой российской провинции, происхождение (семья «сельского дьячка»), взросление в обстановке «глубокой нужды». При этом, наделенные прекрасными способностями, оба окончили духовную семинарию и обучались в духовных академиях.
Примечательно, что евангельская проповедь студента Ивана Великопольского стала важнейшей частью жизни священника Димитрия Рождественского как преподавателя гомилетики в Московской духовной академии. В свою очередь И. Е. Репин неудержимо стремился туда, где была «живая» Библия, поэтому в 1898 году он отправился в паломничество по Святой Земле. Там он увидел Гефсиманский сад воочию, «почувствовал Бога живаго» и впоследствии «не мог воздержаться от евангельских сюжетов» [18, 226]. Глубокой скорбью отозвалось в нем известие о смерти А. П. Чехова. Последующие годы были многотрудными — как в жизни страны, так и в личной биографии художника. Но, оглядываясь на путь длиною более восьмидесяти лет, Репин считал себя счастливым, ибо его, как ветхозаветного «мальчика Товию, вел по жизни ангел» [19, 269].
Картина художника «Христос в Гефсиманском саду», на наш взгляд, не стала ни проповедью, ни обличением. Это было размышление о «гениальном создании Бога — человеке» [18, 45]. История полотна приближает нас к пониманию сокровенного диалога И. Е. Репина и А. П. Чехова о вере. Окруженные множеством людей при жизни, они искали Бога одиноко, но в духовном родстве друг с другом. Было ли это проявлением «эдемской памяти»8, воспоминанием о Рае — трудно утверждать, но каждый из них «вошел» в Гефсиманский сад учеником Христа, а не Его гонителем.
Дата поступления в редакцию: 10.06.2017
Список литературы Луна Гефсиманского сада: И. Е. Репин и А. П. Чехов
- Андрущенко Л. И. Сюжеты И. Е. Репина к иллюстрированному изданию «Библии для народа» А. В. Прахова и С. И. Мамонтова//Вестник СПбГУ. -Сер. 15. -2014. -Вып. 2. -С. 72-89 . -URL: file:C:/Users/User/Downloads/syuzhety-i-e-repina-k-illyustrirovannomu-izdaniyu-biblii-dlya-naroda-a-v-prahova-i-s-i-mamontova.pdf (15.05.2017).
- Бенуа А. Н. История русской живописи в XIX веке/cост., вступ. ст. и коммент. В. М. Володарского. -М.: Республика, 1999. -448 с.
- Дунаев М. М. Своеобразие русской религиозной живописи. -М.: Филология, 1997. -223 с.
- Есаулов И. А. Русская классика: новое понимание. -СПб.: Алетейя, 2012. -448 с.
- Зорин В. А. История создания программной работы И. Е. Репина «Воскрешение дочери Иаира»//Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. -2010. -№ 1. -С. 149-156.
- И. С. Тургенев в воспоминаниях современников: в 2 т./сост. и подгот. текста С. М. Петрова и В. Г. Фридлянд; коммент. В. Г. Фридлянд. -М.: Худож. лит., 1983. -Т. 2 -557 с. . -URL: http://turgenev.lit-info.ru/turgenev/vospominaniya-o-turgeneve/v-vospominaniyah-sovremennikov-2/repin-vospominaniya-ob-turgeneve.htm (18.05.2017).
- Кочнова К. А. Ночь в языковой картине мира А. П. Чехова//Вестник Томского государственного университета. -2015. -№ 393 (апрель). -С. 28-36.
- Липке Ш. Интертекстуальность в повести А. П. Чехова «В овраге» и функции библейских текстов//Вестник Томского государственного университета. -2015. -№ 390 (январь). -С. 22-25.
- Мень А., прот. Библиологический словарь: в 3 т. -М.: Фонд им. Александра Меня, 2002. -Т. 3. -527 с.
- Москалюк М. В. Сюжет «Гефсиманского сада» в творчестве передвижников//Известия Уральского государственного университета. Серия: Гуманитарные науки. -2005. -№ 9 (35). -С. 90-96.
- Парецкая М. Э. Библейские аллюзии и реминисценции в рассказе А. П. Чехова «Скрипка Ротшильда»//Альманах современной науки и образования. -2016. -№ 12 (114). -С. 74-82.
- Последование служб в неделю Вайи и Страстную седмицу/cост. Е. С. Кустовский. -М.: Паломникь, 2002. -369 с.
- Пчелов Е. В. Илья Ефимович Репин и социалистический реализм//Труды «Русской антропологической школы». -2012. -Вып. 11. -С. 234-250.
- Ранева-Иванова М. Христианский мотив и поздний рассказ А. П. Чехова: жанр и повествование//Проблемы исторической поэтики. -Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2005. -Вып. 7: Евангельский текст в русской литературе XVIII-XX веков: цитата, реминисценция, мотив, сюжет, жанр. Вып. 4. -С. 416-427 . -URL: http://poetica.pro/journal/article.php?id=2680 (18.05.2017).
- Репин И. Е. Далекое близкое/вступ. ст. К. Чуковского. -9-е изд. -Л.: Художник РСФСР, 1986. -487 с.
- Репин И. Е. Письма, 1867-1892//Избранные письма, 1867-1930: в 2 т./сост. и авт. вступ. ст. И. А. Бродский. -М.: Искусство, 1969. -Т. 1. -455 с.
- Репин И. Е. Письма, 1893-1930//Избранные письма, 1867-1930: в 2 т./сост. и авт. вступ. ст. И. А. Бродский. -М.: Искусство, 1969. -Т. 2. -463 с.
- Репин И. Е. Письма к писателям и литературным деятелям, 1880-1929. -М.: Искусство, 1950. -267 с.
- Репин И. Е. Письма к художникам и художественным деятелям, 1869-1930. -М.: Искусство, 1952. -408 с.
- Родионова О. И. А. П. Чехов: мысли о религии и некоторых других предметах//Вестник Русской христианской гуманитарной академии. -2013. -№ 4. -С. 283-292.
- Родионова О. И. Слова апостольских деяний и посланий в письмах А. П. Чехова//Проблемы исторической поэтики. -Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2013. -Вып. 11: Евангельский текст в русской литературе XVIII-XX веков: цитата, реминисценция, мотив, сюжет, жанр. Вып. 8 -С. 268-279 . -URL: http://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1431516806.pdf (18.05.2017).
- Собенников А. С. Екклесиастические мотивы в повести А. П. Чехова «Огни»//Сибирский филологический журнал. -2016. -№ 3. -С. 89-95.
- Сызранов С. В. Богослужебный текст в повести А. П. Чехова «Дуэль»//Проблемы исторической поэтики. -Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2008. -Вып. 8: Евангельский текст в русской литературе XVIII-XX веков: цитата, реминисценция, мотив, сюжет, жанр. Вып. 5. -С. 448-460 . -URL: http://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1431427320.pdf (18.05.2017).
- Шалюгин Г. А. Чехов: «Жизнь, которой мы не знаем». -Симферополь: Таврия, 2004. -468 с.
- Jackson Dawid. The Golgotha of Ilya Repin in Context//Record of the Art Museum, Princeton University. -1991. -V. 50. -No. 1. -Pp. 3-15.
- Pruajr Zh. de. Anton Chekhov and the Bible. Literary Calendar: The Books of the Day. -2010. -No. 6 (1). -Pp. 26-29.
- Henri Didon. Jésus-Christ: en 2 tomes. Paris, Librairie Plon, E. Plon Nourrit et Cie Imprimeurs-Editeurs Publ., 1891.