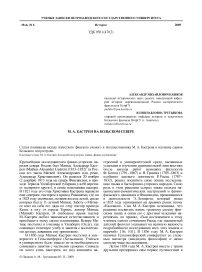М. А. Кастрен на Кольском Севере
Автор: Пашков Александр Михайлович, Третьякова Юлия Павловна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: История
Статья в выпуске: 6 (100), 2009 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена вкладу известного финского ученого и путешественника М. А. Кастрена в изучение саамов Кольского полуострова.
Кольский полуостров, саамы, финно-угроведение, м. а. кастрен
Короткий адрес: https://sciup.org/14749577
IDR: 14749577 | УДК: 930.1(470.2)
Текст научной статьи М. А. Кастрен на Кольском Севере
Крупнейшим исследователем финно-угорских народов севера России был Матиас Александр Каст-рен (Mathias Alexander Castren) (1813–1852)1 (в России его звали Матвей Александрович или, реже, Александр Христианович). Он родился 20 ноября (2 декабря) 1813 года на севере Финляндии, в приходе Тервола Улеаборгской губернии («в 60 верстах от полярного круга»), в семье помощника пастора. В 1821 году его отца Христиана Кастрена перевели еще севернее, пастором в приход Рованиеми, где он в 1825 году скончался, оставив восемь детей, среди которых был и 11-летний Матиас. Заботу о Матиасе взял на себя его дядя по отцу пастор прихода Кеми, к югу от города Торнео, доктор Матиас (Матвей) Кастрен. В свободное время пастор М. Кастрен любил заниматься естествознанием и приобщил к этому своего племянника. Вскоре Матиас поступил в училище в Улеаборге (Оулу), где совмещал отличную учебу и занятия с малолетними детьми, дававшие ему пропитание.
В 1830 году Матиас Кастрен поступил в университет в Гельсингфорсе (Хельсинки). Учиться в университете было тяжело из-за необходимости совмещать занятия с частными уроками. Сначала он хотел стать пастором, но под влиянием на- строений в университетской среде, вызванных успехами в изучении сравнительной лингвистики после выхода работ немецких филологов Ф. Боппа (1791–1867) и Я. Гримма (1785–1863) и особенно датского лингвиста Р. Раска (1787– 1832), решил посвятить свою жизнь исследованию языка и быта финно-угорских народов. Свою роль в этом решении сыграл также подъем национально-романтических настроений и фенно-фильского движения в Финляндии, проявившиеся в деятельности Э. Леннрота, который издал в 1835 году основанную на древних рунах поэму «Калевала». Сам М. А. Кастрен вспоминал, что решение посвятить жизнь «родному своему финскому языку в связи его с другими чудскими наречиями» он принял, «быв воспламенен к тому чтением одного сочинения Раска, где знаменитый датский филолог указывает на великую важность подробнейшего исследования всех этих языков и наречий» [16; 101]. В 1836 году М. А. Кастрен окончил Гельсингфорский университет со степенью магистра (кандидата философии) и начал свои научные исследования.
Летом 1838 года М. А. Кастрен вместе с тремя друзьями предпринял свое первое путешествие в
Лапландию, чтобы изучить жизнь лопарей, их язык, фольклор и мифологию в сравнении с фин-скими2. Еще в финской Лапландии он записал от крестьянина-проводника несколько преданий о том, что он ведет свой род «из богатой песнями Карелии», о лопарском богатыре Пэйвиэ и его трех сыновьях, которые отличались «многими богатырскими делами и особенно битвами с русскими карелами, которые в преданиях лопарей обычно являются под именем русских». М. А. Кастрен добавляет, что память об этих лопарских богатырях сохранилась даже среди карел, поскольку в рунах «Калевалы» упоминаются «враги народа Калева» – Пэйвиэ и Пэйвен пойка3 и делает вывод, что эти предания имеют историческую основу, поскольку «карелы прежде беспрерывно предпринимали походы в Лапландию». В описании поездки М. А. Кастрен привел несколько преданий (об отце Пэйвиэ, его борьбе с карелами и богатствах; о сыновьях Пэйвиэ: Олофе и его поединках с карельским богатырем и с великаном Сталом, метком стрелке из лука Исааке, который попал стрелой в глотку закованному в броню «русскому молодцу», и о «могучем волшебнике Эрике», который волшебством увлек отряд русских в пропасть). Рассказ о том, как отец Пэйвиэ – Издер Пэйвиэ – принял христианство, М. А. Кастрен сопоставляет с легендой из «Описания Торнеосской и Кемской Лапландии», составленной в 1672 году пастором магистром Торнеусом.
Еще одна группа преданий, записанных М. А. Кастреном, посвящена подвигам другого богатыря, которого финны называли Лаурукайнен, а лопари – Лаурукадж. В одном предании русские взяли Лаурукайнена проводником по озеру Оунасъярви (Ounasjärvi), а когда они остановились на ночлег, тот угнал все их лодки с оружием, припасами и награбленным добром. После этого он десять дней и ночей стерег русских на острове, а на десятый высадился там и убил тех, кто еще не умер от голода. В другом предании Лаурукайнен был гребцом у русских на реке Патсъеки, уговорил их связать все лодки вместе и отправил их в водопад, а сам успел выскочить на подводный камень. Еще в двух преданиях Лаурукайнен побеждал русских ловкостью или хитростью.
Любопытно замечание М. А. Кастрена о технике сбора преданий. Так, один рыбак «после приличных угощений» водкой сообщил ему «несколько любопытных рассказов», но вскоре стал путаться в них, поскольку, «к несчастью, водка же лишила их необходимой связи».
Именно таким способом была записана легенда о поединке Иоанна Пэйвиэ и волшебника Торагаса с ведьмой из Русской Лапландии по имени Кирсти Ноухтуа, которая силой своих чар загнала к себе в землю всех диких оленей. В этой и в других легендах говорилось о том, что в старину шаманы могли превращаться в животных, птиц и рыб. М. А. Кастрен отмечал, что финские лопари до сих пор верят в шаманов-оборотней в Русской Лапландии: «По крайности, наши финские лопари уверяют, что в Русской Лапландии есть шаманы, которые, подобно Пэй-виэ, Торагасу и другим, оборачиваются в оленей, медведей, волков, рыб, птиц и т. д.» [8; 229].
Спустя некоторое время путешественники добрались до первого лопарского селения Ютуа. М. А. Кастрен описал его общий вид, грязные и неопрятные жилища и их обитателей, подробно рассказал об устройстве лопарской юрты и клети для рыбных припасов, дал детальное описание лопарской одежды (повседневной и праздничной, летней и зимней). Относительно занятий лопарей было отмечено, что по всей Лапландии происходит постепенный переход от кочевого оленеводства к оседлому рыболовству.
При описании занятий лопарей М. А. Каст-рен уделил большое внимание весенне-летним поездкам на рыбную ловлю на норвежский берег, в которых иногда участвуют и местные финны. Выловленную рыбу лопари и финны обменивают у норвежских и русских торговцев на муку. М. А. Кастрен пишет, что русские торговцы были более честными, по сравнению с норвежцами, а условия обмена у них были более выгодными: «Лопари сильно бранят этих торговцев (норвежцев. – А. П., Ю. Т. ) за их бессовестные прижимки и за счастье считают, когда могут сбыть свою рыбу русским, которые во множестве съезжаются на ярмонку, бывающую в гаванях с июля до конца августа-месяца... Но немногие из финских лопарей могут пользоваться выгодами торга с русскими, потому что они из гаваней уходят домой обыкновенно около Иванова дня». Кроме подробного описания морского и озерного рыболовства, в работе М. А. Кастрена есть детальный очерк об охоте на диких оленей.
Через Соданкюля и Кемитреск М. А. Кастрен и его спутники добрались до приходов Кеми и Рованиеми. Характеризуя эти два прихода, М. А. Кастрен писал: «Еще более привлекают внимание своею нравственностью и внешним благосостоянием приходы Рованиеми и Кеми, которые в старину тоже были населены лопарями, впоследствии большую часть своего населения получили из русской Карелии или из древней Биармии4... крестьяне в Кеми и Рованиеми наследовали от отцов и дедов своих, так называемых биармийцев, большую охоту к торговым предприятиям. Они не любят проводить время в праздности и в спячке, лежа на печи, но вечно рыщут себе по торговым дорогам и нередко доходят до Стокгольма и Петербурга. Без сомнения, в этом обстоятельстве надо видеть причины редкой нравственности, которою отличаются жители этого края. Так понятны становятся и необыкновенная их смелость, сметливость, решительность, и энергия во всех их предприятиях» [8; 239].
Особое внимание во время путешествия М. А. Кастрен уделял истории и современному состоянию религиозной жизни лопарей. Он перечисляет лопарских языческих богов, описывает сейды – каменных и деревянных идолов, которым лопари поклонялись во времена язычества, и т. д.
Таким образом, в ходе поездки по Финской Лапландии в 1838 году М. А. Кастрен собрал полезные для изучения этнографии и этнической истории Карелии и Лапландии сведения: о нападениях карел на Лапландию в период средневековья, о современных торговых контактах лопарей с поморами, о средневековой миграции населения из Русской Карелии в Финскую Лапландию, об этнографии и мифологии лопарей и по многим другим вопросам. Однако представляется маловероятным предположение о том, что население Кеми и Рованиеми является потомками жителей легендарной Биармии – средневекового государства на севере Европы, упоминаемого во многих скандинавских сагах.
Зимой 1838 года Петербургская Академия наук приняла решение о проведении большой научной экспедиции в Западную Сибирь. Академику А. М. Шегрену было поручено проведение этнографических и лингвистических исследований. Поскольку по состоянию здоровья сам он ехать в Сибирь не мог (с 1834 году у него перестал видеть правый глаз), Академия наук поручила ему найти специалиста вместо себя. Летом 1838 года А. М. Шегрен специально съездил в Гельсингфорс, где в университете ему порекомендовали для этой цели М. А. Кастрена, который в это время странствовал по Лапландии. По мнению А. М. Шегрена, М. А. Кастрен был удачной кандидатурой для экспедиции в Сибирь, во-первых, потому что это совпадало с его научными интересами, а во-вторых, как уроженцу Северной Финляндии ему было бы легче приспособиться к длительным поездкам по Сибири. Осенью М. А. Кастрен в письме А. М. Шегрену из Гельсингфорса дал согласие на участие в сибирской экспедиции. На предложение сформулировать свои условия участия в экспедиции М. А. Кастрен отвечал, по выражению одного из его биографов, «с милой скромностью»: «Если я со своими, может быть, слишком недостаточными познаниями все-таки оказался бы способным к предприятию, то я, хотя и не в лучших обстоятельствах, однако ж, вовсе не имею в виду материальных выгод и почитаю неприличным сам предписывать Академии условия для путешествия. Да я же и не мог бы рассчитывать издержек подобной экспедиции, и потому прошу вас переговариваться об этом предмете с Академиею и решить дело по вашему благоусмотрению...» Однако предложенная экспедиция так и не состоялась.
В мае–сентябре 1839 года на средства Финского литературного общества М. А. Кастрен совершил новое путешествие, на этот раз в Русскую Карелию5. В это время М. А. Кастрен задумал издать «Калевалу» на шведском языке, а кроме того, он уже давно занимался изучением финской мифологии. Поэтому главной целью путешествия было собирание песен, сказок и других фольклорных материалов для объяснения
«Калевалы» и своих мифологических исследований. Сам М. А. Кастрен писал: «Калевала и другие древнейшие сборники рун доставили мне богатый материал для мифологических исследований, но я был убежден, что множество рун, песен, устных преданий, еще не записанных, содержат в себе много известий о мифологии».
Из Гельсингфорса путешественник добрался до Куопио, а оттуда через Нурмис и Соткамо он прибыл в Каяни. Уже в Финской Карелии М. А. Кастрен нашел множество новых преданий. Он писал: «Едва вступил я в область Карелии, как открылся передо мною совершенно особенный мир. Самая внешняя жизнь карелов переносит наблюдателя в прошедшее, но особенно во внутренней жизни народа, в его образе мыслей сохраняется эта старина. Она обнаруживается и в привязанности народа к песням, преданиям, сказкам. Я обратил внимание на предания, из которых преимущественно одно доказывает, что лопари, остяки и другие сродные племена, подобно древним финнам, поклонялись известным деревьям... Большинство преданий, собранных мною в Финской Карелии, имеет мифический характер. Но мне удалось, впрочем, отыскать и предания с историческим содержанием. По большей части гласят они о старожилах края, о лопарях, и имеют большое сходство со слышанными мною от лопарей. Рассказы о Лаурукайнене, у карелов называемом Ларикка, по крайней мере в Либелице, пользуются общею известностью. Множество подвигов, относимых лопарями к роду Пяйвиэ, передается здесь о том же Ларикке. Как лопари, так и карелы говорят, что все его подвиги совершены им в борьбе с русскими».
Затем странствия привели М. А. Кастрена в Русскую Карелию. Он прибыл в признанный центр бытования карельского фольклора – деревню Вуоккиниеми6 (русское название – Вокнаво-лок), где собрал «весьма много рун и сказок». В одной из деревень Вокнаволоцкой волости Акон-лахти (русское название – Баб-губа) «редкий мужик не пропел ему песни или не рассказал сказки». О собранных там преданиях М. А. Кастрен сообщал: «Большая часть преданий вертится вокруг лопарей. Так, между прочим, рассказывали мне, что в старину стародавнюю, когда в Москве еще не было царей, а правили князья, поселились в Аконланхи два знаменитых лопарских шамана. Они спасли жизнь одному князю, совсем умиравшему, и в награду за исцеление один из них в Сулманлахти получил исключительное право ловли лососей, а другой, в Серккиниеми, – право бить лисиц. Предание прибавляет, что порубежные финны убили лопарей и присвоили себе их владения, что лопари уступили бы им добровольно. Вообще в этой стране господствует убеждение, что лопари были ее первыми старожилами, но что потом, мало-помалу, были искоренены финнами во время так называемых warastussodat, peittosodat (воровских, тайных войнах)... Минуя множество других преданий о лопарях, я упомяну только об одном, слышанном мною в приходе Вуоккиниеми, именно об одном князе лопарском, жившем некогда в окрестностях города Кеми. Полагают даже, что поныне уцелели остатки его местопребывания».
Помимо сбора преданий М. А. Кастрен осматривал так называемые лопарские курганы (Lapinrauniot). Но он высказал сомнение в их лопарском происхождении, поскольку так назывались любые груды камней «всякого рода», то есть и естественного, и искусственного происхождения. По мнению М. А. Кастрена, так могли называть и «старинные печи и очаги, принадлежавшие некогда рыбацким и охотничьим избам финнов или жилищам их (piilopirtit), наскоро выстроенным в темных лесах для укрывательства в военную пору». Но памятники другого типа он был склонен признать лопарскими: «В окрестностях Каяны и в Русской Карелии я имел случай видеть другого рода древности, так называемые лопарские курганы, могилы (Lapin-haudat), которые уже, несомненно, лопарского происхождения. Они, по преданию, служили жилищами для лопарей и, в самом деле, они весьма похожи на некоторые палатки, виденные мною в безлесных краях Лапландии. Эти не что иное, как ямы с конусообразными крышами из дерева, камня и торфа. По рассказам, такие крыши были некогда и на так называемых лопарских курганах, находящихся в Северной Финляндии и Карелии. В этих курганах находили уголь, обожженные камни, разные железные вещи и проч., что подтверждает рассказы о том, что они некогда служили жилищами. В северных краях Финляндии и России есть другого рода лопарские могилы, не имевшие такого значения, но служившие лопарям для ловли оленей».
Третьим источником сведений об этнической истории края стали для М. А. Кастрена данные топонимики. М. А. Кастрен писал: «В краях русских я не слыхал весьма распространенных по Финляндии преданий об Jatulin Kansa или Jatti-laiset и Hiidet, но имена местные, производные от Hiisi (в множественном числе Hiidet), здесь весьма обыкновенны, так, например, Hiisiwaara, Hiiden hauta и т. д. Кстати, замечу, что множество местностей в Русской Карелии носят имена, заимствованные от тавастцев7, например, деревня Häme, Hämehen niemi, Hämeen saari8 при озере Куйтти-ерви9 и т. д. Последнее обстоятельство наводит на догадку, что поселенцы из Таваста перешли в русскую Карелию, тем более, что в деревне Лятваерви крестьяне сами выдают себя за колонистов тавастских, за шесть поколений тому назад перешедших в Россию. По другим деревням того же округа я встречал немало семейств, ведших свой род из разных краев Финляндии и поныне сознающих свои родственные отношения. Главное же население края не происходит ни от лопарей, ни от финнов, но остаток древних биармийцев или заволоческой чуди русских летописей».
Наряду с историческими преданиями М. А. Кастрен собирал в Русской Карелии мифологические предания, в чем мало преуспел, а также сказки. Он отметил, что в карельских сказках есть много заимствований из сказок других народов и больше всего – из русских сказок. По этому поводу он писал: «По моему убеждению, большая часть сказок, известных в Карелии, – простой перевод русских сказок, потому что предметом их <являются> цари, царские сыновья и дочери, бояре и богатыри и т. д. Одни напоминают “Тысячу и одну ночь”, другие с характером германским. Замечу как особенность, что в Русской Карелии я слышал сказку, напоминавшую Одиссея в пещере Полифема... По всей видимости, как эта, так и другие сказки, занесены к карелам русскими монахами. Но большая часть их, однако, состоит из русских и скандинавских сказок. Впрочем, нельзя не оговорить, что у русских карелов есть много и своих собственных сказок. Главным предметом их <стало> одно мифическое лицо, одна старуха под именем Syöjätär-akka (старуха-обжора). Но и они переполнены русских подробностей. Они так сходны между собою, что кажутся разными вариациями на одну и ту же тему».
В середине 1850-х годов начинающий этнограф В. И. Ламанский изучал научное наследие М. А. Кастрена. Замечание финского ученого о русских заимствованиях в карельских сказках привело В. И. Ламанского к мысли о роли финноугроведения в изучении русского народа: «...этнографическое изучение финской народности, важное само по себе, независимо ни от каких других обстоятельств, принесло бы, кроме того огромную пользу нам, русским, для наших собственных этнографических занятий». В. И. Ламан-ский попытался прокомментировать и наблюдение М. А. Кастрена о сходстве одной из карельских сказок с эпизодом из гомеровской «Одиссеи». Относительно заимствования этого сюжета у русских монахов он предположил, что это можно допустить «как исключение», и писал: «Так как у карелов письменности в старину никакой не было, то объясняют влиянием образованных людей, знакомых с Гомером, которые и рассказали карелам, быть может, всю “Одиссею”, а может, только один этот эпизод как самый интересный, а может, и сами-то они знали из всего Гомера только этот эпизод»?
Из Вокнаволока М. А. Кастрен прибыл в село Ухтува (вероятно, имеется в виду село Uhtua, русское название – Ухта, современный поселок Калевала). Там он провел 11 дней, собирая руны. И там же ему удалось найти несколько новых исторических преданий «все по большей части насчет так называемых воровских войн». Одно из них, о набеге финнов на деревню Алаярви, напоминает швейцарскую легенду о Вильгельме Телле: «Ограбив деревню, потащили они (финны. – А. П., Ю. Т.) за собою насильно одного давно гонимого ими и ненавистного им старика. В то время как они тащили его по берегу озера, по другому берегу бежал его младший, 12-летний сын и грозился злодеям застрелить их, если не выпустят отца. Но на угрозы мальчика они не глядели и еще пуще мучили старика. Но когда неустрашимый ребенок еще сильнее стал грозиться, то враги обещали освободить его отца под тем только условием, если с противоположного берега попадет в яблоко (omena), положенное ими на голову отца. Мальчик решился на смелый опыт, а отец дал ему следующий совет: “Käsi ylennä, toinen alenna, järven wesi wetää”, т. е. “Подыми одну руку, опусти другую, вода озера тянет стрелу к себе”. Против всякого ожидания злодеев стрела прямо угодила в яблоко, оно раскололось – и отец был освобожден».
Судя по содержанию, в преданиях о нападениях финнов было много штампов: финны грабили и опустошали Русскую Карелию «вдоль и поперек», жители зарывали ценности в землю, семена отдавали на корм скоту или разбрасывали по снегу и т. д. Однако отдельные предания сообщали о конкретных людях и фактах, бытовых, а иногда и анекдотических подробностях. Так, М. А. Кастрен записал следующую легенду: «В один из набегов неприятель застал врасплох одного карела, Ляго-нен Титта, когда тот спал богатырским сном. Наконец, пробужденный шумом, Лягонен вскочил с постели, схватил лук, стрелы и портки под мышку и кинулся бежать. Враг за ним. Как ловкий бегун он бы давно избавился от злодеев, но сильный мороз заставил его остановиться, чтобы надеть портки. Тут как раз настигли они его. Тогда он недолго думал, взял лук, стрелы, нацелился на них и закричал: “Katscho, mie ammun” (“Берегись, застрелю”). Враги так струсили, что он, пользуясь их смущением, кончил свой наряд и успел убежать в темный лес».
Еще один сюжет о гибели врагов в пучине водопада также можно признать заимствованным: «Разбойники между тем продолжали свое опустошение и пришли, наконец, к одному озеру под именем Туоннаерви. Отсюда решили они отправиться к Пяэярви (русское название Пяозе-ро. – А. П ., Ю. Т. ), но, не зная дороги, наняли себе в проводники мужика из деревни Кисеки. На пути им встретился сильный водопад. Приближаясь к нему, проводник направил лодку к берегу, сам выскочил, а ее пустил в водоворот. Тут они и погибли».
Кроме рассказов о «воровских набегах» финнов на Русскую Карелию, М. А. Кастрен услышал в Ухте несколько преданий о некоем исполинском народе под названием Naikkolaiset или Naikon kansa10. Ученый передал их так: «О происхождении этого народа есть предание, что леший (metsänhpaa) похитил одну женщину (христианку), родившую от него мальчика и девочку, которые впоследствии произвели на свет это богомерзкое поколение, названное Naikkolaiset. Чуждаясь всякого сообщества с христианами, народ этот поселился на горе Хапаваре и там образовал совершенно заключенное в себе самом общество. Число людей, принадлежавших к этому поколению, сводилось до 17 мужчин, способных носить оружие. Все они погибли до последнего человека в воровскую войну. Об этом народе я ни прежде, ни после не слыхал никакого предания».
Из Ухты путешественник отправился в Туоп-паярви (русское название – Топозеро), а оттуда через Пяэярви в Куусамо. Там он нашел много преданий о лопарях. Одно из них рассказывало о борьбе лопарей с неким соседним народом: «Про них, между прочим, говорили, что они (лопари. – А. П., Ю. Т. ) были в постоянной вражде с одним народом под названием Kiwekkäät. Быть может, это искаженное слово вместо Kiwikäet (единственное число – Kiwikäsi, каменная рука) и намекает на то, что народ этот употреблял камни как орудие метательное. Подтверждением этой догадки служит то обстоятельство, что на этом месте, где, по рассказам, происходила битва лопарей с народом Кивиккиэм, найден был камень, весьма похожий на пращу».
Еще одна легенда привлекла внимание М. А. Кастрена, поскольку в ней хорошо отражались юридические представления лопарей: «Один лопарь в Куусамо тайно умертвил свою жену. Но это злодеяние вскоре было открыто его десятилетним сыном. Мальчик открыл тайну родным своей покойной матери. Они созывают старшин деревни на следствие. Судьи, по обычаю, собрались в доме обвиненного и устроили так называемую судную избу (kota-käräjat). Уличенный был приговорен к виселице, и судьи же привели свой приговор в действие. Еще доселе указывают на место казни, и местные жители рассказывают, что не очень давно разрыли его скелет, какой-то заржавленный котел, нож и топор».
Можно отметить, что во время этой поездки по Русской Карелии М. А. Кастрен, помимо сбора сведений о мифологии лопарей и карел, проявлял большой интерес к этнической истории края. Причем для ее изучения он использовал краеведческие методы (сбор исторических преданий, сбор и анализ данных топонимики и этнонимики и осмотр остатков и развалин курганов, жилищ и других материальных памятников). Собранные данные позволяют сделать вывод о сложной истории отношений между финнами, лопарями, карелами и русскими в Северной Финляндии и Архангельской Карелии, о занятиях северных карел, их богатом фольклоре и исторических представлениях.
Из Куусамо М. А. Кастрен вернулся в Улеа-борг, а оттуда – в Гельсингфорс. По возвращении, в конце 1839 года, он издал и защитил диссертацию о склонении имен в финском, эстонском и саамском языках «De affinitate declinationum in lingua Fennica, Estonica et Lapponica» («О сродстве склонений в языках финском, эстонском и лопарском»). После этого, в начале 1840 года, его избрали доцентом финского языка и языков древних северных племен университета Гельсингфорса. О своих путешествиях по Лапландии М. А. Кастрен напечатал много небольших заметок в финских газетах и большой очерк в «Аль- манахе», изданном профессором Я. К. Гротом к юбилею Гельсингфорского университета [5; 189–211]. В 1841 году вышел подготовленный им «по содержанию верный и по поэтической форме удачный» перевод «Калевалы» на шведский язык. Это был первый полный перевод «Калевалы». За него М. А. Кастрен получил от Финского литературного общества 500 рублей ассигнациями. Весной 1841 года М. А. Кастрен в качестве доцента читал студентам лекции по «Калевале».
В это время группа молодых ученых стала издавать в Гельсингфорсе журнал «Suomi», в котором М. А. Кастрен опубликовал две небольшие, но ценные в научном отношении заметки: «О значении слова Lapp» [19; Osa 2, 3–7] и «Замечания о некоторых звуках в финском языке» [19; Osa 2, 7–16].
В 1841 году на средства Финского литературного общества М. А. Кастрен вместе с Э. Леннро-том начал новое путешествие в Лапландию, чтобы изучить ее русскую часть11 – север Архангельской губернии вплоть до мест обитания самоедов12. Одной из целей поездки М. А. Кастрена по Кольскому полуострову было выяснение древней этнической истории этой территории на основе исторических преданий и данных топонимики, а также трудов своего предшественника А. М. Шегрена. По поводу своего приезда в деревню Мансельке, или Маасесид, ученый писал: «Название это, очевидно, финское, так же, как по западным и восточным берегам Белого моря есть множество местных названий финского происхождения. Это, казалось, могло бы подтвердить предположение Шегрена о первоначальных поселениях карел по всему уезду Кольскому до Северного океана включительно. Предположение свое Шегрен основывает не столько на местных названиях, сколько на том влиянии, которое имел финский язык на русско-лопарский, и на древнее предание о Валите или Варенте, славном владетеле в Кореле или Кекс-гольме, вассале новгородском, который “завоевал Лапландию или Мурманскую землю” и заставил лопарей платить дань Новгороду13. Какую бы цену ни придавать этому преданию... все же оно мало говорит в пользу колонизации Русской Лапландии карелами» [8; 282–283].
М. А. Кастрен упоминает предание о Валите со ссылкой на работы А. М. Шегрена, хотя впервые она была опубликована в «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина. В IX томе этого сочинения, опубликованного в марте 1824 года, Н. М. Карамзин привел легенду о Валите, средневековом правителе Корелы и даннике Великого Новгорода, «муже необычной храбрости и силы», который совершил поход на Кольский полуостров, разбил там объединенное войско лопарей и норвежцев, обложил данью лопарей и в знак своей победы поставил на месте Варенгского летнего погоста памятный знак «Валитов камень» – огромный камень, окруженный оградой. Эта легенда была записана «от лапландских старожилов» в 1592 году князьями Звенигородским и Васильчиковым. В ней также упоминались Валитова губа
(залив), Валитово городище и другие памятники [3; 14]. Впрочем, М. А. Кастрен считал, что в предании о Валите отражены события одного из многих грабительских походов карел в Лапландию, который не имел таких целей, как обложение лопарей данью и разграничение владений с Норвегией.
В колонизации Лапландии М. А. Кастрен отмечал несколько потоков. О проникновении туда финнов он писал: «...как то можно заключить частью из финских и лопарских преданий, частью из исторических сведений, а также и из современных отношений, мирным путем переселялись финны в Лапландию отдельными семьями, гонимые то неурядицею, то неурожаями. Когда же при выборе жилищ посягали они на старинные права лопаря, на его лес, его ловища, то дело обыкновенно доходило до схваток, почему даже и многие местности в Северной Финляндии носят, по преданиям и подобные прозвища: Riitasaari (боевой, спорный остров), Torajärvi (спорное озеро) и т. д. Когда же завладение не противоречило правам первоначальных жителей, то финны поселялись тогда беспрепятственно...» По мнению М. А. Кастрена, лишь немногие представители финно-угорских народов селились в Лапландии, а поселившись, часто подвергались лопарской ассимиляции. Выводы М. А. Кастрена противоречили ранее высказанному мнению А. М. Шегрена о том, что карелы вытеснили лопарей из всей восточной и южной части Кольского уезда, овладели их землею и потом подвинулись даже далее к северу. Также он считал неверным и другое предположение М. А. Шегрена о том, что еще позднее эти карелы были отодвинуты на юг русскими, которые заселили южную часть Кемской Лапландии. Полемика М. А. Кастрена со своим наставником А. М. Шегреном, с которым он находился в постоянной переписке даже во время путешествий, свидетельствует, что оба ученых придерживались высоких принципов служения науке, и для них критика собственных научных взглядов в свете новых материалов была делом естественным и обычным. Кроме того, эта полемика свидетельствовала о том, что в ходе трех экспедиций в Лапландию М. А. Кастрен собрал множество материалов и по своим познаниям в области этнической истории финно-угорских народов не только не уступал, но и превосходил своего наставника.
Кроме критики взглядов А. М. Шегрена М. А. Кастрен изложил свои представления об этнической истории Лапландии. Он писал: «...население по рекам Кеми и Торнео состоит из смеси саволаксов14, карелов и лопарей. Саволакская стихия преобладает более на севере... Эту колонизацию можно отчасти объяснить семейными предприятиями, доказывающими, что предки их переселились сюда в различные времена, из различных краев и от разных причин, чаще от беспорядков и неурожаев. Карельская отрасль господствует в Рованиеми, Кеми и в нижнем Торнео. Время переселения их неизвестно, но мне кажется вероятным, что эти поселенцы появились здесь мало-помалу из нынешнего Кемского округа, сперва утвердились в Рованиеми, оттуда уже перешли в Терволу, Кемь и нижнее Торнео. Таков с незапамятных времен обыкновенный торговый путь карелов, быть может, возобновленный путь их прежних переселений и набегов. По крайности, замечательно то, что поселения карелов прекращаются при Рованиеми. В благоприятной по многим отношениям местности, в Кемитреске, едва можно отыскать следы их, тогда как она бы служила непременным их убежищем в том случае, если бы они были вытеснены из Русской Лапландии в Финляндию. Родство жителей Кеми, Торнео и Рованиеми с русскими карелами доказывается многими обстоятельствами...» Для доказательства карельских корней у многих жителей Финской Лапландии М. А. Кастрен использовал данные языка, а также сходство их старинной одежды и предметов обихода с одеждой и такими же предметами у русских карел. По этому вопросу в записях М. А. Кастрена имеется любопытное наблюдение: «Старинный наряд тех и других (жителей Финской Лапландии и русских карел. – А. П., Ю. Т.) так схож с русским, что несколько лет тому назад я... принял одного крестьянина из моей родины Терволы за русского карела. То же сходство обнаруживается и в различных орудиях и домашних вещах, например, в санях, лодках, косах, ларях и т. д.». Наблюдения М. А. Кастрена доказывают, что в эпоху Средневековья карелы освоили большую территорию на северном побережье Ботнического залива.
Выяснив западные границы расселения карел в Лапландии, М. А. Кастрен попытался проследить распространение карел на Кольский полуостров: «...нельзя в то же время не заметить в южной части Кольского уезда смешения лопарей с карелами. Оно обнаруживается не только в языке, но и в телосложении, и в чертах лица, в нравах и обычаях. Так, в Мансельке лопари очень высокого роста, не с тонким писклявым дискантом, как обыкновенно у лопарей, но с густым басом, живут отчасти в курных, отчасти в карельских избах и столетия остаются на одном и том же месте, что не в обычае лопарей. Речь их переполнена карельскими словами и поговорками».
Затем М. А. Кастрен и Э. Леннрот добрались из Финской Лапландии через норвежский Лапмарк до Русской Колы. Описание поездки по Русской Лапландии М. А. Кастрен тоже опубликовал позднее в журнале «Suomi» [19; 1842, Osa 4, 3–35]15. Из Колы путешественники перебрались через Кандалакшу в Кемь. По дороге М. А. Кастрен на основе личных наблюдений изучал этнический состав современного населения и на основе данных топонимики и фольклора этническую историю Поморья. Он писал: «Дорога от Кандалакши до Кеми, около 262 верст, идет отчасти по берегам, отчасти внутри страны. Берег населен русскими, деревни же, лежащие на несколько верст в сторону, населены карелами. Много карел и в русских деревнях, но все они переселились сюда уже в недавнее время. Но все-таки множество местных названий и весьма распространенных между жителями преданий доказывает, что русские деревни, по крайности, многие из них, прежде населены были карелами. Предание различает финнов, у русских известных под именем шведов, карелов, кареляков и чухон. На юго-западном берегу Белого моря есть только предания о карелах. На южном и западном берегах древними жителями страны, должно быть, была и чудь16, которую предание обыкновенно соединяет с инграми и эстами».
Обосновав присутствие в древности на побережье Белого моря финно-угорского населения, М. А. Кастрен попытался ответить на вопрос: «Куда же девались древнейшие жители этого прибрежья»? Он высказал такое предположение: «Невероятно, чтобы они (финно-угры. – А. П., Ю. Т. ) были оттеснены русскими в Лапландию и оттуда в Финляндию. По всей вероятности, а также по кое-каким уцелевшим преданиям и по слабости русского населения в северной части Архангельской губернии, заключить можно, что русские приходили сюда не вооруженною силою, не большими толпами. Нет, их просто привлекала сюда нужда, надежда на удобство жизни и дух предприимчивости, или, может быть, совершенно внешние, случайные причины побудили несколько семейств искать здесь себе жилищ. Не было почти и места праву сильного, по крайности, в те времена, когда единство веры и правления связывало в один союз и старожилов края, и новых поселенцев. С течением же времени произошло столкновение различных между собою народностей по языку, нравам и обычаям. Оно кончилось исчезновением финской народности по берегам Белого моря... Что русские поселились в нем мирно, приняли в себя народность финскую, а не искореняли ее, то доказывается и нечистотою русского языка архангелогородцев, наполненного феницизмом и финским обличием, беспрерывно попадающим под русскою шляпою». Таким образом, М. А. Кастрен предположил, что поморы являются потомками русских, пришедших из Центральной России, и местного финно-угорского населения.
Из Кеми М. А. Кастрен и Э. Леннрот через Соловецкий монастырь отправились в Архангельск. В Соловецком монастыре М. А. Кастрен скопировал часть Соловецкого летописца, отрывки из которого тоже опубликовал в журнале «Suomi» [19; 1843, Osa 4, 191–212]. В Архангельск путешественники прибыли в конце мая 1842 года. К тому времени М. А. Кастрен чувствовал себя очень плохо, так как простудился в пути, а денег у него было только 10 норвежских талеров. Из Архангельска Э. Леннрот должен был вернуться в Финляндию, где его ожидали его врачебные обязанности, а также из-за нехватки денег. М. А. Кастрен решил остаться, чтобы изучить самоедский язык.
В марте 1845 года, едва оправившись от мучавшего его туберкулеза (чахотки), М. А. Кастрен отправился в далекое путешествие в Сибирь для изучения самоедов и их соседей. М. А. Кастрен стал первым исследователем языка многих сибир- ских народов. В июле 1848 года из-за серьезного ухудшения здоровья он отправился в обратный путь и 13 (25) января 1849 года вернулся в Петербург. Несмотря на то что болезнь не покидала М. А. Кастрена, почувствовав себя немного лучше, он подготовил общий отчет об экспедиции для Академии наук и несколько работ о языках сибирских народов. В январе 1849 года М. А. Кастрен был принят на службу адъюнктом Академии наук на три года с «дозволением» жить в Гельсингфорсе, куда он вскоре и уехал. Известность М. А. Ка-стрена быстро росла. В день рождения Х. Г. Пор-тана, 28 октября (9 ноября) 1849 года, М. А. Каст-рен выступил перед «образованною публикою Гельсингфорса» с докладом «Где была колыбель финского народа?», затем напечатанным. В этом докладе М. А. Кастрен доказывал, что прародиной финских и самодийских народов являются горы Алтая. На заседании 3-го отделения Санкт-Петербургской Академии наук 25 января 1850 года от имени М. А. Кастрена была представлена статья о подготовленном Э. Леннротом новом издании «Калевалы» под названием «Euber die neueste Redaction der Kalewala-Runen», опубликованная в «Бюллетене» Академии наук [Bd. 7. S. 305–314].
Когда в Гельсингфорском университете открылась кафедра финского языка, М. А. Кастрен, с согласия Академии наук, получил там 2 (14) марта 1851 года должность профессора и с апреля стал читать лекции в университете. Один из его курсов был посвящен финской мифологии. М. А. Кастрен писал об этом А. М. Шегрену: «...я преподаю раз в неделю мифологию, сличая при том религиозные понятия и представления финнов с такими же понятиями и представлениями других родственных племен. Что читано мною до сих пор, то уже почти готово к печати. Некоторые статьи намерен я перевести для вашего “Бюллетеня”. В течение этого семестра я окончу отдел о божествах, а будущею весною думаю разделаться со всею мифологиею».
Летом и осенью 1851 года состояние здоровья М. А. Кастрена снова ухудшилось . В начале января 1852 года он слег в постель и не смог поехать в Петербург, чтобы отчитаться за три года работы в должности адъюнкта. В качестве отчета ученый отправил три своих больших, подготовленных к печати работы, в том числе «Историческое описание» своего путешествия на 75 листах. В марте 1852 года он прислал А. М. Шегрену свою новую статью «Что значат слова Юмала и Укко в финской мифологии?», опубликованную в «Suomi» [19; 1851, 117–162]. А. М. Шегрен опубликовал ее на немецком языке в «Бюллетене» Академии наук [Bd. 10. S. 30–62]. Это была последняя статья М. А. Кастрена, законченная им лично. Ученый скончался от туберкулеза 25 апреля (7 мая) 1852 года, прожив 38 лет, 5 месяцев и 5 дней, и был торжественно захоронен в Гельсингфорсе.
Полное собрание сочинений М. А. Кастрена в шести томах вышло после его смерти, в 1852 году [17]. Именно это издание легло в основу много- численных публикаций работ ученого, вышедших в России и Финляндии, например [14], [8]. Важнейшей работой М. А. Кастрена, касающейся этнографии российских лопарей, является «Resa till Lappland, Norra Ryssland och Sibirien еren 1841– 1844», опубликованная в 5-м томе [17]. Отрывки из нее были перепечатаны на русском языке в 1846 году в газете «Архангельские губернские ведомости» (№ 31), в «Вестнике Императорского Русского географического общества» [8; 292–320] и в других изданиях, но информация о лопарях в них носила обобщенный характер, без деления лопарей на финских и российских. В посмертном шеститомном собрании сочинений М. А. Кастрена кроме работы «Путешествие в Лапландию, Северную Россию и Сибирь в 1841–1844 гг.» помещены небольшие статьи: «О значении слова “Lapp”» и «О влиянии акцента на лопарский язык». По решению Санкт-Петербургской Академии наук, адъюнкт (с 1854 года – академик) А. А. Шифнер опубликовал богатое научное наследие М. А. Кастрена в 12-томном сборнике «Северные путешествия и исследования» [18]. Частично эти материалы были опубликованы и на русском языке [14].
По результатам своих исследований М. А. Ка-стрен выдвинул предположение, что диалекты саамского языка не настолько отличаются друг от друга, как считалось раньше: «Наречие русских лопарей в грамматическом отношении не представляет существенного отличия: оно приближается то к языку горных лопарей, то к наречию энарскому или же представляет переход от одного к другому. Свойственная ему особенность состоит в оттенках форм, применительно в усеченном окончании: конечные гласные заменяются в нем русскими окончаниями на Ъ или Ь. Многоразличные изменения гласных, столь обильных в энар-ском диалекте, здесь не встречаются. Русские лопари насчитывают у себя три главных наречия: первое – в Ненсинга, Муотке, Пастъоки, Синьеле, Пусто-озере, Йок-острове, Бабье; второе – в Се-миостровье, Ловозере, Воронеске, Кильдине, Мансельке; третье – на Терском полуострове, между Святым носом и Поноем. Различия состоят преимущественно в большем или меньшем количестве иноземных слов и оборотов, финских, русских или норвежских, смотря по тому, с какими из этих народов лопари имеют наибольшее соприкосновение» [6]. Таким образом, М. А. Кастрен солидарен с Э. Леннротом в делении языка русских саамов на три основные группы, но в определении особенностей грамматики и произношения он продвигается вперед, делая собственные выводы относительно сходства и различия русского диалекта лопарского языка с соседними. Влияние соседних народов на модификации диалектов принимается М. А. Кастреном однозначно, хотя основа (грамматика языка), по его мнению, является общей для всех саамов.
Большой вклад М. А. Кастрен внес в изучение этнографических особенностей саамов Русского Севера и фактически заложил основы региональ- ной этнографии. Он обратил пристальное внимание на расшифровку такого понятия, как «нрав». Характеристика саамского нрава, характера, представленная ученым, является одной из наиболее точных и глубоких не только к середине XIX века, но и, возможно, за весь период изучения саамов Кольского полуострова: «Лопарь вообще тихий, мирный, уступчивый; “мир” – его счастие, его блаженство. Предание говорит, что в лопарской земле, хотя снаружи все грязно, зато в недрах ее скрывается чистое золото; это золото – мир, обожаемый лопарями. Они переносят все лишения, чтобы, хотя короткое время, наслаждаться миром. Это первое слово их приветствия и конечная цель их бытия. Мирно прожить – больше лопарь ничего не желает...» [17; Vol. 5, 139]. В то же самое время М. А. Кастрен, как и Э. Леннрот, отмечает весьма сильное влияние русских на характер и поведение лопарей. Говоря о «мире», обожаемом лопарями, М. А. Кастрен дистиллирует их образ, предлагает взгляд на «истинного», не поддавшегося внешним агрессивным воздействиям, представителя этого народа. Это описание более походит на отрывок из энциклопедии, учебника о том, каковы лопари «в идеале», не затронутые нашествием соседних, более активных народов. Но таких лопарей к середине XIX века практически не оставалось. Возможно, процесс ассимиляции финских лопарей финнами проходил более плавно и размеренно, поскольку эти народы являются все-таки представителями одной языковой группы и имеют во многом схожие традиции, культуру, язык. Но воздействие русских на лопарей оказалось весьма агрессивным, что ученые не преминули показать. И не столько в вопросе языка, который является главнейшей темой исследований, сколько в вопросе быта, хозяйства, характера. Об этом М. А. Кастрен писал: «На Мурманском берегу заметно уже весьма изменение народного характера лопарей и влияние российское: там уже вы встретите лопарей иногда шумных, иногда веселых, расчетливых не по-лопарски. В кругу поморцев вы всегда отличите лопаря (не говоря о наружности) по его молчаливости, но среди других лопарей мурманский лопарь покажется вам настоящим русским» [17; Vol. 5, 139]. Хозяйственная жизнь лопарей также вызывает размышление М. А. Кастрена. Он приводит свои предположения относительно того, почему среди русских лопарей оленеводство развито не настолько хорошо, как среди западных. В первую очередь, по мнению ученого, сама природа на Кольском полуострове более призывает к занятиям рыболовством, нежели разведению оленей, благодаря рыбным богатствам Белого моря и Мурманского побережья, а также двум большим озерам (Имандре и Нотозеру) и бессчетному количеству малых. «Почему бы русским лопарям, – пишет М. А. Кастрен, – не использовать эти источники для пропитания и не поменять дикую горную жизнь на более легкую жизнь рыбака?» [17; Vol. 5, 130]. Вторая причина, по мнению исследователя, заключалась в воздействии православной церкви, которая практически полгода запрещает есть мясо, главный продукт оленеводства, что также привело к необходимости перейти на более выгодный способ добывания пищи.
Среди особенностей саамской жизни, не подвергшихся значительным изменениям, М. А. Каст-рен выделяет жилище и одежду: подобно остальным, русские лопари по-прежнему жили в вежах в зимнее время года и носили костюмы, сшитые из оленьих шкур, хотя и в этих вопросах проявляются некоторые заимствования из русской традиции: переход к строительству изб, особенно на территориях, близких к границам русских и карельских поселений, и использование элементов национального русского костюма в одежде лопарей [17; Vol. 5, 132–133].
Материал, собранный во время экспедиции по Лапландии, представляет собой огромную лингвистическую и этнографическую ценность. Особенность подхода ученого заключается в многофакторном изучении современного ему состояния лопарей, комплексного анализа существующего положения их экономики, выделении очевидных и скрытых причин неразвитости оленеводства и, наоборот, успехов в рыболовстве. Значительное внимание М. А. Кастрен уделяет воздействию русского населения на различные аспекты жизнедеятельности лопарей, причем не только негативного (изменение характера, пристрастие к алкоголю и пр.), но и относительно позитивного, например, заметный переход к более оседлому способу существования, строительство изб, даже обманы и лукавство в торговле как адекватная реакция на известное жульничество русских при совершении сделок. Работы М. А. Кастрена явились не только продолжением «финского направления» в изучении русских лопарей, но и закономерным этапом развития этнографического направления в науке, когда происходит логичный переход от сбора полевого материала и его первичной систематизации к комплексному анализу особенностей этноса и взаимосвязей, существующих между ним и окружающей средой, а также влияния этих взаимосвязей на изменения, происходящие в жизни этноса.
Большой интерес представляет работа М. А. Кастрена «О значении слова “Lapp”» [17; Vol. 5]. Фактически М. А. Кастрен был первым профессиональным филологом, рассматривавшим этот вопрос и предложившим свою интерпретацию слова «lapp». Эта проблема привлекала внимание многих авторов, писавших о лопарях, и вызывала множество предположений относительно его значения. В разное время высказывались следующие предположения о значении слова «lapp»: 1. lappe – lappet (саам.) – loappet (фин.) – прогонять, изгонять (И. Шеффер), отсюда lapp означает «изгнанный».
-
2 . loap – loaap (саам.) – loppu (фин.) – край, конец (Леем).
М. А. Кастрен считал, что слово «lapp» не могло произойти от lappet грамматически и вряд ли сами лопари могли дать себе наименование
«изгнанные», а другие народы вряд ли могли заимствовать это наименование из саамского языка. Более вероятным ему казалось предположение о заимствовании финского слова loppu, означающего “край”, “конец”. Но, замечает исследователь, в финском языке [о] не меняется на [а], поэтому превращение loppu в lappi невозможно. Весьма часто встречается изменение сочетания [oa] на [aa], поэтому вероятно, что произошло превращение loappet в lappi. М. А. Кастрен утверждал, что филологических противоречий в этой гипотезе нет, даже наоборот, она подтверждается тем, что сами лопари не желают называть себя этим именем [17; Vol. 5, 3–7]. Таким образом, М. А. Кастрен предположил, что lapp произошло от loappet и означает «край, конец». Его лингвистические находки заложили основу для последующих достижений в изучении саамского языка, предпринятых в XIX–ХХ веках.
Благодаря деятельности М. А. Кастрена был достигнут большой прогресс в изучении финноугорских народов. Он собрал и систематизировал огромное количество информации о расселении, истории, языке, фольклоре и культуре финно-угорских народов Европейской России и Сибири. Благодаря его усилиям финноугроведение окончательно стало самостоятельной научной дисциплиной.
Список литературы М. А. Кастрен на Кольском Севере
- Булатов В.Н.Русский Север. М., 2006. 576 с.
- Загребин А.Е. Финно-угорские исследования в России (XVIII -первая половина XIX века). Ижевск, 2006. 324 с.
- Карамзин Н.М. История государства Российского. Кн. 3. Т. 11. СПб., 1843. С. 26-27; Примечания к Т. 11. С. 14 (репринт: М., 1989).
- Кастрен и Леннрот в Русской Лапландии//Современник. 1843. Т. 29. № 2. С. 145-160.
- Кастрен М.А. Несколько дней в Лапландии//Альманах в память двухсотлетнего юбилея императорского Александровского университета. Гельсингфорс, 1842. С. 189-211.
- Кастрен М.А. Очерки Финского Севера России//Архангельские губернские ведомости. 1853. № 19, 20.
- Кошечкин Б.И. Открытие Лапландии. Мурманск, 1983. 128 с.
- Ламанский В.И. Этнографические замечания и наблюдения Кастрена о лопарях, карелах, самоедах и остяках, извлеченные из его путевых воспоминаний//Этнографический сборник, издаваемый императорским Русским географическим обществом. Вып. 4. СПб., 1858. С. 219-320.
- Муравьев В.Б. Вехи забытых путей: Финский этнограф и лингвист М.А. Кастрен. 2-е изд. М., 1975. 71 с.
- Памяти М.А. Кастрена. К 75-летию со дня смерти: Сборник статей. Л., 1927.
- Попов А.И. Валит//Советское финно-угроведение. Вып. 5. Петрозаводск, 1948. С. 132-138.
- Расила В. История Финляндии. Петрозаводск, 1996. 296 с.
- Салминен Т. Маттиас Александр Кастрен//Сто замечательных финнов: калейдоскоп биографий/Под ред. Т. Вихавайнена. Хельсинки, 2004. С. 228-235.
- Собрание старых и новых путешествий. Ч. 2. Кастрен М.А. Путешествие по Лапландии, Северной России и Сибири (1838-1844, 1845-1849)/Предисл. А. Шифнера//Магазин землеведения и путешествий. Географический сборник Н. Фролова. Т. 6. М., 1860. 3, 4, 495 с.
- Флоря Б.Н. Русско-норвежские отношения XIII-XIV веков и рассказ о Валите//Внешняя политика Древней Руси: Тезисы докладов. М., 1988. С. 107-109.
- Шегрен А.М. Очерк жизни и трудов Кастрена//Вестник Русского географического общества. 1853. Ч. 7. Отд. 7. С. 100-133.
- Castren M.A. Nordiska resor och forskningar. Helsingfors, 1857.
- Nordische Reisen und Forschangen. Bd. 1-12. SPb., 1852-1862.
- Suomi. 1841-1851.
- Tigerstedt K.K. M.A. Castren lefnad och resor bergttade fur ungdom. Helsingfors, 1868.