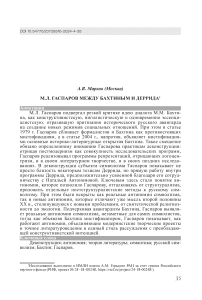М. Л. Гаспаров между Бахтиным и Деррида
Автор: Марков А.В.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Теория литературы
Статья в выпуске: 4 (71), 2024 года.
Бесплатный доступ
М. Л. Гаспаров подвергал резкой критике идею диалога М.М. Бахтина, как конструктивистскую, нигилистическую и одновременно эссенциалистскую, отразившую притязания исторического русского авангарда на создание новых режимов социальных отношений. При этом в статье 1979 г. Гаспаров сближает формалистов и Бахтина как противостоящих мистификациям, а в статье 2004 г., напротив, объявляет мистификациями основные историко-литературные открытия Бахтина. Такое смещение обязано определенному вниманию Гаспарова практикам деконструкции: отрицая постмодернизм как совокупность исследовательских программ, Гаспаров реализовывал программы репрезентаций, отрицающих логоцентризм, и в своем литературном творчестве, и в своих поздних исследованиях. В деконструкции субъекта символизма Гаспаров показывает не просто близость некоторым тезисам Деррида, но прямую работу внутри программы Деррида, предположительно усвоенной благодаря его сотрудничеству с Натальей Автономовой. Ключевым здесь стало понятие антиномии, которое позволило Гаспарову, отталкиваясь от структурализма, приложить отдельные постструктуралистские методы к русскому символизму. При этом были вскрыты как реальные антиномии символизма, так и новые антиномии, которые отличают уже мысль второй половины ХХ в., столкнувшуюся с новыми проблемами, от синтетической религиозности до экологии. Подчеркивая авангардизм Бахтина, Гаспаров выявляет реальные антиномии символизма, незаметные для самих символистов, тогда как объявляя Бахтина мистификатором, Гаспаров показывает, как работают антиномии, объединяющие модернистские творческие проекты и точное литературоведение в единый стиль рассуждения с преобладающей конструктивистской интенцией.
Деконструкция, антиномия, теория литературы, семантика, русский символизм, бахтин, гаспаров
Короткий адрес: https://sciup.org/149147131
IDR: 149147131 | DOI: 10.54770/20729316-2024-4-35
Текст научной статьи М. Л. Гаспаров между Бахтиным и Деррида
ey words
Deconstruction; antinomy; literary theory; semantics; Russian Symbolism; Bakhtin; Gasparov.
Работа Н.С. Автономовой и М.Л. Гаспарова «Сонеты Шекспира – переводы Маршака» [Гаспаров 1997] вызвала после публикации, по множеству устных свидетельств, бурю. Впервые был поставлен под вопрос перевод как интегральная часть советской литературы, неуклонно делающая классиков современниками, а современность – классической. В этом единстве обнажились разрывы , прежде всего, потому что Маршак был противопоставлен авангардистам и объявлен завершителем традиции русской классической литературы, чуть запоздалым наследником Бунина: «Маршак учился на классике, но классику он воспринял через Бунина, а не через Брюсова» [Гаспаров 1997, 119].
В статье была выдвинута и новая программа, учиться не у классиков, а у переводчиков: «Победителей не судят, но искусству победы у них учатся. Переводы Маршака могут нравиться или не нравиться, но учиться у них есть чему» [Гаспаров 1997, 118]. Но главное, вернулась максима Бюффона: стиль – это человек . Маршак, будучи человеком другого стиля, чем Шекспир, просто не мог передать многие барочно-эвфуистические образы Шекспира, и заменял их стереотипами «русской романтической поэзии»: «Стилистическое единство их поразительно» [Гаспаров 1997, 116]. Тем самым, делают вывод авторы статьи,
«Английский Шекспир писал сонеты для друга и дамы, русский Шекспир – для нас и вечности» [Гаспаров 1997, 118] – человек – это стиль, обращенный к некоторому количеству способных оценить этот стиль собеседников.
Сама по себе эта вечность, конечно, конструкция романтической поэзии, как и «мы». Но в статье Автономовой и Гаспарова есть очень интересный момент. Говорится, что Маршак воздерживался от передачи ренессансного разнообразия, вариеты (varietà – многозначное понятие, означающее ассортимент или отсутствие единства в разнообразии, когда выделяются только сорта сущего, но не их общий принцип – в многочисленных исследованиях Л.М. Баткина varietà понималась как принцип ренессансного творчества, противостоящий схоластической организации знания вокруг понятийных доминант и дедуктивных доказательств), когда «творческое сознание, упиваясь широтой и богатством распахнувшегося перед человеком мира, радостно увлекалось каждым аспектом человеческой жизни и деятельности, эстетически утверждая его в искусстве» [Гаспаров 1997, 113], то есть от передачи юридического, экономического, военного и других кодов тогдашней, весьма нонконформистской по отношению к прежним векам учености. Но при этом анахронизмы оказываются связаны не с этими дисциплинарными сферами или с жизненными мирами Возрождения, а с теологией . Например, Маршак вносит анахронистический образ «маятника» там, где говорится о Руке времени [Гаспаров 1997].
Это теологические в широком смысле образы, где значение Руки или Солнца вполне определено христианским одухотворением классической образности. Мифологический сюжет служит развернутой метафорой для осознанного христианского догмата.
Близкие мировоззренческим и методологическим позициям Гаспарова исследователи тоже отмечали эту специфику слова: так, Седакова увидела в этом вертикальном, догматико-метафизическом обосновании поэтических узусов возможную и в наши дни встречу библейско-богословского (или архаического, или иного развитого религиозного) имажинария и «расширенного сознания» (Седакова дважды употребляет это слово в кавычках, пытаясь передать, как все же в современной литературе возможен неомифологизм не как архаизирующий, но как конструктивный принцип) читателя [Седакова 2010, 174]. При этом в фольклоре или в Средние века, как и во многом в эпоху Данте и в эпоху Шекспира эта встреча была облегчена общим полем знаний и представлений о мире, равно как и авторитетностью любого религиозно значимого слова [Седакова 2010, 174], поэтому индивидуального опыта расширенного сознания не требовали. Автономова и Гаспаров взяли за точку отсчета уже не традиционную устойчивую семантику и прагматику, а сдвиги эпохи Возрождения, как раз тем самым думая о жестах Маршака как читателя Шекспира. В этом смысле они вполне следуют общей концепции романа в трудах Бахтина: хотя понятие о субъекте создания романа у Бахтина не раз менялось, тем не менее, роман всегда понимался как предъявление языковых сдвигов, языковых узусов, смещение которых и порождает особое, нестандартное развитие этого жанра [Марков, Штайн 2024].
Представленный в статье подход подразумевает антиномию бессознательного (невольные анахронизмы) и сознательного (стилистическая последовательность). Она накладывается на антиномию открытости (увеличения числа возможных адресатов) и закрытости (завершенности текста как коммуникативной структуры с определенным ограниченным числом семантических решений). Такая двойная антиномия, насколько нам известно, не рассматривалась в структурализме, но как раз стала предметом знаменитой статьи Гаспарова об антиномичности русского модернизма [Гаспаров 1994, 434–456]. Применение статистических средств в сопоставлении со статьей Гаспарова 1979 г. о Бахтине [Гаспаров 1994, 494–496; Марков 2024] показало, что рассмотренная в этой статье двойная антиномия, антиномия парнасских и декадентских ориентиров и антиномия приоритета формальных и приоритета мировоззренческих ценностей как раз имеет в виду тяготение парнасских ориентиров к бессознательной стороне эстетических анахронизмов, а декадентских – к сознательной стороне творчества как вовлеченности в современный мир.
Статья, в которой применен метод поиска отброшенного ключа [Гаспаров 1997, 187–196], показывает, что Гаспаров соотносил приоритет формальных ценностей (как у Брюсова, в противовес мировоззренческим ценностям Андрея Белого) с доминированием как раз основных образов над вспомогательными. Ссылаясь на статью Б.И. Ярхо «Границы научного литературоведения», который отвергал фрейдистские и подобные интерпретации как выдающие основные (относящиеся к реальности) образы за вспомогательные, символически насыщенные, Гаспаров вынужден признать, что основные образы могут быть анахронистическими. Гаспаров цитирует примечание Ярхо к статье: «Эта реальность ничего общего не имеет, конечно, с действительной реальностью. В словах “Горбунок летит стрелою” фантастический образ горбатого конька будет основным, так как входит в реальность, предполагаемую сказкой, а реалистический образ стрелы – нереальным, вспомогательным» [Гаспаров 1997, 188].
Заметим, что мысль Ярхо 1920-х гг. весьма интимно связана с развитием кинематографа как авангардного искусства, подтверждая значимость кинематографа для переопределения сознательного и бессознательного элементов коммуникации в отечественных теориях 1920-х гг. [Марков, Штайн 2024]. Именно в кинематографе есть репрезентация реальности как основная образность, существующая помимо нашего сознания, прорывающаяся как своеобразное бессознательное эпохи, в том числе в случае репрезентации условной реальности, например, Рима в жанре пеплума. Но есть и вспомогательные, немотивированные образы, образы сознательно выбранные, от игры тапера до ракурса и трансфокального наезда. Именно исходя из символико-аллегорической насыщенности, Гаспаров отказывается относить Вячеслава Иванова к символизму, сближая его с различными формами средневекового и романтического аллегоризма [Гаспаров 1997, 444] – у него вспомогательные образы как будто заняли место основных.
Итак, как в кинематографе возможны различные жанры, каждый из которых претендует репрезентировать жизнь в ее стилистическом единстве и требованию к героям фильма держаться этого стиля, так и возможен оказывается жанр-Шекспир и жанр-Маршак, именно как жизненные стили. Бахтин для Гаспарова в статье 1979 г., тесно связанной с выявлением антиномизма русского модернизма [Марков 2024] тогда оказывается тем, кто игнорирует этот антиномизм, пытается сконструировать свою версию авангарда, причем из вспомогательных образов. Как проницательно заметила Виктория Файбы-шенко: «В исследователе Бахтине Гаспаров находит не только Бахтина-героя, претендующего быть автором, но и Бахтина-читателя, претендующего стать писателем» [Файбышенко 2023, 10].
Файбышенко пишет дальше о противоречивости такого разоблачения:
Но такое разоблачение Бахтина уже не находится в поле науки, поскольку не вполне соответствует фундаментальному требованию самого Гаспарова: не деформировать прошлое культуры в интересах настоящего. Ценой нарушения собственных правил Гаспаров ставит вопрос о том, что такое быть ученым – через проблематизацию непроговариваемых и непроблематизируемых оснований этого занятия, укорененных, как видим, в позиции самого ученого как субъекта истории. Он ведет своего рода двойную игру, симулируя естественную установку, чтобы предъявить чужой метод как плод естественной установки [Файбышенко 2023, 10–11].
Тем самым, оказывается, что как раз ученый должен пользоваться основными образами, как некоторой конструкцией реальности, способной декон-струировать власть дискурсов, он преодолевает антиномию бессознательного и сознательного, равно успешно понимая Парнас и декаданс; тогда как пользование вспомогательными образами, преодолевающее антиномию мировоззренческих и формальных установок, приписывается Бахтину . Уличая Бахтина в авангардном конструировании [Гаспаров 1997, 494], Гаспаров вполне пользуется антиномической сеткой русского модернизма , но при этом его собственная программа оказывается близка программе деконструкции.
По выводам Файбышенко, Гаспаров усматривает в деконструктивистах тех, кто как бы перехватил его экспликацию оснований гуманитарного знания, как утверждающих присутствие здесь и сейчас, присутствие честных данных, и позволяющих нам отнестись к другому. Деконструктивисты как бы сразу оказываются окликнуты:
Гуманитарная наука участвует в развертке субъекта как держателя и содержимого личной и всеобщей истории, извлекаемой из его объективных отложений. Такого рода развертка или извлечение возможны потому, что сами объекты уже поняты как проекции субъективности. Структура гуманитарного исследования предполагает, что субъектность исследователя, не сводимая в действительности к нулю, ограничена эксплицитными нормами, по которым она восстанавливает другую субъективность, следы которой проступают в исследуемых текстах. Этот нормативный субъект по определению не является конечным хозяином речи. Он обязан соотносить свою деятельность с неким всеобщим условием действия в истории, экспликацией которого является и его нормирующая активность, и активность восстанавливаемого субъекта. Таким образом, частно-исторический субъект-объект всякий раз подтверждает это имманентное ему условие. Такой процесс корреляции субъективностей мы можем, заимствовав термин Альтюссера, назвать интерпелляцией в гуманитарной науке [Файбышенко 2023, с. 14].
Сам термин «окликание / интерпелляция» существен и для деконструкции, и для дискуссий вокруг нее, и его появление, если говорить совсем кратко, связано с тем, что Лакан в своих бесчисленных Семинарах, допуская струк-турированость бессознательного, а не сознательного, тоже заметил двойную антиномию сознательного / бессознательного и формального / мировоззренческого (хотя и представил ее не текстово, как Гаспаров, а визуально, в виде «колец Борромео»). И у Лакана, и Альтюссера, и у современных континентальных теоретиков от Бадью до Агамбена двойная антиномия оказалась олицетворена фигурой апостола Павла. Имея расщепленное «я», по Лакану, апостол Павел хотел стать христианином, когда был гонителем, но это расщепление превращало позицию адепта в позицию гонителя, превращало воображаемое желания в реальность гонения. Но будучи интерпеллирован вспышкой света, апостол Павел как бы исторг структуру бессознательного в сознание, и стал систематизатором христианской догматики. То, что было прежде керигмой (κήρυγμα, извещением, «мы спасены»), стало теперь догматикой. То, за что апостола Павла не любил Л.Н. Толстой, для Лакана и последующей континентальной традиции и становится самым существенным для опровержения классического фрейдизма и утверждения деконструкции властных высказываний как высказываний, заведомо расщепляющих жизненный мир и грозящих насилием, негостеприимством. В конце концов, слух, слышимое слово в противовес как проговариваемому логосу, так и механике письма и стало магистральной темой Деррида.
Формулы Гаспарова о Бахтине в статье 1979 г., такие как «Произведение строится не из слов, а из реакций на слова» [Гаспаров 1997, 495], вполне могли бы быть такой «Павловой» программой интерпелляции и производства христианства как жизненного стиля. Но Гаспаров находит у Бахтина один зазор, а именно, некоторое притязание быть революционным агитатором, и сразу же описывает Бахтина на условном языке Маршака: «прилепляться сердцем», «резкая вражда», «кипящая стихия», и еще множество просто газетно-памфлетных выпадов в стиле публицистики 1920-х гг.
То есть Бахтин оказывается условным Маршаком, а не Шекспиром, но при этом, говоря о нем, Гаспаров вынужден превращать вспомогательные образы, сентиментальные и публицистические, в основные образы. Тем самым, Гаспаров поддается на ту провокацию, которую сам отвергает; но с одной целью – показать Бахтина как философа, который признает антиномию сознательного и бессознательного, которую филолог должен преодолеть, но не признает антиномию формального и мировоззренческого, которая для Гаспарова важнее всего в том числе при определении границ русского модернизма и понимания того, какая именно прямо почти кинематографически репрезентируемая реальность создает какой жизненный стиль.
По сути, Гаспаров рассуждает так же, как рассуждает Деррида в характерном изложении Натальи Автономовой, постоянно общавшейся с Гаспаровым. Автономова пишет (ограничимся одной цитатой из ее книги о Деррида) о Деррида как о тотальном критике предшествующей традиции. Для Деррида Ницше или Хайдеггер – то же, что для Гаспарова – Бахтин, метафизик, художник, доверяющий готовой антиномии сознания и бытия. Любой такой мыслитель, скрытый метафизик, не выходит за пределы этой антиномии, не видит настоящей антиномии бытия и строгого познания, но только антиномию внутреннего переживания и внешнего впечатления, антиномию апперцепции и перцепции, если использовать терминологию Лейбница, сознательного апперцепции и бессознательного перцепции. Деррида, по изложению Автономовой, как раз и разоблачает такой эффект всеобщей сдвинутости в современной эпохе, напоминающей об авангардных сдвигах, о которых пишет Гаспаров:
Действительно, поразительно, что современная эпоха по Деррида Автономовой изображается прямо как эпоха авангарда у Гаспарова в статье 1979 г. о Бахтине. Гаспаров тоже говорит о невозможности найти радикальный выход, о том, что любое конструирование разбивается о необходимость элементов прошлого, о необходимость воспроизводить антиномию сознания и бытия. Постоянно сознавая прошлое, ты бытийствуешь в настоящем, но экспроприируя прошлое самим своим бытийствованием, ты все равно обретаешь себя в неприятной ситуации сдвинутости мыслительных устоев. Это, кстати, очень напоминает концепцию несчастного сознания Гегеля, которая была ключевой для университетского учителя Деррида, французского неогегельянца Жана Ипполита:
...Построим такой расцвет мировой культуры, перед которым само собой померкнет все прежнее, и строить будем с самого начала и без оглядки на прошлые пробы <...> Отсюда главное у Бахтина: пафос экспроприации чужого слова. Я приступаю к творчеству, но все его орудия были в употреблении, они захватаны и поношены, пользоваться ими неприятно, они – наследие прошлого, а обойтись без них невозможно [Гаспаров 1997, 494].
Но опять же множество деятелей авангарда не становятся апостолами Павлами, они не окликнуты даже кинематографом как новой вспышкой света, а возвращают метафизический опыт конструирования, строительства, достижения расцвета как главного желания коллективного бессознательного культуры.
Деррида критикует Фрейда так же примерно, как Ярхо критиковал Фрейда, за отказ от признания прямой реальности бытия, основных образов, и определяющих человека как стиль, и предпочтение почти аллегорической вспомогательной образности, тот самый неприятный Гаспарову аллегоризм. То, что для Гаспарова основные образы, и создающие бытие Шекспира и бытие Маршака, то для Деррида понятия бытия и истины, сознания и присутствия, которые подменены вспомогательными понятиями, постоянно пересобирающими простую и плоскую антиномию бытия и сознания, у Ницше и Фрейда. Только деконструкция как прорыв структуры слушания, настоящей структуры бессознательного, в логоцентричный мир, и может вернуть это единство человека-стиля. Признание Другого, а не диалогизм, основанный на символах, открывает настоящий антиномизм.
В конце концов, в поздней статье о Бахтине, 2004 г., Гаспаров, браня Бахтина как мистификатора, работающего в хаосе страстей народной культуры и Достоевского, как сочинившего мениппею и целые традиции, вынужден признать, что у Бахтина его аллегоризм, его pars pro toto , на самом деле не противоречит лакановскому окликанию, обращению апостола Павла: «Ему нужно незафиксированное, – потому что только здесь возможен выбор, т.е. поступок, т.е. путь к Богу» [Гаспаров 2004, 9]. Поступок как путь к Богу это и есть структура бессознательного как языка по Лакану, потому что мы не можем видеть себя глазами Бога, но можем поступать так, что расщепленное «я» остается вне структуры. Антиномия бессознательного и сознательного здесь заменяется антиномией видимости себя и невидимости себя, ты сам оказываешься формой Бога, который только и может обладать мировоззрением, то есть видеть мир как Творец.
Таким образом, мы должны признать, что проект точной науки Гаспарова – это особый проект работы с антиномиями модернизма и авангарда. Эти антиномии признаются как основополагающие для аргумента: мы не сможем мыслить исторично, если мы не мыслим в соответствии с антиномиями, укорененными в историческом опыте искусства в данную конкретную эпоху. То есть историзм традиционной филологии требует от Гаспарова просто точности работы с антиномиями, выделенными модернистской мыслью. Но как только Гаспаров обращается к Бахтину, для которого, согласно основной мысли статьи Гаспарова 1979 г., основной антиномией стала не антиномия сознательного (воспринимаемого) и бессознательного (бытийствующего само по себе), но антиномия конструкции и материала, то сразу как раз Гаспаров пытается разоблачить метафизику Бахтина, понимание конструкции как действия сознания или воли и понимание материала как некоторой помехи, чего-то вроде фрейдовских неврозов. Но при этом в конце концов Бахтин начинает интересовать Гаспарова не как субъект филологического знания, но как субъект поступка, как философ поступка.
Поэтому в поздней статье Гаспарова уже нет распределения преодоления антиномий между философом и филологом, но чистая программа Лакана и Деррида, опровержения логоцентрической системы антиномий через введение этой невидимой видимости окликания. Человек здесь становится стилем: но уже как поступок , как живая догматика о спасении верой и делами, по апостолу Павлу. Без учета этой поздней статьи Гаспарова мы не сможем правильно оценить и его внезапное обращение в христианство перед смертью, хотя спор с Бахтиным он явно не завершил до конца жизни.
Список литературы М. Л. Гаспаров между Бахтиным и Деррида
- Автономова Н.С. Философский язык Жака Деррида. М.: РОССПЭН, 2011. 510 с. EDN: RAQVCN
- Гаспаров М.Л. Избранные труды. Т. II. О стихах. М.: Языки русской культуры, 1997. 604 с. EDN: WSNOHZ
- Гаспаров М.Л. История литературы как творчество и исследование: случай Бахтина // Русская литература XX-XXI веков: проблемы теории и методологии изучения: Материалы Международной научной конференции, Москва, 10-11 ноября 2004 года /под ред. С.И. Кормилова. М.: Издательство МГУ, 2004. С. 8-10. EDN: YVOUNV
- Марков А.В. Гаспаров о Бахтине: поэтика антиномий и современные цифровые методы // Диалоги о культуре и искусстве. Пермь: Пермский государственный институт культуры, 2024 (в печати). EDN: CCDXKB
- Марков А.В., Штайн О.А. М.М. Бахтин как теоретик кино: автокоммуникация на рапиде // Временник Зубовского института. 2024. № 1 (44). С. 157-172. EDN: KTJWKP
- Седакова О.А. Стихотворный язык: семантическая вертикаль слова [1989] // Седакова О.А. Poetica. М.: Университет Дмитрия Пожарского, 2010. С. 169-176.
- Файбышенко В.Ю. Этика ограниченного понимания: о метатеоретической мысли М.Л. Гаспарова // Антропологии /Anthropologies. 2023. № 1. С. 5-26. REFERENCES (Articles from Scientific Journals). EDN: GLNXYW