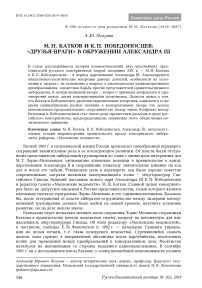М. Н. Катков и К. П. Победоносцев: «друзья-враги» в окр ужении Александра III
Автор: А.Ю. Полунов
Журнал: Русско-Византийский вестник @russian-byzantine-herald
Рубрика: Памятные даты России
Статья в выпуске: 1 (2), 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается история взаимоотношений двух крупнейших представителей русского консерватизма второй половины XIX в. — М. Н. Каткова и К. П. Победоносцева — в период царствования Александра III. Анализируются общественно-политические воззрения данных деятелей, особенности их положения в «верхах», их отношение к вопросу о законодательно-административных преобразованиях, совместная борьба против представителей правительственного либерализма. В центре внимания автора — вопрос о причинах конфликтов и противоречий между двумя консервативными политиками. Делается вывод о том, что Катков и Победоносцев, разделяя охранительные воззрения, занимали в то же время принципиально разные позиции в консервативном лагере, что делало невозможным продолжительное сотрудничество между ними. Конфликт между Катковым и Победоносцевым стал своего рода предвестием расколов в среде российского консерватизма, предопределивших поражение этого общественно-политического движения.
М. Н. Катков, К. П. Победоносцев, Александр III, интеллектуальные основы мировоззрения, правительство, пресса, консерватизм, либерализм, реформы, «Московские ведомости»
Короткий адрес: https://sciup.org/140240258
IDR: 140240258 | DOI: 10.24411/2588-0276-2019-10010
Текст научной статьи М. Н. Катков и К. П. Победоносцев: «друзья-враги» в окр ужении Александра III
Весной 1881 г. в политической жизни России произошел своеобразный переворот, сыгравший значительную роль в ее последующем развитии. От власти были отстранены представители либеральной группировки во главе с министром внутренних дел М. Т. Лорис-Меликовым, занимавшие ключевые позиции в правительстве к концу царствования Александра II и сохранявшие поначалу значительное влияние на ход дел и после его гибели. Решающую роль в перевороте, как было хорошо известно современникам, сыграли политики консервативного толка — обер-прокурор Святейшего Синода, бывший наставник нового царя Александра III К. П. Победоносцев и редактор газеты «Московские ведомости» М. Н. Катков. Главной целью консерваторов было не допустить введения в России представительства, созыв которого являлся ключевым пунктом программы Лорис-Меликова и его единомышленников. Казалось бы, после отстранения от власти либералов сотрудничество между лидерами консервативной группировки должно было выйти на новый уровень, получить успешное развитие, но на деле вышло иначе.
Буквально через несколько месяцев после свержения Лорис-Меликова сторонники Каткова в правительстве начали жаловаться своему патрону на непонятную для них пассивность обер-прокурора Синода. Об этом редактору «Московских ведомостей», в частности, сообщал Е. М. Феоктистов (с 1882 г. — начальник Главного управления по делам печати, т. е. глава цензурного ведомства). Стремившийся «ковать железо, пока горячо» в напряженной обстановке после цареубийства, подготовить почву для проведения новых преобразований в консервативном духе, Феоктистов наткнулся на непонимание со стороны недавнего единомышленника. В сентябре 1881 г. он с негодованием писал Каткову о «совершеннейшей невозможности уловить
Миропомазание Государя императора в Успенском соборе. Гравюра из коронационного альбома Александра III, 1883 г.
Победоносцева», поскольку «в течение целого лета сей почтенный муж сидел, спрятавшись в какой-то загородной трущобе, и избегал сближения с товарищами». Еще один близкий Каткову чиновник, министр государственных имуществ М. Н. Островский предложил обер-прокурору встретиться для обсуждения проекта нового университетского устава, но Победоносцев, по словам Феоктистова, «упорно уклонялся от этого, ссылаясь на множество дел».1
Сторонники Каткова в правительственных «верхах» терялись в догадках, пытаясь объяснить непонятное для них поведение обер-прокурора, сыгравшего столь значительную роль в отстранении от власти Лорис-Меликова и его сторонников. Наиболее распространена была версия о том, что Победоносцев попал в зависимость от того или иного деятеля из своего окружения, близкого по взглядам к либералам, и утратил в силу этого тот боевой настрой, который был характерен для него весной 1881 г. Одним из кандидатов на роль «злого гения» выступал Н. А. Манасе-ин — приверженец славянофильских взглядов, стремившийся к компромиссу с либеральной группировкой — продвинутый в 1885 г. Победоносцевым на роль министра юстиции. Человек «умный, с сильным характером и страшно самолюбивый», Манасеин никогда не отступится от своих воззрений «и будет держать в плену ум и слабую волю Константина Петровича», — предупреждал Каткова в 1886 г. еще один из его сторонников в правительстве, правитель Канцелярии министра внутренних дел А. Д. Пазухин2. Верный «катковец», Пазухин подчеркивал необходимость развернуть борьбу против министра юстиции, дабы вырвать обер-прокурора из-под его влияния.
В целом, представление о слабости, безволии Победоносцева, его склонности подпадать под чужие влияния станет со временем общим местом в рассуждениях сторонников Каткова, причем главной причиной подобных качеств считалось отсутствие у консервативного сановника позитивной программы деятельности. «Не было, кажется, человека, который так пугался бы всякого решительного действия, ум которого был бы в такой степени проникнут духом неугомонной критики… — писал Феоктистов об обер-прокуроре в своих воспоминаниях. — Не было, кажется, такой сколько-нибудь существенной законодательной или административной меры, против которой он не считал бы долгом ратовать; он тотчас же подмечал ее слабые стороны, и в этом заключалась его сила; впрочем, и не находя в ней важных недостатков, он все-таки не упускал случая возражать»3. В целом, среди «катковцев» получило распространение представление об обер-прокуроре как о слабом политике, который получил возможность добраться до вершин власти, играть первостепенную государственную роль благодаря случайному стечению обстоятельств — чрезвычайной ситуации весны 1881 г., своему наставничеству в царской семье и ряду других факторов.
Может показаться удивительным, но сам Победоносцев столь же случайным явлением считал государственную роль Михаила Никифоровича, и также расценивал это явление как результат действия «человеческого фактора». Весной 1887 г., когда между Александром III и Катковым назрел конфликт — царь, возмущенный вмешательством редактора «Московских ведомостей» в сферу внешней политики, требовал наложить взыскание на его газету — обер-прокурор направил письмо своему бывшему ученику, убеждая его не принимать подобные меры. «Катков — высокоталантливый журналист, умный, чуткий к истинно русским интересам… — писал обер-прокурор царю — Но зачем было делать из Каткова государственного человека? Были министерства, в коих ничто важное не предпринималось без участия Каткова. Этим его испортили и вывели его из пропорции. Он писал превосходные статьи, но можно было бы им радоваться, а не делать из них государственного события»4. В то же время, уже спустя несколько месяцев, откликаясь на смерть «архистратига реакции», Победоносцев дал ему весьма высокую оценку в письме к своему доверенному собеседнику С.А. Рачинскому. «Это был человек, исполненный жизненной силы, — писал обер-прокурор. — Ему довелось действовать на среду, переполненную евнухами , и евнухи одолели его (выделено Победоносцевым — А. П.)»5. В чем же заключалась причина такого расхождения в оценках, разноголосицы, доходившей до взаимного непонимания, разделявшей двух, казалось бы, идейно близких друг другу деятелей?
Для ответа на этот вопрос нужно вкратце рассмотреть биографии Каткова и Победоносцева. Внешне жизненный путь двух деятелей был во многом схож. И будущий обер-прокурор, и будущий редактор «Московских ведомостей» были москвичами, выходцами из разночинской среды. Оба в той или иной степени были причастны к общественной и интеллектуальной жизни первопрестольной столицы в эпоху «замечательного десятилетия», оба (правда, в разное время) состояли профессорами
Московского университета. И Катков, и Победоносцев во второй половине 1850-х гг. выступали в поддержку либеральных преобразований6, разочаровавшись впоследствии в своих воззрениях. Однако при всем внешнем сходстве жизненного пути, интеллектуального облика двух деятелей, между ними были значительные различия.
Катков — как и большинство представителей круга лиц, известных как «идеалисты тридцатых годов» — пережил в ходе своей духовной эволюции значительное влияние немецкой классической философии, воспринял характерный для данной культуры стиль мышления, присущие ей ментальные установки. В рамках картины мира, основанной на принципах немецкой философии, социальная реальность находилась в непрестанном движении, восходила с одного этапа развития на другой. Источником движения служили факторы и яв-

Михаил Никифорович Катков
ления, внутренне присущие тому или иному социальному организму, политической струк-
туре. Именно в духе подобных установок и воспринимал Катков процессы, разворачивавшиеся в пореформенной России. Свободное саморазвитие общества, простор которому были призваны открыть Великие реформы 1860–70-х гг., должно было, по мысли Каткова, раскрыть имеющийся у страны потенциал, привести ее к новому, либеральному порядку. После того, как либеральные преобразования не принесли ожидаемых последствий, а общество обнаружило свою слабость, в действие должен был вступить другой актор российской действительности — государственная власть, которому предстояло двинуть страну в ином направлении, устраняя разрушительные последствия реформ. Так или иначе, движение должно было продолжаться — отказ от него противоречил бы основам мышления московского журналиста. «Катков пошел даже не новым, а обратным путем, — писал, отмечая данную особенность воззрений Каткова, его биограф С. Неведенский. — Он порицал с величайшей страстностью то, что превозносил прежде»7.
Победоносцев, как отмечалось выше, внешне был также причастен к интеллектуальной жизни Москвы эпохи «замечательного десятилетия», вращался в тех же кругах, что и Катков, но его мировоззрение базировалось на существенно иных основаниях, нежели взгляды знаменитого журналиста. Внук приходского священника, сын выпускника духовной академии, будущий обер-прокурор по происхождению, пристрастиям, вкусам был тесно связан с традиционно-патриархальным укладом первопрестольной столицы, остро чувствовал связь с прошлым, укорененность в традициях. Ощущение связи с прошлым вело к своеобразному культу статичности, неподвижности, восприятию именно такого состояния в качестве идеального8.

Константин Петрович Победоносцев
В силу разных причин Победоносцев не прошел через «школу» немецкой классической философии, остался чужд основным идеям и принципам этого течения мысли9. Если говорить о воздействии на обер-прокурора какой-либо интеллектуальной доктрины, то это было влияние крайне архаичного варианта просветительства, приверженцем которого был отец будущего обер-прокурора — профессор словесности Московского университета П. В. Победоносцев (1771-1843). Административно-законодательным преобразованиям в рамках подобной доктрины не предавалось особого значения. Главным средством воздействия на окружающий мир считались меры духовно-просветительского характера, связанные с поучением, назиданием и др.10
С учетом указанных различий в мировоззрении двух деятелей становится ясно, почему они по-разному отреагировали на ситуацию, сложившуюся после отстранения от власти либеральной группировки в начале 1881 г. Для ре дактора «Московских новостей», придерживавшегося представлений о необходимости постоянного движения вперед, данный переворот был лишь отправной точкой для принятия новых мер, призванных в перспективе утвердить в стране новый порядок. Катков, по словам Феоктистова, в начале 1880-х гг. «кипятился, выходил из себя, доказывал, что недостаточно отказаться от вредных экспериментов и обуздать партию, которой хотелось бы изменить весь политический строй России, что необходимо проявить энергию, не сидеть сложа руки; он был непримиримым врагом застоя, и ум его неустанно работал над вопросом, каким образом можно было бы вывести Россию на благотворный путь развития»11. Совсем иначе виделось положение дел Победоносцеву. После того, как главная цель — срыв попыток введения представительства — была достигнута, следовало остановиться. Требовалось в максимально возможной степени заморозить статус-кво в административно-законодательной сфере, во всем, что касалось «учреждений», и приступить к реализации мер духовно-нравственного воздействия на общество, которые отныне и должно было стать основной сферой активности власти.
Административно-законодательные преобразования, проведение которых (в консервативно-реакционном духе) было столь желанной целью для Каткова и «катковцев», воспринимались Победоносцевым скептически, страшили своей непредсказуемостью. Подобные настроения доходили у обер-прокурора едва ли не до стремления совсем остановить законотворческую работу бюрократического аппарата. «Однажды в разговоре со мной, — вспоминал Феоктистов, — он откровенно высказал, что, если бы это зависело от него, он ограничил бы до minimum’а деятельность Государственного совета: к чему перемены, к чему новые узаконения, когда еще неизвестно, будет ли от них прок!»12 При этом все, что касалось внутреннего мира людей, возможности воздействия на духовную жизнь общества, культуру, идеологию, не затрагивая «учреждения», вызывало у главы духовного ведомства живейший интерес. В его письмах друзьям в изобилии рассыпаны высказывания о том, что люди намного важнее учреждений, что у него гораздо больше веры в улучшение не учреждений, а людей и т. д.
Программа «улучшения людей», разработанная Победоносцевым и чрезвычайно активно проводившаяся им в жизнь, по сути, до последних дней пребывания на посту обер-прокурора (1905), действительно поражала размахом, многосторонним характером. Она включала в себя и действия ограничительного, запретительного характера (ужесточение цензуры), но отнюдь не сводилась к ним. К числу основных направлений деятельности главы духовного ведомства относились такие меры, как развитие сети церковно-приходских школ, охватившей многомиллионные массы населения, прежде всего, крестьянство; активизация проповеднической и просветительской деятельности церкви; организация массовых церковно-общественных торжеств; развитие церковной периодики, издательской деятельности церкви; публицистические начинания самого Победоносцева, буквально до последних лет жизни готовившего издания по злободневным общественно-политическим вопросам13. Учитывая подобные установки обер-прокурора, можно предположить, что он и во взаимоотношениях с Катковым вполне искренно выдвигал на первый план его значение как деятеля периодической печати, пропагандиста, не учитывая (а, возможно, не сознавая до конца) всей сложности той роли, которую тот играл в правительственных «верхах». «Вся сила Каткова в нерве журнальной его деятельности, как русского публициста, и притом единственного, потому что все остальное — мелочь, или дрянь, или торговая лавочка», — писал Победоносцев Александру III в 1887 г.14
Внимательный анализ источников, впрочем, позволяет предположить, что обер-прокурор все же понимал, что «львояростный кормчий» занимает в системе неформальных механизмов власти, сложившейся при Александре III, весьма важное место, и что роль его отнюдь не сводится к функциям «журналиста» и «пропагандиста»15. Более того, сам Победоносцев в известной степени и помогал создать такое положение. Поскольку либералы, лишившиеся в начале 1881 г. важнейших министерских постов, сохранили свое влияние в Государственном совете, а отчасти и в правительстве, обер-прокурор должен был опираться на Каткова в ходе борьбы против тех, кто представлялся ему (как и московскому журналисту) носителями «противогосударственных тенденций». В ходе подобной борьбы глава духовного ведомства способствовал укреплению позиций Каткова в правительственных сферах — сообщал ему секретную информацию о положении дел в «верхах», обращал внимание царя на те или иные публикации в «Московских ведомостях», передавал ему эти публикации. Когда же влияние Каткова в «верхах» явно вышло за рамки дозволенного, именно Победоносцев, как отмечалось выше, постарался спасти московского публициста (незадолго до его смерти) от царского гнева, обратившись по этому поводу с письмом к Александру III.
В то же время, как ни парадоксально, даже к публицистической деятельности «львояростного кормчего» (максимально, казалось бы, ценимой обер-прокурором), к его наследию в этой сфере, а после его смерти — к возможности появления «нового Каткова» Победоносцев относился достаточно настороженно. После кончины Каткова консервативный сановник активно вмешался в борьбу за выбор его преемника на пост редактора «Московских ведомостей» и добился того, что руководство печатным органом было передано достаточно бесцветному С. А. Петровскому, при котором прежнее влияние московской газеты ушло в прошлое. Обер-прокурор также активно выступал против преобразования в ежедневную газету «Гражданина» В. П. Мещерского, близкого к Александру III и претендовавшего на роль главного «наследника» Каткова16. Подобная позиция, видимо, также объяснялась особенностями мировоззрения Победоносцева, который опасался, что «новый Катков», даже будучи приверженцем безусловно консервативных взглядов, просто в силу своей яркой индивидуальности нарушит статичность и предсказуемость порядков, которые напоминали близкий сердцу обер-прокурора патриархальный уклад и которые должны были, по его мнению, господствовать в России17.
В результате постепенного нарастания конфликтов и противоречий расхождение между двумя крупнейшими деятелями консервативного лагеря достигло таких масштабов, что совместная их деятельность стала практически невозможна. Уже в 1883 г. Катков в письме к Победоносцеву констатировал, что тот постоянно пытается «ограничивать себя, да и других во власти сущих людей от соприкосновения со мной в вопросах государственного значения», и потребовал прекратить подобные действия18. К концу же жизни, по свидетельству Феоктистова, редактор «Московских ведомостей» вовсе перестал обсуждать с обер-прокурором политические вопросы, а в частных разговорах отзывался о нем с озлоблением. По сути, за этим личностным конфликтом стояло столкновение разных типов консерватизма, отразившее глубокую внутреннюю разобщенность охранительного лагеря в России, раскол его на фракции, так и не сумевшие найти взаимопонимания друг с другом. Сам Катков, предчувствуя печальную судьбу охранительного направления в России, в конце жизни много размышлял о том, «почему это либеральная партия умела всегда действовать смело и решительно, почему отличалась она единодушием и дисциплиной, тогда как партия, пришедшая ей на смену, обнаруживает все признаки бессилия». Своеобразной эпитафией консерватизму стала фраза, в сердцах, брошенная московским публицистом своим единомышленникам: «Нет, господа… напрасно вы обольщаете себя надеждами; никто не относится к вам серьезно, никто не думает, чтобы удалось вам сделать что-нибудь путное»19.
Список литературы М. Н. Катков и К. П. Победоносцев: «друзья-враги» в окр ужении Александра III
- Глинский Б. Б. Константин Петрович Победоносцев. Материалы для биографии // К. П. Победоносцев. Pro et contra. СПб., 1996.
- К. П. Победоносцев и его корреспонденты. Том I. Полутом 2. М.- Пг., 1923.
- Коротких М. Г. Самодержавие и судебная реформа 1864 г. в России. Воронеж, 1989.
- Научно-исследовательский отдел рукописей Российской государственной библиотеки. Ф. 230. К. 4408. Ед. хр. 13. Л. 21.
- Научно-исследовательский отдел рукописей Российской государственной библиотеки. Ф. 230. К. 4408. Ед. хр. 6. Л. 2-2 об.
- Научно-исследовательский отдел рукописей Российской государственной библиотеки. Ф. 120. К. 12. Ед. хр. 23. Л. 8об-9.
- Научно-исследовательский отдел рукописей Российской государственной библиотеки. Ф. 120. К. 19. Л. 199
- Неведенский С. Катков и его время. СПб., 1888.
- Отдел рукописей Российской национальной библиотеки. Ф. 634. Письма к С. А. Рачинскому. 1887. Июль-сентябрь. Л. 35.
- Письма Победоносцев к Александру III. Т. II. М., 1926.
- Половцов А. А. Дневник государственного секретаря. Т. I. М., 2005.
- Полунов А. Ю. К. П. Победоносцев в общественно-политической и духовной жизни страны. М., 2010.
- Фетисенко О. Л. Столп Церкви или новый Копроним? К. П. Победоносцев sub oculis Т. И. Филиппова и К. Н. Леонтьева // К. П. Победоносцев: мыслитель, ученый, человек. М., 2007.