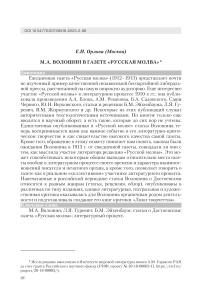М.А. Волошин в газете "Русская молва"
Автор: Орлова Е.И.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература
Статья в выпуске: 2 (65), 2023 года.
Бесплатный доступ
Ежедневная газета «Русская молва» (1912-1913) представляет почти не изученный пример качественной независимой беспартийной либеральной прессы, рассчитанной на самую широкую аудиторию. Еще интереснее участие «Русской молвы» в литературном процессе 1910-х гг.: она публиковала произведения А.А. Блока, А.М. Ремизова, Б.А. Садовского, Саши Черного, Ю.Н. Верховского, статьи и рецензии Б.М. Эйхенбаума, Л.Я. Гуревич, В.М. Жирмунского и др. Некоторые из этих публикаций служат авторитетными текстологическими источниками. Но многие только еще вводятся в научный оборот, а есть такие, которые до сих пор не учтены. Единственная опубликованная в «Русской молве» статья Волошина теперь воспринимается нами как важное событие в его литературно-критическом творчестве и как свидетельство высокого качества самой газеты. Кроме того, обращение к этому сюжету помогает нам понять, каковы были ожидания Волошина в 1913 г. от ежедневной газеты, совпадали ли они с тем, как мыслила участие литератора редакция «Русской молвы». Это может способствовать некоторым общим выводам относительно места газеты вообще в литературном процессе своего времени и характера взаимоотношений писателя и печатного органа, а кроме того, позволяет говорить о газете как о реальном «коллективном» участнике литературного процесса. Напечатанные в российской периодике статьи Волошина о Достоевском относятся к разным жанрам (статья, рецензия, обзор), опубликованы в различных по типу изданиях, однако литературная, театральная и художественная критика оказывалась для Волошина органичным родом деятельности и подготавливала создание его книг критики «Лики творчества».
М.а. волошин, л.я. гуревич, б.м. эйхенбаум, статьи о достоевском, газета "русская молва", литературный процесс
Короткий адрес: https://sciup.org/149143104
IDR: 149143104 | DOI: 10.54770/20729316-2023-2-98
Текст научной статьи М.А. Волошин в газете "Русская молва"
M. Voloshin; L. Gurevich; B.M. Eikhenbaum; articles on Dostoevsky; the “Russkaya Molva” newspaper; literary process.
В истории отношений Волошина с русской периодикой краткий сюжет, связанный с его сотрудничеством c выходившей в Петербурге ежедневной газетой «Русская молва», известен, но до сих пор не привлекал специального внимания исследователей.
Сотрудничество Волошина с «Русской молвой» было недолгим, а сама газета просуществовала лишь 9 месяцев: с декабря 1912 г. до августа 1913 г. В 1913 г., еще до закрытия, которое произошло по причинам сугу- бо экономическим, она была заклеймена В.И. Лениным как буржуазная, псевдодемократическая и националистическая, и эта ложная репутация на протяжении всего советского периода отвращала исследователей, так что газета до недавнего времени оставалась вовсе не прочитанной, пока не обнаружилось, что само ее содержание неоспоримо опровергает все ленинские характеристики и что «Русская молва» представляет интереснейший пример качественной независимой беспартийной либеральной прессы, рассчитанной на самую широкую просвещенную аудиторию. Еще интереснее участие «Русской молвы» в литературном процессе 1910-х гг.: она публиковала произведения А.А. Блока, А.М. Ремизова, Б.А. Садовского, Саши Черного, Ю.Н. Верховского, статьи и рецензии Б.М. Эйхенбаума, В.М. Жирмунского и др. Некоторые из этих публикаций служат авторитетными текстологическими источниками (так, статьи Блока «Искусство и газета» и Волошина «Русская трагедия возникнет из Достоевского» публикуются в собраниях их сочинений по газетным текстам). Но многие произведения других авторов оказались забытыми и только еще вводятся в научный оборот, а некоторые до сих пор не учтены. Это стихи Ю.Н. Верховского, ранние критические и прозаические опыты Б.М. Эйхенбаума, статья П.Б. Струве «Сильная власть и либеральная политика» и др.
Единственная опубликованная в «Русской молве» статья Волошина теперь воспринимается нами как важное событие в его литературно-критическом творчестве и как свидетельство высокого качества самой газеты. Но кроме того, обращение к этому сюжету помогает нам понять, каковы были ожидания Волошина от ежедневной газеты в 1913 г., совпадали ли они с тем, как мыслила участие литератора редакция «Русской молвы». Возможно, это будет способствовать некоторым общим выводам относительно места газеты вообще в литературном процессе своего времени и характера взаимоотношений писателя и печатного органа – что, конечно, невозможно без рассмотрения частных конкретных случаев таких отношений.
Сотрудничество Волошина с «Русской молвой» началось по его инициативе через посредство П.Б. Струве, который рекомендовал Волошина А.В. Тырковой-Вильямс, писательнице и журналистке, игравшей, по сути, роль редактора газеты, не будучи им формально. Тыркова-Вильямс «препоручает» Волошина Л.Я. Гуревич, которая в это время не только ведет отдел театра, но и временно курирует литературный отдел. Волошин в ответ на не сохранившееся письмо Гуревич в январе 1913 г. формулирует свои ожидания от работы в газете так:
К сожалению, то, что Вы предлагаете мне, не соответствует моим желаниям. Я, конечно, с благодарностью и радостью буду посылать Вам подходящие фельетоны для «Рус<ской> Молвы». Но я ищу не это<й> возможности. У меня нет такого места, где я бы мог писать регулярно – и по тем вопросам, которые меня интересуют, независимо от того, касаются ли они театра, литературы, живописи или общественности. Мне, напр<имер>, иногда очень важно писать на ту тему, которая уже обсуждалась в газете, т<ак> к<ак> должен сказать, что
(к несчастью для меня) мои мнения никогда почти не совпадают с господствующими в литературе. Потому уже давно мне приходится играть роль какого-то гастролера-престижитатора и на пространстве 150–200 стр<ок> сжимать то, что требовало бы нормально 2–3 фельетонов. У меня, поэтому, установилась репутация парадоксалиста, хотя я для себя только последователен. Те частные отдельные фельетоны, в том виде, как Вы мне предлагаете, для меня удобнее, пожалуй, не зимой, а в те месяцы, когда я живу у себя в Крыму – т.е. с апреля по ноябрь, т<ак> к<ак> 4 зимних месяца я интересуюсь решительно всем, кроме новых книг. <…>
Какого размера фельетоны подходят Вам? Мне лично статьи меньше 400–450 стр<ок> мало интересны [Волошин 2011, 11].
Тут мы сталкиваемся с проблемой, которая, похоже, начинает уже остро ощущаться в начале ХХ в., когда обилие информации, необходимость оперативных откликов и появление технических возможностей для этого требуют сокращения литературных и других художественных материалов. Гуревич осмысляет это как общее для журналистики явление. Она отвечает Волошину:
Как литератор я слишком хорошо понимаю Вашу потребность в не стесняемой числом строк свободе писания, слишком хорошо знаю на самой себе гнет заранее предустановленного, всегда слишком небольшого размера намеченной статьи. Но, по-видимому, не только газеты, а и толстые журналы в России, как и на Западе, в последнее время идут к тому, чтобы затрагивать как можно больше тем на возможно меньшем пространстве, – и не в моих силах изменить это. В частности «Р<усская> Молва» ни за что не согласится печатать фельетоны более 200-300 строк, и я тем не менее (вероятно, здесь опечатка, и нужно читать: тем менее. – Е.О.) могу добиться чего-нибудь против этого, что литерат<урным> Отделом заведую только временно, за отсутствием других подходящих лиц… [Волошин 2011, 12].
Как видно из переписки, Волошин готов давать с апреля по ноябрь по два фельетона в месяц, но продолжает настаивать на большем объеме: 400–450 строк.
О каких же объемах идет речь? Что представляли собой 200–300 строк газеты 1910-х гг.? Строка стандартной верстки в «Русской молве» вмещала 34–35 знаков с пробелами. Таким образом, 200–300 газетных строк – это 6800–10200 знаков без заголовка и подписи (или, по современным меркам, от 2,5 до 3,7 компьютерных страниц 14 кеглем с одинарным интервалом. Одна такая компьютерная страница составляет 2735 знаков с пробелами). В начале ХХ в. не только в ежедневных газетах, но даже в еженедельниках формируются новые жанровые разновидности литературной журналистики: короткая рецензия, рецензия с элементами реферата; даже литературный портрет уменьшается в объеме против привычного. Приме- ром блестящего владения краткими, или малыми жанрами литературной критики могут служить выступления Эйхенбаума – сначала в еженедельнике «Запросы жизни», а затем в той же «Русской молве». Например, его рецензия на новейшие русские переводы Франсиса Жамма составляет 1295 знаков, или меньше компьютерной страницы. В качестве другого образца приведем заметку Эйхенбаума из «Русской молвы» – до сих пор малоизвестное и, насколько мы знаем, единственное в эти годы публицистическое выступление Эйхенбаума. Оно посвящено событию, о котором писали, кажется, все газеты в начале 1913 г.: душевнобольной Абрам Балашов напал с ножом на картину Репина «Иван Грозный и сын его Иван» и нанес ей три пореза. Картина была довольно быстро отреставрирована, но резонанс этого происшествия в обществе был огромен.
Приведем это выступление Эйхенбаума.
«ИСКУПЛЕНИЕ»
«Картина Репина порезана»… Да, это ужасно. Так жаль ее, так грустно думать, что она ранена. Жаль, как близкого, родного человека.
Но только ли ужасно это? Надо ли делать из этого тему для обывательских вздохов и восклицаний: – «А вы читали?..» – «Да, да! Ужасно! Такую чудную картину!» И затем – «До свиданья!» – «До свиданья!»
Нет, эти вздохи гораздо ужаснее, чем «преступление» Балашова. Да, я говорю прямо: тут не преступление, а жертва . Это – тот крест, который несет и должно нести искусство. Безумец, бросившийся с ножом на картину, любил ее, наверно, больше и святее, чем все мы, ужасающиеся. Он не вынес того противоречия, которое часто, быть может, выносим мы: у нас есть картина Репина «Иоанн Грозный», а кровь все-таки льется . На этом безумии, так жестоко оскорбившем нашу любовь к родной картине, лежит печать иного, не нашего Духа – Духа злобного, печального, отпавшего от божественной гармонии Творца и смеющегося над нашим сладкоречием… Он отринул мудрость художника и отвергся искусства. Он не мог повторять: «Чудная картина!» и идти дальше. Он остановился и возненавидел. Кровь не проливается даром – не только в жизни, но и на картине. Она всегда «вопиет».
Отныне мы будем, опустив голову, проходить мимо этой картины и тихо повторять слова, прекрасные в устах этого незапятнанного кровью убийцы:
«Не надо больше крови…» [Эйхенбаум 1913, 6; Орлова 2019, 120–121].
«Русская молва» немало писала о происшествии: поместила фото картины с тремя следами от ножа, прорезавшего холст насквозь; опубликовала статью, в которой излагалась история порчи произведений искусства в разные времена и в разных странах; упоминала о варварском нападении на картину и в материалах, не имевших отношения к живописи, но свя- занных с реальными фактами насилия. Например, с возмущением сообщалось о некоем капитане Беляеве, который запорол до полусмерти двух человек, а в качестве наказания получил всего «три месяца гауптвахты с ходатайством о снисхождении» [Тау 1913, 3] (вероятно, автор за подписью Тау – это М. Кармина-Читау, попечительница при камере мирового судьи по делам малолетних: она неоднократно выступала в «Русской молве»).
В этом контексте заметка Эйхенбаума читателями 1913 г. воспринималась, вероятно, еще более животрепещущей, чем нами сейчас, а крик безумца, набросившегося на картину, был для них еще понятнее. Как бы то ни было, 1913 г. в российской действительности тогда отнюдь не ощущался как мирный – его образ начал меняться в сознании людей с началом Первой мировой войны. Все последующее лишь углубляло память о нем как о последнем благополучном годе русской жизни. Но в 1913 г. идея назревших перемен во всех сферах русской жизни читается во многих материалах «Русской молвы», газеты беспартийной, либеральной, но при этом далеко не радикальной, умеренно оппозиционной по отношению к правительству.
Можно найти некоторые параллели между позициями Эйхенбаума и Волошина, хотя, конечно, различий больше, и к тому же большая статья Волошина «О смысле катастрофы, постигшей картину Репина» развернута в сторону разговора о художественной ценности репинской картины, которую Эйхенбаум ощущает как «родную». Но для Гуревич (а, по всей вероятности, именно она способствовала сотрудничеству в «Русской молве» Эйхенбаума) позиция Волошина, в данном случае отказывавшего Репину в художественности, была ближе.
Статья Волошина «О смысле катастрофы, постигшей картину Репина» была опубликована в газете «Утро России». Волошин посылает статью Гуревич вместе со своим письмом в качестве примера его «газетной манеры». Он полагает: «…самый взгляд мой на это событие, идущий вразрез со всем, что писалось, будет Вам не безынтересен» [Волошин 2011, 12].
Что давало Волошину возможность думать так? Насколько они с Гуревич раньше знали о существовании друг друга?
По-видимому, лично они не были знакомы: в начале письма Волошин осведомляется, не ошибся ли он в отчестве Гуревич. Он благодарит ее за «обстоятельный и дружелюбный ответ» [Волошин 2011, 12], который для нас остался неизвестен. Мы не можем сказать, читал ли Волошин статьи Гуревич, к тому же недавно собранные в отдельную книгу – «Литература и эстетика. Критические опыты и этюды» (М.: Книгоиздательство «Русская мысль», 1912). Но Гуревич, бесспорно, знала некоторые выступления Волошина-критика. В ее книге по меньшей мере трижды встречается имя Волошина. Первый раз – в главе «Приближенье кризиса»: это обзор современной литературы, в котором одна из четырех частей посвящена недавно начавшему выходить журналу «Аполлон».
Отзыв о журнале со стороны Гуревич, в 1909 г. уже известной и, можно сказать, профессиональной журналистки, в недавнем прошлом владелицы и редактора «Северного вестника», неоднозначен. Она отмечает появление «Аполлона» как событие бесспорно знаменательное, но замет- ки С. Ауслендера о петербургских театрах и преамбула Волошина к стихам Черубины де Габриак вызывают у нее нескрываемую иронию: «…как оценить столь отдающую дешевым маскарадом, деланно-таинственную, деланно-торжественную заметку М. Волошина под названием “Гороскоп Черубины де Габриак”, – заметку, которая служит… чем-то вроде рекламы к тут же напечатанному циклу стихотворений начинающей поэтессы, по-видимому не лишенной таланта, но закутавшей свои лирические переживания густым флером католической символики, в подражание некоторым знаменитым декадентам-католикам Франции» [Гуревич 1912, 104].
Как видим, проницательная Гуревич чуть ли не близка к разгадке волошинской мистификации. Во всяком случае, нечто нарочитое она разглядела в его предисловии к стихам Черубины. Однако оценивая журнал в целом и отдавая ему должное, она упоминает статью Волошина «Об архаизме в русской живописи» совсем с другой оценкой:
…Журнал дает обещания не малые и не легко исполнимые, особенно в настоящий момент, когда оторванный от органической жизни, измученный самим собою индивидуализм зачастую является эфемерным в самых своих переживаниях; когда даже у крупных талантов ощущения нередко вызываются лишь гипнозом мыслей, представлений; когда та или иная поза является для многих уже безвыходной формой существования, – потому что люди утратили дар непосредственности. Куда уйти от самого себя? Как выйти из порочного круга собственными силами?.. И редакция «Аполлона», как мы увидим, в общем не вышла из этого порочного круга.
Однако всякая самокритика, как бы далеко от нее ни было до возрождения, имеет свою ценность. И такого рода ценные страницы несомненно имеются в «Аполлоне». Они напоминают нам в то же время обо всем, что было не эфемерного – составляющего положительный вклад в процесс нашего литературного и художественного развития – в том самом «декадентском» периоде литературы, над преодолением которого хочет работать «Аполлон». Уже и самое название журнала и характер его внешности, вместе с теми комментариями, которые мы находим на эту тему в редакционном «вступлении», в статье Александра Бенуа «В ожидании гимна Аполлону» и в статье М. Волошина «Об архаизме в русской живописи», заставляют нас вспомнить о том расширении культурного кругозора, которым ознаменовалась декадентская эра нашего существования – о тех новых интересах и знаниях в области философии, истории религии, мифологии, филологии, археологии, истории искусства, которые были внесены в литературу русскими, как и западноевропейскими декадентами [Гуревич 1912, 99–100].
Как видим, здесь статья Волошина названа в числе лучших. За этим следует высокая оценка статьи И.Ф. Анненского «О современном лиризме». И в третий раз Гуревич упоминает Волошина в главе «Мечты и мысли о новой драме». Вот в какой ряд ставит она волошинские работы о театре: «…между тем мечта о возрождении театра живет и волнует современные умы. Никогда еще наша литература не занималась в такой степени теоретическими вопросами театра. Вяч. Иванов, Сологуб, Брюсов, Блок, Чулков, Волошин и другие – все они писали о театре – не о драме, а о самом театре, его сущности и его коренном преобразовании. <…> Но чувствуется, что все эти мысли родились где-то вдалеке от театра, в стороне от органического пути его развития» [Гуревич 1912, 162–163]. Гуревич полемизирует с глубоко ложной, по ее мнению, идеей преображения театра у символистов, в особенности с фантазиями Вяч. Иванова о разрушении рампы, о соборном экстатическом действе. Но на статьях Волошина Гуревич здесь специально не останавливается.
И, однако, Волошин не ошибся, предположив, что его отношение к событию, которое в начале 1913 г. горячо обсуждалось всеми, – нападение на картину Репина – не вызовет отторжения у Гуревич, а может быть, даже будет близко ей. Она солидаризируется с позицией Волошина и пишет ему: «Благодарю Вас за присланный фельетон “Утра России”, он был тем более интересен мне, что совершенно выразил мое собств<енное> мнение, имеющее свои истоки в первых, детских еще впечатлениях от картин Репина» [Волошин 2011, 13].
Поясним жанровое определение, данное автором письма статье Волошина: любой, не обязательно сатирический материал, по стилю отличавшийся от обычных газетных выступлений или содержавший элементы художественности, даже безотносительно его подвального положения на газетной полосе, в начале ХХ в. называли фельетоном.
Как справедливо заметил в наши дни А.В. Лавров, в целом статья Волошина о картине Репина не вызвала сколько-нибудь большого резонанса. Позицию Волошина вполне разделял К.Д. Бальмонт, который, как сообщала Волошину Е. Бальмонт, «обеими руками подписывается» под статьей [Купченко 2002, 312], некоторые другие.
Но выступление Волошина на диспуте под эгидой группы «Бубновый валет» 12 февраля 1913 г. в Политехническом музее в присутствии Репина породило в обществе настоящий скандал. Волошин вскоре оказался в изоляции от газет и журналов. Большинство их либо осудило собственно позицию Волошина, либо сочло его доклад бестактным и несвоевременным. Гуревич и «Русская молва» относятся к немногим примерам солидарности с Волошиным в его протесте против жестокости в искусстве. В этих условиях «Русская молва» 3 марта поместила «заметку о двух диспутах “Бубнового валета” и анонс выходящей “на днях” брошюры Волошина о Репине» [Купченко 2002, 316], тем самым проявляя солидарность с позицией Волошина относительно картины.
Одновременно с этим с января до марта идет переписка Волошина с Гуревич. Не вся она сохранилась. Помимо предполагаемых материалов дважды в месяц (точная договоренность о сроках и объемах, как можно думать, не была достигнута), Волошин предлагает статью «о берлинском “Freya-Bund” (Общество физическ<ого> и нравственного оздоровления посредством наготы)» [Волошин 2011, 11]. Редакция приняла это предложение, но статью Волошин так и не представил – как объяснял он, извиняясь перед Гуревич, из-за хлопот, связанных с изданием брошюры «О Репине».
Но Гуревич приветствовала идею Волошина написать другую статью – «о будущей трагедии в связи с Достоевским» – после его участия во втором диспуте – «Кризис театра» – 14 февраля в Политехническом музее [см.: Волошин 2011, 15]. Хотя сама Гуревич уже не руководила литературным отделом, но приняла живое участие в судьбе волошинской статьи.
Итак, главным событием сотрудничества Волошина в «Русской молве» стала статья о Достоевском – его единственная публикация в этой газете. Какое же место занимает эта статья в волошинском творчестве и что означала она в контексте газеты?
Известно, что Достоевский был одним из любимейших авторов Волошина. Если выстроить по хронологии написанное им о Достоевском в начале 1910-х гг., получится такая последовательность.
В 1910 г. выходят две рецензии на постановку Московским художественным театром «Братьев Карамазовых»: «“Братья Карамазовы” в постановке Московского художественного театра» (Ежегодник императорских театров. 1910, вып. 7) и «Имел ли Художественный театр право инсценировать “Братьев Карамазовых”? – Имел» (Утро России. 1910, 22 октября, № 280) [см.: Волошин 1988, 363].
Третьей публикацией стал обзор «Достоевский во Франции» (1911 г., газета «Московская весть»). Здесь Волошин констатирует «новое понимание» французским обществом не только Достоевского, но и самой России. Этот небольшой материал важен для понимания того, как много значила в сознании Волошина связь между Францией и Достоевским. С.А. Ки-бальник в своей статье напомнил слова Волошина, относящиеся к 1905 г.: «Каким бы я мог быть великолепным французом. В конце концов, единственное, что соединяет меня с Россией, – это Достоевский. Может быть, потому, что я его дольше всего отражал в себе и в самый восприимчивый период моей жизни…» [Кибальник 2017, 81; Волошин 2006, 207].
И, наконец, статья «Русская трагедия возникнет из Достоевского» – она представляется центральной в этом ряду. Сегодня она часто прочитывается и безотносительно того, что замысел ее возник, вероятно, при подготовке к диспуту о театре в Политехническом музее или как результат выступления Волошина на этом диспуте. Мы можем и не помнить, что Гуревич горячо поддержала Волошина в его замысле написать для «Русской молвы» такую статью и, как было сказано выше, уже уйдя из литературного отдела газеты ради журнала «Русская мысль», тем не менее способствовала принятию статьи редактором.
Итак, как мы знаем, статьи из «Ежегодника императорских театров» и из «Русской молвы» вошли в третью книгу «Лики творчества». Они составляют своего рода диптих «Достоевский и русская трагедия». В «Лики творчества» не вместились рецензия из «Утра России» и обзор из «Московской вести».
Напечатанные в российской периодике статьи Волошина о Достоевском относятся к разным жанрам (статья, рецензия, обзор), опубликованы в различных по типу изданиях, однако литературная, театральная и художественная критика оказывалась органичным родом деятельности Волошина и подготавливала создание его книг критики «Лики творчества».
Позиция Волошина в вопросе о праве театра на постановку романа была, пожалуй, беспримерно широкой. В наше же время исследователи скорее склонны понимать все содержание волошинской статьи расширительно и даже символически. Удивительным образом в 1913 г. Волошин предвосхищает мысли М.М. Бахтина о своеобразии романов Достоевского. Волошин пишет: «Ничего не видно: ни лиц, ни фигур, ни обстановки, ни пейзажа – одни голоса, спорящие, торопливые, несхожие, резко индивидуальные, каждый со своим тембром, каждый выявляющий сущность своей души до конца» [Волошин 2007, 205]. Вообще, по мысли Волошина, «в романах Толстого и Достоевского лежат неисчерпаемые рудники трагического» [Волошин 2007, 209]. Об этих статьях Волошина в наше время написано уже немало.
Так что сотрудничество Волошина в газете «Русская молва» было недолгим (как и само существование газеты), но результативным. Единственная его опубликованная там статья теперь видится нам центром и вершиной того, что было написано им о Достоевском в начале 1910-х гг. «М.А. Волошин был, безусловно, “человеком Достоевского” (а не Чехова или Толстого). <…> роль Достоевского в жизни и творческом развитии Волошина трудно переоценить», – констатирует С.А. Кибальник [Кибальник 2017, 81]. В годы «русской усобицы» (а впрочем, еще со стихотворения «Ангел мщения» 1906 г.) образы романов Достоевского и его собственная личность и судьба становятся центром многих стихотворений и поэмы «Россия».
Остается ответить на вопрос, какое место занимает статья Волошина в контексте газеты «Русская молва». Для исследователей творчества Волошина в XXI в. его статья из «Русской молвы» – самый авторитетный (если не единственный) текстологический источник. Как уже говорилось выше, в собрании сочинений Волошина эта статья, как и некоторые другие, печатается по газетной публикации. А для историков журналистики эта публикация – лишнее подтверждение того, что «Русская молва» была одним из интереснейших качественных периодических изданий начала ХХ в. и что вполне возможно говорить о газете как о реальном «коллективном» участнике литературного процесса.
Список литературы М.А. Волошин в газете "Русская молва"
- Волошин М. Лики творчества / изд. подг. В.А. Мануйлов, В.П. Купченко, А.В. Лавров. Комм. А.В. Лаврова. Л.: Наука, 1988. 848 с.
- Волошин М. Собрание сочинений. Т. 10. М.: Элис Лак, 2011. 830 с.
- Волошин М. Собрание сочинений. Т. 5. М.: Эллис Лак, 2007. 926 с.
- Волошин М. Собрание сочинений. Т. 7. Кн. 1. М.: Эллис Лак, 2006. 542 с.
- Гуревич Л. Литература и эстетика. Критические опыты и этюды. М.: Русская мысль, 1912. 321 с.
- Кибальник С.А. Философский и литературный интертекст у Достоевского // Что и как читали русские классики? (От круга чтения к стратегиям письма). Коллективная монография. СПб.: Пушкинский Дом, 2017. С. 9-54.
- Купченко В.П. Труды и дни Максимилиана Волошина. Летопись жизни и творчества. 1877-1916. СПб.: Алетейя, 2002. 494 с.
- Орлова Е.И. Литературная судьба Н.В. Недоброво. М.: ФЛИНТА, 2019. 427 с.
- Тау. Притупление // Русская молва. 1913. 30 янв. № 50. С. 3.
- Эйхенбаум Б. Искупление // Русская молва. 1913. 20 янв. № 40. С. 6.