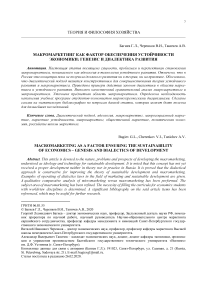Макромаркетинг как фактор обеспечения устойчивости экономики: генезис и диалектика развития
Автор: Багиев Георгий Леонидович, Черенков В.И., Таничев А.В.
Журнал: Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета @izvestia-spgeu
Рубрика: Теория и философия хозяйства
Статья в выпуске: 3 (123), 2020 года.
Бесплатный доступ
Настоящая статья посвящена сущности, проблемам и перспективам становления макромаркетинга, понимаемого как идеология и технология устойчивого развития. Отмечено, что в России эта концепция пока не получила должного развития ни в теории, ни на практике. Обосновано, что диалектический подход является конструктивным для совершенствования теории устойчивого развития и макромаркетинга. Приведены примеры действия законов диалектики в области маркетинга и устойчивого развития. Выполнен качественный сравнительный анализ микромаркетинга и макромаркетинга. Уточнена предметная область макромаркетинга. Определена необходимость наполнения учебных программ студентов-экономистов мировоззренческими дисциплинами. Сделаны ссылки на значительную библиографию по вопросам данной статьи, которая может быть полезна для дальнейших исследований.
Диалектический подход, идеология, макромаркетинг, макросоциальный маркетинг, маркетинг устойчивости, микромаркетинг, общественный маркетинг, политическая экономия, российские школы маркетинга
Короткий адрес: https://sciup.org/148320177
IDR: 148320177
Текст научной статьи Макромаркетинг как фактор обеспечения устойчивости экономики: генезис и диалектика развития
Маркетинг (вернее его американская школа) вошел сегодня, можно сказать, не то, чтобы в мафусаи-ловский, но в весьма почтенный для современного человека (да и для жизненного цикла научных парадигм) возраст. Можно подсчитать, что, начиная со «столетнего юбилея маркетинга» [Черенков, 2003]; этот возраст в 2020 г. составляет (по разным свидетельствам) около 115-117 лет. В то же время, российский маркетинг чуть ли не втрое моложе. Считается, что московская школа маркетинга (например, Г. Абрамишвили, И. Герчикова, В. Демидов, П. Завьялов, С. Карпова, И. Кретов, И. Скоробогатых, В. Соловьев) [Попов, 2011; XX лет…, 2016], импульс к развитию которой дала Секция маркетинга при ТПП СССР, начала активно формироваться в 1976 году [Ковалева, 2017].
Что касается Санкт-Петербургской школы маркетинга (например, О. Третьяк, Д. Баркан, О. Новиков, Г. Багиев, В. Черенков, И. Аренков, Ю. Соловьева, В. Татаренко, В. Томилов, И. Успенский, О. Юлдашева, В. Наумов и р.д.) [Иванов, 2011; Багиев Г., 2016], то деятельность этой школы можно без преувеличения считать прорывной для развития маркетинга в России, поскольку эта школа (представленная кафедрой маркетинга Санкт-Петербургского государственного экономического университета) впервые, скрупулезно проработав, во взаимодействии с учеными старейшего (существует с 1477 г.) в Швеции и всей Скандинавии Уппсальского университета инновационные (в отличие от американской школы маркетинга сделок) достижения скандинавской школы маркетинга (известная группа IMP), системно ввела в научный оборот российского маркетинга концепцию маркетинга отношений (relationship marketing) и маркетинга взаимодействия (interaction marketing).
Более того, результатом этой научной деятельности явился объемный учебник по маркетингу [Багиев и др., 1999], где в его основу, также впервые в России, была положена концепция маркетинга взаимодействия. Это было правильным и своевременным решением, поскольку ранее было обосновано [Bagozzi, 1978], что основной и исходной категорией маркетинга является обмен, а маркетинг per se представляет собой наиболее распространенный, можно сказать повсеместный, социальноэкономический феномен современного капиталистического общества; порою несколько модифицируемый в зависимости от национальных социокультурных особенностей и уровня развития той или иной страны.
Несмотря на более чем вековой «возраст» маркетинга, в этой статье подробно останавливаемся только на периоде XXI в., или «Маркетинге 3.0» [Багиев и др., 2018], когда происходит становление и концептуализация маркетинга устойчивости [Багиев, Черенков, 2018], поскольку предыдущий период эволюции маркетинга, на наш взгляд, получил достаточно подробное рассмотрение [Черенков, 2004; Третьяк, 2006]. Правильно выбранные критерии этой эволюции помогают лучше понять, как сущность всеобщего феномена капиталистического общества – маркетинга, так и основные характеристики того его вида, потребность в котором заявлена принятым ООН и поддержанным национальными правительствами курсом на устойчивое развитие, которое предстает в последние годы в виде концепции инклюзивно-устойчивого развития [Georgescu, Herman, 2019].
Период «Маркетинг 3.0» (в терминах Котлера) представил весьма существенную рамификацию «обновленных» маркетинговых концепций и соответствующей маркетинговой терминологической парадигмы [Багиев, Черенков, 2018]. Логика развития маркетинговой мысли показала, что, наряду с совершенствованием технологии коммерческого (прикладного) маркетинга, представляющего собой драйвер неустойчивого развития общества потребления, поэтапно концептуализировалась оппозиционная ветвь – макромаркетинг, как идеология и технология устойчивого развития.
Попутно заметим, что в терминологической парадигме, соответствующей рассмотренным маркетинговым концепциям, имеет место существенная разноголосица [Багиев и др., 2018], которая затрудняет их усвоение особенно среди студентов и нового поколения маркетингового сообщества России. Нехватка общеметодологической подготовки у российского поколения экономистов, в основном выращенного на Economics, привело к необходимости дистанцировать «макромаркетинг» от «микромаркетинга», поскольку ложное понимание только количественного (но не качественного) различия меж- ду ними вызвано механистическим переносом количественного различия между членами морфологически близкой пары терминов – «макроэкономика» и «микроэкономика».
Кроме того, решено представить развитие двух расходящихся полярных ветвей маркетинга: традиционный (коммерческий), или микромаркетинг, и макромаркетинг, который в свете становления и реализации концепции устойчивого развития предлагается именовать «макросоциальный маркетинг» (macro-social marketing) [Kennedy, 2016]. Авторам представилось также необходимым подчеркнуть идеологическую сущность маркетинговой деятельности, предопределяющей в обществе потребления покупательское поведение и его связь с коммерческим маркетингом [Сорокин, Медведева, 2015]. Критически оценивающие перспективы устойчивого развития в рамках общества потребления авторы [Ghadirian, 2010] заключают, что «современное глобальное общество потребителей, движимое маркетингом [курсив наш – авт .], нацелено на изменение материальных желаний и удовлетворение инстинктивных аппетитов, которые часто отвергают достижение внутреннего удовлетворения, определяемого естественными ценностями». Поэтому макромаркетинг представляется в данной статье как идеологическая оппозиция микромаркетингу. Конечным итогом статьи видится переход от развития маркетинговой теории к некоторым практическим замечаниям, касающимся современной высшей школы и проблем воспитания студентов, которым определять будущее России.
Диалектический подход к разработке теории маркетинга устойчивого развития
Несмотря на то, что общие положения об устойчивом развитии, концепция которого все активнее продвигается в соответствии с формулой «инклюзивно-устойчивое развитие» (inclusive and sustainable development) [Inclusive…, 2012], заполонили все отечественные журналы, данная статья не может обойтись без уместной, связанной с развитием маркетинга устойчивости [Багиев, Черенков, 2018], информации об устойчивом развитии, идеологическую и технологическую базу которого составляет макромаркетинг. Тем более, что частотность откликов на «устойчивое развитие» в Google составляет 3,52 млн (январь 2020), а для «sustainable development» – 78,1 млн, что свидетельствует о несокраща-ющемся интерес к этой глобальной теме, как за рубежом, так и в России.
Внутренняя противоречивость имманентной концепции устойчивого развития предопределяет применение диалектико-логического метода исследования [Миропольский, 2016], поскольку этот феномен, в предлагаемых философских терминах [Мантатов, Мантатова, 2017] «выражает диалектику вселенского бытия как единства противоположностей: устойчивости и изменчивости, содержания и формы, порядка и хаоса и т.д.». Действительно, если обратиться, например, к понятию равновесия по Парето, то замкнутая геосоциоэкономическая система (ГСЭ-система) макроэкономического уровня [Черенков и др., 2019] никоим образом не может обеспечить автоматическое удовлетворение интересов всех мегадоменов ГСЭ-системы – Profit, People, Planet [Elkington. 1994] – за счет «невидимой руки» рынка.
Семантическая неадекватность русскоязычного термина «устойчивое развития» оригинальному «sustainable development» критиковалась слишком часто [Багиев и др., 2018], чтобы еще раз на ней останавливаться. В отличие от обобщённо-декларативного определения устойчивого развития, академик Н.Н. Моисеев предложил [Моисеев, 1996] понимать устойчивое развитие как стратегию «перехода общества к состоянию, способному обеспечить его коэволюцию с биосферой». Следовательно, ГСЭ-система должна – в целях ее сохранения и развития – обнаруживать и разрешать противоречия, понимаемые как диалектические, разрешение которых суть основа всякого развития. К сожалению, диалектика развития стала terra incognita для современных студентов-экономистов в силу состава содержания изучаемых ими курсов. В то же время, концепция маркетинговой экологии [Majaro, 1993, p. 41] основана на обеспечении динамического равновесия, реализуемого как цепь постоянного обнаружения и разрешения противоречий путем образования новых форм хозяйственной деятельности, социальных инноваций, институтов.
Верно сказано [Кожахметов, Кадирбекова, 2011], что «динамическое равновесие относительно и практически никогда не достигается, вернее, достигается диалектически – на основе непрерывных нарушений и восстановления равновесия». Важнейшим подходом к научному прогнозированию развития социально-экономических систем и организации управления их развитием остается раскрытие диалектики устойчивости и изменчивости в конкретных процессах этого развития [Гнатюк, Никонов, 2010]. Авторов привлекает сопоставление диалектики устойчивого развития с понятием гармонии [Мантатова, 2011], которая есть внутренняя связь, скрытая согласованность, то есть равновесие, получающееся в результате «схождения» и «расхождения» противодействующих сил» (по Гераклиту).
В более поздние времена (1884) системная «гармония» (сохранение системы как таковой) была сформулирована при помощи принципа Ле Шателье, согласно которому, если на систему, которая находится в состоянии динамического равновесия, оказывать внешнее воздействие, то в системе будут протекать процессы, направленные на уменьшение этого внешнего воздействия. Например, в некоторой макроэкономической национальной ГСЭ-системе внешним воздействием могло бы считаться (1) ухудшение национальной экологической обстановки, (2) глобальное потепление или же введение (геополитических) экономических санкций. В результате, для сохранения своего гомеостаза ГСЭ-система вынуждена разрабатывать и внедрять национальные экологические программы, что должно составлять мейнстрим национальной политики (инклюзивно-) устойчивого развития. Уместно заметить, что подобная деятельность государства входит в предметную область макромаркетинга [Shulz, 2007].
Приведем один из вариантов представления совокупности общих принципов развития социальных систем, разработанных для повышения их устойчивости [Белояров, 2011]: (1) создание противоположностей возникающим процессам, которые не имеют противодействия и тем самым нарушают равновесие системы в целом; (2) поддержание равновесия противоположных сил и процессов; (3) устранение диспропорций и антагонистических противоречий; (4) ограничение и контроль процессов самоорганизации; (5) планирование подготовки условий для необходимых качественных изменений организации общества, чтобы свести к минимуму влияние случайности. Несмотря на то, что приведённая совокупность принципов устойчивого развития системы скорее отвечает на вопрос «Что надо сделать?», чем на «Как это сделать?» ее следует считать структурой, подходящей для применения диалектического подхода к исследованию проблем устойчивого развития, где центральное место занимает макромаркетинг в различных ипостасях в зависимости от этапа его эволюции.
Чтобы подчеркнуть естественность применения диалектического подхода для развития теории устойчивого развития и макромаркетинга, рассмотрим проявление действия закона отрицания отрицания в свете устойчивого развития. На первом этапе примитивные общества, не располагавшие мощной технологической базой, были вынуждены жить в гармонии с природой (например, вводились запреты/ограничения на охоту и рыбную ловлю в зависимости от времени года и воспроизводственного цикла). На следующем наблюдалось практическое отрицание запретов в рамках ложной технократической концепции «Человек – царь природы». На современном этапе происходит осознанное принятие стандартов экологического поведения в рамках концепции устойчивого развития.
В конечном итоге, диалектические отношение между мегадоменами ГСЭ-системы органически требуют диалектического метода исследования [Jabareen, 2008; Fuchs, 2017]. Свидетельства действия этого же закона диалектики в условиях изменяющейся маркетинговой среды – основные изменения: (1) тотальная глобализация; (2) распространение феномена гиперконкуренции; (3) Интернет как важнейшее достаточное условие глобализации (см. табл. 1).
Таблица 1
Пять этапов маркетингового цикла (действие закона отрицания отрицания на примере эволюции маркетинговой парадигмы)
|
Этап эволюции |
Основные характеристики маркетинговой парадигмы |
|
Ремесленный |
Кастомизированные маркетинговые коммуникации типа О2О (one-to-one – один-одному) Маркетинг отношений |
|
Индустриальный |
Маркетинговые коммуникации типа О2М (one-to-many – один-многим) Ориентация компаний на товар Маркетинг = менеджмент продаж + продвижение |
|
Массового потребления |
Маркетинговые коммуникации типа О2М Ориентация компаний на потребителя Массовый маркетинг |
|
Предложение ценности |
Маркетинговые коммуникации типа О2F (one-to-few – один-немногим) Дифференцированный маркетинг |
|
Цифровой |
Кастомизированные маркетинговые коммуникации типа О2О Маркетинг отношений |
Составлено авторами на основе [Fuchs, 2017].
Микромаркетинг и макромаркетинг: действие закона перехода количества в качество
В контексте более обширной, чем прагматичное рыночное место, социально-экономической системы национального или регионального уровня, маркетинг должен был бы активно изучаться и преподаваться с комплексным учетом социально-экономических (а в дальнейшем и энвиронментальных) условий и социально-экономических последствий на макро- и мезоуровнях маркетинговой среды [Черенков, 2016], на которые (помимо природы) оказывает влияние внутренняя и внешняя политика государства, что, бесспорно, включается в предмет макромаркетинга [Shultz, 2007].
Предметная область макромаркетинга давно характеризуется [Dixon, Wilkinson, 1982, p. xv] как «маркетинг в целом, включая все работы, выполняемые всеми участниками [ маркетинговой системы – авт.], и все последствия этих действий, оказываемые на нас» [ общество и окружающую среду – авт.]. Добавим en pendant развернутое описание предметной области микромаркетинга [там же, pp. xv-xvi], в которую включаются «не все участники, а конкретные группы участников», по каждой предметной подобласти, что составляет отдельные маркетинговые дисциплины, а именно: (1) покупательское поведение (множество покупателей-потребителей); (2) маркетинговые каналы (маркетинговые посредники и их взаимодействия); (3) маркетинг-менеджмент (внутрифирменная маркетинговая деятельность).
Можно полагать, что сказанное внятно свидетельствует о том, что макромаркетинг и дисциплины микромаркетинга соотносятся, соответственно, как общее и частное. Причем здесь же следует сделать замечание, что главное различие между этими дисциплинами имеет не столько количественную, сколько качественную природу, что подчеркивается тем (см. выше), что в предметную область макромаркетинга включаются все последствия маркетинговых действий (на уровне микромаркетинга), оказывающих воздействие на общество и окружающую среду. Известно [Bagozzi, 1977; McCarthy, 1978], что дистанцирование предметов этих дисциплин выполнено достаточно четко и довольно давно – полвека тому назад.
Тем не менее, в случае России конвенционального понимания такой качественной дихотомии маркетинга не наблюдается, а ее разрешение для широкого круга лиц является актуальным и сегодня. Тем более, что собственно «макромаркетинг» весьма скупо представлен в учебниках по маркетингу (обычно переводных) и соответствующих университетских курсах; равным образом, весьма скудно откликается на «макромаркетинг» поисковая машина «Яндекс» (около 36 тыс. откликов в начале февраля 2020 г.); для сравнения: число откликов Google на «macromarketing» – около 266 тыс.
Впрочем, не все так хорошо с макромаркетингом и за рубежом. Так, в рассчитанной на студентов книге [Marketing Theory…, 2010] весьма известных маркетинговых авторов – под редакцией Майкла Бейкера и Майкла Сарена – макромаркетинг присутствует лишь в библиографии как название цитируемого источника (Journal of Macromarketing) . Диапазон российских суждений о сущности макромаркетинга весьма обширен. Есть, на наш взгляд, довольно странные: например:
-
• «маркетинг, занимающийся продвижением товаров от производителя к потребителю, включая участие в процессе производства всех участников производства данного товар» [Словарь бизнес-терминов – Академик.ру, 2001] – непонятно, в чем здесь отличие от «просто маркетинга»;
-
• «система хозяйственной деятельности в рамках относительно замкнутого рынка по направлению потока товаров от производителя к потребителю, в которой предусматривается участие в процессе производства всех производителей товара на паритетных началах и которая содействует удовлетворению потребностей общества в товарах и услугах» [Большой экономический словарь – Ака-демик.ру, 2001] – здесь появляются релевантные «интересы общества», но вызывают сомнения «система хозяйственной деятельности», а также стремление свести всех маркетинговых стейкхолдеров к совокупности «производителей товара»;
-
• как совсем маргинальный случай, можно упомянуть такое университетское (ОГУ им. Ф.М. Достоевского) издание [Чертыковцев, 2017], где после многообещающей аннотации: «В учебнике изложены современные концепции, задачи и подходы маркетинга к управлению социальноэкономическими системами, дуалистическая взаимосвязь общества, человека и маркетинга», – о макромаркетинге даже не упоминают. Дальнейшее изложение заполнено проблемой устойчивости и ее связью с маркетингом. Однако оно излишне технократично и, на наш взгляд, ближе к понятию устойчивости по Ляпунову, чем к концепции устойчивого развития, получившей широкую известность после известного доклада «Our Common Future».
Поскольку коннективизм [Гуреева, Козьмина, 2014] является доминантой сегодняшнего поколения студентов, черпающих информацию почти исключительно из Интернета, искажающее влияние подобных определений на их формирующийся критерий самокомпетентности (self-reference criterion) [Cateora, Graham, 1999, р. 12–14] вполне может обеспечить негативный вклад в их мировоззрение и процесс национально значимой социализации [Черенков, Черенкова, 2018].
На более высоком уровне понимания макромаркетинга в России можно обнаружить достаточно глубокую проработку концепции и предназначения макромаркетинга [Розанова, Шубенков, 2009]. Так, положение о том, что макромаркетинг представляет собой «вид маркетинга, помогающий вырабатывать государственную политику в определенных сферах жизнедеятельности общества» [там же] можно отнести к определению целевой функции макромаркетинга . В цитируемой статье абсолютно верно определены макро- и мезо- уровни макромаркетинговой активности (национальный и региональный, куда можно было бы добавить «муниципальный»), показана межотраслевая, комплексная, системная природа макромаркетинга.
Верное понимание сущности макромаркетинга можно обнаружить и в русскоязычной части Интернета [Маркетинговый словарь], хотя здесь обнаруживается просто вполне прилично сделанный перевод a lettre статьи «Macromarketing» [ https://en.wikipedia.org/wiki/Macromarketing ]. Заметим, что Интернет может дать противоречивые сведения. Так, имеются российские статьи, где макромаркетинг признается действенным инструментом государственного регулирования [Петросян, 2011], а в украинской статье [Maslennikov, Lenska, 2017], государственное регулирование макроэкономической среды отражено лишь в названии, а «макромаркетинг» даже не упоминается в собственно тексте статьи.
Вольное толкование макромаркетинга в русскоязычном Интеренете не прекращает удивлять. Так, оказывается, что «если собственником земли является государство, то данный вид маркетинга относится к макромаркетингу» [ https://mybiblioteka.su/tom2/5-84445.html ] или «макромаркетинг (в некоторых источниках – массовый маркетинг) – это целостная стратегия маркетинга, служащая для охвата как можно большей части рынка» [ https://psyera.ru/makromarketing-i-mikromarketing_7187.htm ]. В связи с тем, что странных определений макромаркетинга в России «не счесть» предлагаем читателям сравнение основных характеристик этих категорий (табл. 2).
Таблица 2
Сравнительные характеристики (микро)маркетинга и макромаркетинга
|
Маркетинг* – это деятельность, множество институтов и процессов для создания, распространения, доставки и обмена предложений, которые имеют ценность для покупателей, клиентов, партнеров и общества в целом** [ https://www.ama.org/the-definition-of-marketing-what-is-marketing ] |
Макромаркетинг – система научных взглядов и практической деятельности, которая имеет возможность понимания, объяснения и прогнозирования тех эффектов, которые маркетинговая система может иметь и имеет [воздействуя на геосоциоэкосистему – авт .], в современном мире [Wilkie, Moore, 2006] |
|
управленческая ориентация |
социо-культурная или политическая ориентация |
|
концентрация на обмене или сделке, при исключении внимания к более широкой системе маркетинга |
концентрация на рыночном месте в целом с особым вниманием к системам сделок, а не на отдельных обменах |
|
основная единица анализа – фирма или покупатель |
основная единица анализа – рынок в целом и/или маркетинговая система |
|
теоретическая база – микроэкономика или теория фирмы (неоклассическая экономическая теория) |
теоретическая база – макромаркетинг, как система взаимодействия между всеми компонентами агоры в целом, а не только диад «продавец – покупатель» |
|
допущение: существование однородного спадающего спроса и движения рынка к точкам естественного равновесия |
допущение 1: быстрое изменение маркетинговой среды, ускоряемое за счет развития технологий, что не соответствует допущению о равновесии; допущение 2: нереальность рыночного равновесия, поскольку маркетеры стремятся к несовершенству рынка, что (в частности, за счет влияния бренд-капитала и монопольной силы) приводит к ценовой дискриминации |
Примечания: * термины «маркетинг», «микромаркетинг», «традиционный маркетинг» и «коммерческий маркетинг» используются в тексте настоящей статьи как синонимы; ** (siс!) абсолютно политэкономически нейтральное определение.
Источник: аналитическая компиляция авторов из [Mittelstaedt et al., 2006], за исключением определений маркетинга и макромаркетинга в первой строке.
Очень четко предметная область макромаркетинга была определена (1981) в обращении к целевой аудитории специализированного журнала Journal of Macromarketing , которое фактически конституирует макромаркетинг как особую научной дисциплину [Fisk, 1981], а именно: (1) маркетинговая технология обеспечения поддержания жизнедеятельности общества; (2) маркетинговые средства достижения необходимых качественных и количественных характеристик целей жизни; (3) маркетинговые технологии мобилизации и распределения ресурсов общества и (4) выявление последствий маркетинговой деятельности (побочные эффекты) за счет преднамеренных или непреднамеренных действиях маркетеров [Dixon, 1978].
Завершая эту ретроспективу развития макромаркетинга за рубежом, согласимся с мнением [Meler, Magas, 2014], что маркетинг устойчивости [Багиев и др., 2018], скорее всего, должен опираться на систему понятий/категорий именно макромаркетинга, так как макромаркетинг – это исследование маркетинговых процессов, видов деятельности, институтов и результатов, рассматриваемых в весьма широком диапазоне уровней и направлений: страна, регион, мегаполис в свете социокультурных, политических и экономических взаимодействий различных акторов (маркетинговых стейкхолдеров) различного уровня (национального, регионального, муниципального), как коммерческой, так и некоммерческой природы [Meler, Magas, 2014].
Теоретические основы макромаркетинга – в которых без особого труда обнаруживаются признаки того, что ранее (2018) было предложено терминировать как «маркетинг устойчивости» [Багиев, Черенков, 2018; Багиев и др., 2018] – заложил явно опередивший свое время Роу Олдерсон, который первым привлек внимание к важности «вписаться в окружающую среду» и антиципировал идеи, которые позже расцвели под заголовками о защите окружающей среды, экологическом императиве, системном видении и (в более общем плане) макромаркетинге [Wooliscroft, 2006]. Несмотря на то, что авторы обосновали уместность применения именно термина «маркетинг устойчивости» (sustainability marketing) [Багиев и др., 2018], авторы видят целесообразным и находят тому подтверждение за рубежом [Kennedy, 2016], применение иного термина, более четко определяющего суть маркетинга как идеологии и технологии устойчивого или инклюзивно-устойчивого развития.
Дело в том, что термин «маркетинг устойчивости» включает в себя многократно критиковавшуюся как неадекватную терминируемому социально-экономическому феномену «устойчивость» [Багиев и др., 2018]. В то же время, макромаркетинг несет на себе семантическое «родовое пятно» макроэкономики и отражает лишь количественную характеристику данного феномена. Сегодня термин «мак-росоциальный маркетинг» в контексте устойчивого развития продвигается не только его создателем, Анной-Марией Кеннеди [Kennedy, Parsons, 2012; Kennedy, 2016; Kennedy, et al., 2017]. По сути, он уже довольно прочно вошел в терминологическую парадигму макромаркетинга.
Так, в последнем по времени (2019) выпуске Трудов Ежегодной конференции макромаркетингово-го общества (Macromarketing Society) [Proceedings…, 2019] термин «macro-social marketing» встречается 35 раз. Авторы собираются в ближайшее время вернуться к анализу становления и сущности этой формы маркетинга как наиболее подходящей для устойчивого развития гипотетической «пострыночной экономики» [Рязанов, 2019, c. 73].
Заключение. Задачи и перспективы макромаркетинга в России
Обосновав в данной статье место и роль макросоциального маркетинга в реализации концепции устойчивого развития, хотелось бы обратить особое внимание на скудную представленность в России не только инновационной концепции макросоциального маркетинга, но и макромаркетинга в целом. Наши неформальные интервью со студентами в четырех университетах Санкт-Петербурга показали, что дихотомия (микро-) маркетинга и макромаркетинга воспринимается – по аналогии, с микроэкономикой и макроэкономикой – почти исключительно не с точки зрения качественного различия целей и задач этих видов маркетинга, а в количественном измерении как объектов, так и субъектов микро-и макромаркетинга.
Причины тому отмечены во введении настоящей статьи. Отмеченное отставание внедрения концепций макромаркетинга в России определяется не только относительной «молодостью» отечественных школ маркетинга, но и преобладающим прикладным характером маркетинговых исследований, часто финансируемых со стороны пользователей коммерческого маркетинга. Это приводит к тому, что у студентов-экономистов слабо вырабатывается ментальный конструкт устойчивости, а именно им определять дальнейший курс развития России.
Надо сказать, что эта проблема коренится не только в «недоосвоенности макромаркетинга». Дело в том, что современные российские учебные программы для студентов-экономистов (и не только) отличаются в сравнении с западными существенно меньшей представленностью понятий из предметных областей бихевиористики, социальной психологии, постмодернизма, структурализма, экологической психологии, экономической психологии и т.п. Дисциплины «мировоззренческого» цикла могли бы оказать весомое содействие развитию личности в системе высшего образования [Чернова, 2013].
Наконец, собственно политическая экономия в «демократическом угаре» 1990-х гг. была практически отождествлена с государственной идеологией (похоже, в соответствии с ст. 13 Конституции РФ) и за единичными исключениями была вытеснена курсами микроэкономики и макроэкономики, соответствующими некоей «общей» экономической теории (по сути – Economics ). Поэтому закономерность появления двух ветвей маркетинга, истоки которых таятся в двойственной природе товара (а с реставрацией капитализма в России практически все отношений в обществе – вне зависимости от нашего желания – приобретают товарную форму) чаще всего остается вне внимания студентов (порою, и не только).
Доминирование идеологии коммерческого маркетинга (микромаркетинга) подсознательно влияет на принятие хозяйственных и политических решений, что не может не сказываться на развитии страны в сторону неустойчивого развития. Измерения «достойного» качества жизни (quality of life) [Cloutier, Pfeiffer, 2015] должны не только оцениваться количественно, но их обоснованная пропаганда должна быть способна оказывать влияние на умы членов общества и способствовать его движению в направлении достижения целей устойчивого развития, среди которых для данной темы главная – «устойчивое потребление и производство» – «Sustainable Consumption and Production» (SDG12) [The Sustainable…, 2020].
Также хотелось бы, видеть важнейшую цель данной статьи в привлечении необходимого внимания к макромаркетингу в высшей школе – институту не только профессионального образования, но и формирования ментального конструкта устойчивости студентов – будущих ключевых фигур устойчивого социально-экономического развития России.
Список литературы Макромаркетинг как фактор обеспечения устойчивости экономики: генезис и диалектика развития
- XX лет научно-педагогической школе "Маркетинг взаимодействия" Г.Л. Багиева. СПб.: НПК "РОСТ", 2016. 76 с
- Багиев Г.Л., Тарасевич В.М., Анн Х. Маркетинг. М.: Экономика, 1999. 704 с
- Багиев Г.Л., Черенков В.И. Маркетинг для обеспечения устойчивого развития: сущность и логика становления // Проблемы современной экономики. 2018. № 3. С. 142-148
- Багиев Г.Л., Черенков В.И., Черенкова Н.И. Маркетинг для реализации концепции устойчивого развития: сущность и терминологическая парадигма // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. 2018. № 4. С. 139-152
- Белояров В.В. Диалектика устойчивого развития - The Dialectic of Sustainable Development. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://philosophy-sd.narod.ru/dialectics.htm (дата обращения 30.08.2019)