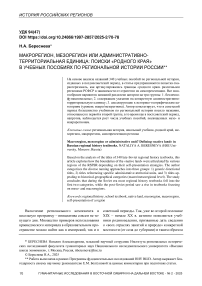Макрорегион, мезорегион или административно-территориальная единица: поиски «родного края» в учебных пособиях по региональной истории России
Автор: Береснева Н.А.
Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv
Рубрика: История российских регионов
Статья в выпуске: 2 (72), 2025 года.
Бесплатный доступ
На основе анализа названий 340 учебных пособий по региональной истории, изданных в позднесоветский период, в статье предпринимается попытка охарактеризовать, как артикулировались границы «родного края» различными регионами РСФСР в зависимости от стратегии их самопрезентации. Все многообразие вариантов названий разделено автором на три группы: 1. безличнофункциональные; 2. содержащие указание на конкретную административнотерриториальную единицу; 3. апеллирующие к историко-географическим категориям (уровень макро/мезорегиона). Автор констатирует, что в советский период большинство учебников по региональной истории носило названия, относящиеся к первой и второй группе, в то время как в постсоветский период, напротив, наблюдается рост числа учебных пособий, посвященных мезои макрорегионам.
Региональная история, школьный учебник, родной край, мезорегион, макрорегион, самопрезентация региона
Короткий адрес: https://sciup.org/170209477
IDR: 170209477 | УДК: 94(47) | DOI: 10.24866/1997-2857/2025-2/70-78
Текст научной статьи Макрорегион, мезорегион или административно-территориальная единица: поиски «родного края» в учебных пособиях по региональной истории России
Включение регионального компонента в школьную программу – инициатива совсем не текущего дня. Множество примеров использования краеведческого материала в образовательном пространстве можно найти как в имперский, так и в советский периоды. Так, уже во второй половине XIX – начале XX в. активно появляются учебники родиноведения, призванные дать сведения о «всех отраслях занятий и природе» конкретной местности (от села до губернии) и таким образом
«развить в учащихся любовь к родине и высокий долг патриотического чувства»1 [47, с. 3]. Пройдя разные этапы в рамках советской системы образования [27], краеведческий компонент во второй половине XX в. также становится неотъемлемой частью учебного процесса. Более того, одним из результатов претворения в жизнь политики по усилению «связи обучения с жизнью» становится масштабный проект по изданию «краеведческих пособий для учащихся по природоведению, географии и биологии, истории» [37, с. 29] во всех административно-территориальных единицах, входящих в состав РСФСР, стартовавший в 1961 г. и растянувшийся на несколько десятилетий.
При этом как в имперский, так и в советский периоды вопрос о границах «родного края» и способах повествования о нем продолжает оставаться достаточным острым, вынуждая авторские коллективы искать собственные ответы на многие вопросы. Особенно заметной эта проблема становится в 1960-е – 1980-е гг. С одной стороны, наличие официального распоряжения2 и контроль его исполнения со стороны Министерства просвещения РСФСР стимулировали работу на всей территории союзной республики. С другой стороны, допускаемая даже в министерских документах свобода трактовок и отсутствие единой структуры пособия3 стимулировали вариативность в интерпретации того, какими были границы региона в том или ином случае.
Показательна в этом отношении предложенная министерством (в рамках разговора о пособиях для 4 класса) формулировка, прямо соотносящаяся с категорией «территория»: «в различных областях, краях, АССР объем отдельных глав будет неодинаковым», «расположение материала внутри тем будет во многом зависеть от своеобразия истории края (курсив мой. – Прим. авт.) и наличия конкретного материала» [38, с. 23].
Главными в этой связи будут вопросы о том, насколько в позднесоветский период понятие «родного края» оказывалось увязанным с административно-территориальным делением страны или, напротив, требовало перехода на уровень ме-зорегиона4 или макрорегиона, какие стратегии использовали разные территории РСФСР и какие нарративы были разработаны и/или актуализированы для реализации установки на соответствующее видение территории.
Поиск ответов на указанные вопросы в рамках нашего исследования потребовал привлечения значительной по объему выборки источников. Результатом работы стало создание базы учебных пособий по региональной истории, которая содержит публикации, увидевшие свет во всех административно-территориальных образованиях РСФСР (республиках, краях, областях)5. Сформированная база учебных пособий включает в себя книги, опубликованные в период с 1960-х гг. по 1991 г., и содержит сведения о школьных учебных пособиях для всех возрастных групп; общее количество найденных учебных пособий составляет на данный момент 340 (без учета пособий по истории Московской и Ленинградской областей, которые сознательно не были включены в общую базу, поскольку представляют собой отдельный случай в связи с особым (столичным) статусом своих центральных городов). В указанной базе присутствует известная вариативность, вызванная в т.ч. и реформами в сфере образования: так, ряд книг для 4 класса, в соответствии с предписаниями из приказа 1962 г., объединяет два раздела – природу и историю, учебные пособия для старших классов могут ориентироваться на разные возрастные группы – 7–8 классы, 7–10 классы, 9–10 классы и т.д. Вместе с тем отобранные издания представляют собой один тип источника – учебное пособие по региональной истории, призванное дополнить сведения, получаемые школьниками в рамках основного курса истории.
Очевидно, что для авторских коллективов, работавших над созданием региональных учебных
ИСТОРИЯ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ пособий в позднесоветский период, необходимость принятия тех или иных решений на местном уровне возникала практически сразу – при поиске подходящего названия для пособия, шире – способов презентации той или иной территории, которая, в рамках указанных текстов, всегда оказывалась шире актуальных границ конкретной административно-территориальной единицы. Это касалось не только субъектов, непосредственно образованных при советской власти (таких как Липецкая область), но и территорий, чьи границы были достаточно стабильны на протяжении последних десятилетий.
Все многообразие существующих вариантов названий6 можно разделить на три большие группы. К первой относятся пособия, названия которых отражают сугубо выполняемую ими функцию и не имеют каких-либо отсылок к конкретной территории: «Наш край в истории СССР», «Наш родной край», «Из истории родного края», «Родной край», «История нашего края», «Люби и изучай свой край» и др. Как кажется, подобный подход вызван не только желанием действовать строго «в соответствии с инструкциями»7: использование формулировки «родной край» позволяло говорить о территории во всем ее историческом единстве, не ограничиваясь рамками конкретной области/края/АССР. Однако с прагматической точки зрения это создавало путаницу. С одной стороны, в это время название «Родной край» было равным образом востребовано и для пособий по природоведению, с другой, при выходе за пределы собственно края или области и переходе на республиканский уровень оказывалось, что только по истории число изданий с указанным наименованием исчислялось десятками (в нашей базе это примерно 100 позиций). Так, в 1960-е гг. Государственная библиотека СССР им. В.И. Ленина получила контрольные экземпляры пособий, на обложке которых указано название «Наш край в истории СССР», от Ивановской [34] и Архангельской областей [31], а также Коми АССР8 [30];
при этом в случае Ивановской области параллельно в это же время выходят пособия «Наш родной край» [36] и «Люби и изучай свой край» [26], которые являются не обновленными версиями первого текста, а самостоятельными изданиями для 9–11 и 4 класса соответственно.
Неудивительно, что при переиздании титульные листы подобных пособий корректировались, отсылая к «территориальному компоненту»: так, титульный лист нового учебного пособия «Наш край в истории СССР»9 по истории Ивановской области уточняет, что это «учебное пособие по краеведению для учащихся 7–10 классов Ивановской области» [35]; такая же информация появляется и в случае с пособием архангелогородцев [32]. Другие территории, очевидно, ориентируясь на опыт Ивановской области, первой опубликовавшей пособие с указанным названием, или действуя в схожей логике, изначально вырабатывают свой, в большей степени территориально ориентированный вариант: так, Вологодская область добавляет соответствующую информацию на титульный лист (оставляя на обложке лишь название «Наш край в истории СССР») [39], а Бурятская АССР выпускает издание под названием «Бурятия в истории СССР» [7].
Последний заголовок является одним из примеров, составляющих вторую группу, где названия содержат указание на конкретную территориальную единицу – как «полное официальное наименование» (Воронежская область, Татарская АССР, Ставропольский край и др.), так и различные вариации – Курский край, Башкирия, Бурятия и др. Разнообразие в рамках второй группы также отражает процесс поиска наиболее удачной стратегии презентации территории. Значимую часть в ней продолжают составлять учебные пособия, использующие слово «край» вместо слова «область»: мы можем увидеть книги по истории Ярославского края, Тульского края, Белгородского края и др. В других случаях поиск подходящего языка ведет к выбору названий, которые были призваны вызывать различные ассоциации с «древностью»: Брянщина, Волгоградская земля, Пензенская земля, Новгородская земля, Самарский край (вместо Куйбышевской области).
Примечательно, что названия в рамках «одной линейки» (группы текстов, которые позиционируются как переиздания конкретного пособия) вполне могли меняться как в одну, так и в другую сторону. Например, учебное пособие «История
Воронежской области» [10] во втором издании получает название «История нашего края» [11] и даже меняет собственный «статус» – становится книгой для «широкого круга читателей», которая «может быть использована учащимися средней школы при изучении истории родного края». Вместе с тем первое издание пособия Тамбовской области «История родного края» [13] превратится при переиздании в «Историю Тамбовской области» [17]. Представленные примеры – лишь часть вариаций, которые мы можем увидеть на уровне обложки. Вместе с тем сопутствующие изменениям в тексте «визуальные корректировки» требуют отдельного осмысления.
К третьей группе относятся случаи, которые можно назвать уникальными, а именно тексты, в названии которых можно обнаружить выход на мезо-или макроуровень посредством апелляции к историко-географическим категориям – Кузбасс, Урал (включая Южный Урал и Средний Урал), Донской край, Прикамье. Примечательным здесь оказывается «уральский случай», где наряду с пособиями по истории «родного края» (конкретных областей) сосуществуют пособия по истории макро/мезорегиона (позиционируемые таковыми через название). Эту группу можно назвать наиболее устойчивой: безвозвратно изменяется название лишь одного пособия – «Из истории Южного Урала» [2] превратится в пособие «История родного края» (для учащихся Челябинской области) [3]. Однако эта группа изданий оказывается одновременно и самой немногочисленной – всего 13 позиций, включая переиздания (14 – с учетом информации, представленной не только на обложке, но и на титульном листе10). Совершенно очевидно, что возможность выхода за пределы привычного административно-территориального деления базируется на особом статусе территорий, который они сами ощущают. С одной стороны, речь идет об индустриальных центрах (Кузбасс, Урал и Прикамье11) – территориях со «славным революционным прошлым» и активно развивающейся промышленностью; с другой – о территории проживания особой этносословной группы (Донской край). Неудивительно, что в настоящее время мы можем увидеть отдельные школьные учебные пособия по истории казачества как один из способов рассказать о той или иной территории: так, в 2015 г. были опубликованы две книги «Казачество в истории Ставрополья» для 6–7 и 8– 9 классов соответственно [19; 20].
Важно отметить, что номенклатура, отраженная в названии учебного пособия, могла корректироваться или меняться собственно в его тексте. В качестве примера здесь можно привести издания, рекомендованные для школ Архангельской области. За стандартным названием «Наш край в истории СССР» скрывается не просто учебное пособие, посвященное Архангельскому краю: авторы видят его намного шире и во введении апеллируют к разному «родному краю» – истории «Севера» (1-е издание [31]), «Беломорского Севера», «Севера» и «Архангельской области» (2-е издание [32]), «Беломорью», «Северу» и «Архангельской области» (3-е издание [33]). Хотя важнейшие даты в хронологической таблице в конце пособий связаны в основном с историей Архан-гельска/Архангельской области, совершенно очевидно, что авторы представляют «свой край» и Север как синонимичные понятия: в названиях глав используются лишь два этих термина. Однако примечательно, что термин «Север» так и не появится на обложке/титульном листе пособий (в отличие от приведенных ранее примеров): они остаются посвящены сугубо «родному краю» в лице Архангельской области, что подчеркнуто также визуальным оформлением обложки – схематическим обозначением границ области и города на карте РСФСР.
С другой стороны, авторы пособия для школьников Оренбургской области, опубликовавшие текст под «безличным» заголовком «История родного края» [12], свободно используют все определения, данные территории в разные исторические периоды. Во введении, где кратко рассказывается о содержании книги, родной край предстает не только в качестве Оренбургского края, но и Оренбургской губернии, Оренбуржья и Оренбургской области. В наименовании глав сохраняется та же логика: рассказ о «нашем крае в древности» сменяется на повествование об Оренбургской губернии, Оренбуржье, нашем крае, а затем – нашей области.
Попытки определения территории, о которой пойдет речь, характерны не только для пособий с «общими названиями» («Наш край в истории СССР», «История родного края»), как это было в случае с Архангельской и Оренбургской областями:
авторские предисловия мы можем увидеть как в пособиях, где в названии приводится официальное наименование конкретной территории («История Сахалинской области» [14], «История Новосибирской области» [28]), так и в пособиях, посвященных истории Кузбасса или Урала. Если в случае Сахалина и Новосибирской области [14; 28] речь будет идти о предоставлении дополнительной географи-ческой/статистической информации (о расположении региона, его площади и численности населения), то в случае Урала и Кузбасса речь идет о предоставлении «оснований» для использования соответствующей терминологии. Первый абзац предисловия «Истории Кузбасса» сразу сообщает читателям: «Наш край называется Кузнецким бассейном – Кузбассом. Так предложил его назвать по имени первого города нашего края – Кузнецка русский геолог и историк Петр Александрович Чиха-чев» [22, с. 3]. В аннотации пособия «История Урала» читаем: «Эта книга рассказывает об исторических событиях на Урале как территории, включающей Вятскую, Оренбургскую, Пермскую губернии. Данные, события, факты с 1923 г. приводятся по Уральской области. После разделения Уральской области в 1934 г. на Свердловскую и Челябинскую речь идет об истории Среднего Урала, или нынешней Свердловской области» [18].
Очевидно, что в советский период, несмотря на ощущаемую авторами учебных пособий по региональной истории необходимость выхода за границы конкретной административно-территориальной единицы, на подобный шаг на уровне названия могли решиться единицы. В подавляющем большинстве случаев было принято решение об использовании либо сугубо «функционального названия» («родной край», который может быть любой территорией в пределах РСФСР), либо названия, прямо связанного с конкретной административно-территориальной единицей. Проявить «особость» на уровне позиционирования региона смогли авторы, представляющие «опорный край державы» (Урал, Прикамье), Кемеровскую область с ее главным «козырем» – Кузнецким угольным бассейном (Кузбассом), а также Донской край.
«Распад СССР и произошедшие в жизни страны перемены в одночасье сделали устаревшими большую часть учебников истории» [8, с. 7] – не только основных, но и посвященных региональной истории. Речь идет не только об изменении оценки тех или иных исторических событий в учебниках/учебных пособиях, опубликованных в 1990-е гг. и позднее, но и о границах того, что считается допустимым. Не случайно именно в это время появляется все больше пособий, посвященных истории макрорегионов и мезорегионов. Так, уже в конце 1990-х гг. мы можем увидеть учебные пособия по истории Урала, Сибири, Дальнего Востока, Прикамья, Приенисейского края,
Кубани и др., в XXI в. к ним добавятся пособия по истории Западной России, Слобожанщины и др. Особый интерес здесь представляет не только содержание учебников как таковое, но и вопрос разделения символического капитала. В случае с Уралом в 1990е гг. Екатеринбург продолжает удерживать пальму первенства, презентуя нарратив о макрорегионе; за Челябинской областью, как и прежде, остается история Южного Урала. При попытке выпуска собственной истории Урала в Челябинской области авторы отдельно оговаривают во введении: «Наша книга посвящена основным событиям и процессам истории Большого Урала, но, адресуя ее школьникам, живущим на Южном Урале, мы прежде всего, конечно, стремились к тому, чтобы история нашего, южноуральского, края получила в ней полновесное освещение. Это особенно важно потому, что в обобщающих трудах, а также в учебных пособиях по истории Урала … нашему региону не везло» [1, с. 6–7]. Не имея возможности конкурировать за право «говорить об Урале» с Екатеринбургом, который продолжит активно выпускать соответствующие учебные пособия и в XXI в., Челябинская область продолжит отстаивать свое право на «большой» нарратив и борьбу с фактическим центром Урала (Уральского федерального округа), презентуя нарратив о Южном Урале. Соответствующие учебные пособия всегда будут ориентированы на школьников Челябинской области: остальные административно-территориальные единицы, входящие в Южный Урал, – Республика Башкортостан и Оренбургская область – в них совершенно не нуждаются, выпуская собственные пособия как в советский, так и в постсоветский периоды.
Если говорить о Сибири и Дальнем Востоке, то в 1990-е гг. здесь также можно отметить попытку закрепления символического капитала за «столицами» – Новосибирском и Хабаровском; примечательно, что даже при потере в 2018 г. статуса столицы Дальневосточного федерального округа последний продолжит претендовать на право издания пособий по истории макрорегиона – Дальнего Востока – и выпустит линейку соответствующих учебных пособий [44; 45; 46], в то время как во Владивостоке (новой столице) будет подготовлено пособие «Мой Приморский край» [29] (подробнее о ситуации на Дальнем Востоке см.: [5]).
Кроме того, в названиях начинают использоваться термины, которые в советский период оказывались помещены непосредственно в текст пособий (но так и не попали на обложку). Так, после распада СССР выходит целый ряд пособий, посвященных истории Смоленщины: «История Смоленщины» [15; 16], «История и культура Смоленщины с древнейших времен до конца XVIII в.» [25], «История Смоленщины XIX–XX вв.» [6] и др. В последние годы на смену пособиям по истории Саратовского края пришли издания по истории Сара- товского Поволжья – «Рассказы по истории Саратовского Поволжья» [40], «Саратовское Поволжье в XVI–XVII вв.» [41] и др. Названия без «географической» привязки по-прежнему будут встречаться, но их количество существенно сокращается: на смену практически безличному «Наш край в истории СССР» [34], первому известному нам пособию, опубликованному в период с 1960-х гг. по 1991 г., приходит опубликованная в 2007 г. книга «Ивановский край в истории Отечества» [4].
Приведенные выше примеры показывают существо той проблемы, с которой сталкивались авторы учебных пособий по региональной истории как в советский, так и в постсоветский периоды: необходимость создания книги для учащихся конкретной административно-территориальной единицы постоянно вступала в противоречие с подвижностью границ региона (в т.ч. ментальных) в длительной хронологической ретроспективе. В советский период «безличные» названия («Наш край в истории СССР», «Люби и изучай свой край» и т.п.) составили примерно 30% от общего числа названий такого рода учебных пособий12, т.к. позволяли решить эту проблему на первичном уровне, а термин «край» в целом воспринимался как наиболее практичный. Вместе с тем попытки представить историю мезо-/макрорегиона были исключением из правил и осуществлялись территориями, воспринимающими себя как «особые». В постсоветский период количество подобных пособий становится значительно больше, а границы допустимого – шире: теперь мезо-/макрорегионы рассматриваются как рабочий способ преодоления конфликтов и презентации конкретной территории в ее историческом единстве.