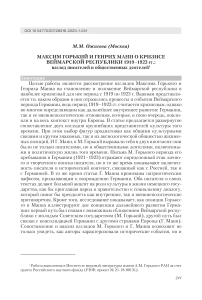Максим Горький и Генрих Манн о кризисе Веймарской республики 1919-1923 гг.: взгляд писателей и общественных деятелей
Автор: Ожигова Мария Михайловна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Компаративистика
Статья в выпуске: 1 (64), 2023 года.
Бесплатный доступ
Целью работы является рассмотрение взглядов Максима Горького и Генриха Манна на становление и положение Веймарской республики в наиболее кризисный для нее период с 1919 по 1923 г. Важным представляется то, каким образом в них отразились процессы и события Веймарского периода Германии, ведь период 1919-1923 гг. считается кризисным, однако во многом определяющим как дальнейшее внутреннее развитие Германии, так и ее внешнеполитические отношения, которые, в свою очередь, повлияли и на весь контекст внутри Европы. В статье предлагается развернутое сопоставление двух взглядов крупнейших представителей культуры того времени. При этом выбор фигур продиктован как общими культурными связями и кругом знакомых, так и их аксиологической общностью жизненных позиций. И Г. Манн, и М. Горький выражали себя в двух ипостасях: они были не только писателями, но и общественными деятелями, включенными в политическую жизнь того времени. Письма М. Горького периода его пребывания в Германии (1921-1923) отражают определенный этап личного и творческого поиска писателя, но в то же время показывают включенность писателя в исторический контекст, связанный как с Россией, так и с Германией. В то же время статьи Г. Манна пронизаны патриотическим пафосом, призывающим к возрождению Германии. Оба писателя в своих текстах делают большой акцент на роли культуры в жизни немецкого государства, как бы приглашая народ и правительство к социальному диалогу, который помог бы преодолеть как внутренние, так и внешнеполитические противоречия. Кроме того, исследование показывает, как позиции Горького и Манна иллюстрируют две концепции дальнейшего развития Германии: первый путь был связан с возможным сближением Веймарской республики с молодым Советским государством (М. Горький), другой путь был связан с консолидацией Германии с другими странами Европы (Г. Манн). Сопоставление и анализ взглядов М. Горького и Г. Манна позволяют не только увидеть, как авторы характеризовали исторические события, но и оценить важность писателя как представителя эпохи, «взвесить» ценность его авторского слова, особенно в кризисные годы.
Максим горький, генрих манн, веймарская республика, 1919-1923 гг. в германии, экономика и культура
Короткий адрес: https://sciup.org/149142770
IDR: 149142770 | DOI: 10.54770/20729316-2023-1-241
Текст научной статьи Максим Горький и Генрих Манн о кризисе Веймарской республики 1919-1923 гг.: взгляд писателей и общественных деятелей
Слово писателя и художника оставляет след в истории, и особенно ярко звучит оно в кризисные годы. В этом смысле интересно рассмотреть впечатления, размышления и оценки Максима Горького и Генриха Манна о кризисе Веймарской республики. Во многом этот период определил дальнейшее развитие самой Германии: ее исторический путь, а также ее внешнеполитические отношения не только с Советским Союзом, но и с другими странами Европы. Кроме того, веймарские события этих лет сформировали и общую геополитическую ситуацию, которая намного позже привела к началу Второй мировой войны. Целью исследования является рассмотрение нехудожественного наследия М. Горького и Г. Манна и того, каким образом в них отразились процессы и события Веймарского периода Германии с 1919 по 1923 г.
Фигуры, взгляды и оценки которых мы подвергнем рассмотрению, выбраны нами не случайно. Оба писателя были не на периферии большой Истории, а, что называется, в самом ее водовороте. Можно сказать, они были не только частью истории, но и сами были ее творцами. В этом смысле сопоставление таких фигур в контексте Веймарского периода Германии рекурсивно: ведь и Манн, и Горький были не только писателями, но и общественными деятелями, и активно участвовали в политической жизни своих стран. В этом смысле они являлись не только «летописцами» исторических событий, как многие писатели, а сами создавали историю, непосредственно влияли на нее, пытались изменить ее ход. Это проявлялось в их попытках повлиять на политические процессы того времени. Так, Генрих Манн в своей публицистике остро критиковал режим «кайзеровской» Германии, «даже в статьях, посвященных искусству, Манн не мог не касаться политики» [Знаменская 1971, 107], а позже, в период Веймарской республики, стал Президентом Германской Академии искусств. В свою очередь, Горький также активно жил не только творческой, но и политической жизнью. Он был знаком со многими политическими деятелями, в частности, с В.И. Лениным, с которым обсуждал и политические вопросы в том числе. Находясь в Германии, даже несмотря на периодическую нехватку средств, Горький продолжал участвовать в политической жизни России и Европы, о чем говорит, в частности, его статья «Wenn Europa sich nicht besinnt» («Если Европа не опомнится»).
Таким образом, анализ публицистических и эпистолярных текстов писателей позволяет не только увидеть, как авторы характеризовали исторические события, но и оценить важность писателя как мыслителя и представителя своей эпохи, ценность его авторского слова, тем более в кризисные годы. Особенно это ценно в том случае, когда писатели активно принимали участие в общественной и политической жизни, как и было в случае Максима Горького и Генриха Манна. Так как в поле нашего рассмотрения находятся статьи Манна и письма Горького в период существования Германии в виде Веймарской республики с 1919 по 1923 г. (в общей сложности республика просуществовала до 1933 г.), следует обозначить общий исторический контекст этого периода.
Рассмотрению периода Германии в виде Веймарской республики посвящены работы многих историков, в частности, И.Я. Биска, И.И. Галечко,
Я.С. Драбкина, В.А. Космача, Л.В. Овчинниковой, Х. Мёллера, В.Б. Ушакова, Э.Э. Шульца, Д. Гросса, С. Гальперина, и др. Так как нам важно охарактеризовать общую ситуацию, мы не будем подробно останавливаться на каждом из авторов. Общий же исторический контекст выглядел следующим образом: провозглашению Веймарской республики предшествовало окончание Первой мировой войны и Ноябрьская революция 1918 г. Название республики было выбрано «не потому, что она была проникнута гуманистическим духом Гёте и Шиллера <…>. Просто <…> Веймар оказался тем тихим уголком, куда смогло укрыться под охрану <…> Национальное собрание, бежавшее из центра революционной бури» [Драбкин 1978, 4]. В 1919 г. была принята Веймарская конституция, и в этом же году 28 июня был заключен Версальский мирный договор, согласно которому Германия и ее союзники признавались виновными «в развязывании Первой мировой войны…» [Горький 2009, 419], и она должна была провести общую демилитаризацию. Кроме того, Германия должна была выплачивать репарации, однако их размер был незафиксированным, поэтому Германия должна была выплатить ту сумму репараций, которую союзники установят впоследствии. Что касается экономического состояния внутри республики и уровня жизни людей, то, как пишет Юрген Хаупт: «Das tägliche Leben, die finanzielle Sicherung der Familie wurde schwierig» [Haupt 1980, 77] («Повседневный жизненный уклад сломался, стало трудно обеспечивать семью»; здесь и далее в статье перевод мой. – М.О.). В дальнейшем именно эти репарационные обязательства в 1923 г. приведут к обострению кризиса и оккупации немецкого Рура бельгийскими и французскими военными. В целом же, именно «the year 1923 was an important turning-point» в жизни республики [Gross 1980, 211] («1923 год стал поворотным моментом»). Таким образом, пока существовала Веймарская республика, «репарационный вопрос создавал благодатную почву для реваншистской пропаганды…» [Космач 2009, 209] и националистических настроений. Во многом именно эти веяния в будущем сформируют комфортную среду для возникновения фашизма в Германии. Эти процессы видел и критиковал как патриот страны Генрих Манн, так и Горький, который, «находясь в Веймарской республике, сам видел надвигающиеся признаки агрессии германского фашизма» [Быстрова 2020, 206]. Если же возвратиться к периоду Веймара, то следует сказать, что «бури» внутри республики не затихали на протяжении всего периода с 1918 по 1923 г., и относительная стабилизация ситуации началась только в 1924 г., когда в стране постепенно начался повышаться уровень жизни.
Переходя к рассмотрению взглядов на период 1919–1923 гг. в нехудожественной прозе Максима Горького и Генриха Манна того периода, необходимо обозначить границы рассматриваемого нами материала. В исследование включены статьи Г. Манна, относящиеся к периоду 1920–1923 гг. Кроме того, не прямо, но контекстно используются и статьи Г. Манна 1919 г., в частности, его большая работа «Империя и республика». Что касается М. Горького, его письма этого периода (1921–1923) анализируются нами в совокупности. При этом оптика рассмотрения направлена именно на впечатления Горького о Германии, его оценки положения немецкого народа в тот период времени, включена в анализ также его статья «Wenn Europa sich nicht besinnt» («Если Европа не опомнится»). Здесь стоит отметить, что впечатления Горького о Германии этого периода, связанные с его пребыванием в разных городах немецкого государства, отражают целостную картину и соответствуют реальным историческим событиям. Стоит отметить, что ближе к концу пребывания Горького в Германии, в его оценках появится больше критики, что соответствует усилению внутриполитического кризиса в стране. Однако в своих впечатлениях Горький достоверен, ведь, как пишет Н.Н. Примочкина, «человеческий и художественный интерес Горького был направлен не на собственную персону, не на свою личность, а на окружающий мир…» [Примочкина 2018, 334]. Более подробно о периоде пребывания Горького в Германии в контексте его творческих связей с эмиграцией пишет О.А. Клинг в статьях «Немецкий период А.М. Горького в реконструкции В.Ф. Ходасевича» и «А.М. Горький в Германии: хроника Нины Берберовой». Прозе М. Горького немецкого периода посвящены работы Н.Н. Примочкиной. Кроме того, подробно творчеством Горького занимались О.В. Быстрова, Г.Н. Знаменская, Л. Спиридонова, А.И. Овчаренко, и др.
Стоит отметить, что в рассматриваемый нами период Горький и Манн не имели прямых контактов. В архиве ИМЛИ А.М. Горького имеется небольшая переписка Горького и Манна, однако она относится уже к тридцатым годам, что не входит в период нашего рассмотрения. В то же время с 1921 по 1923 г. в письмах Горького находим упоминания Генриха Манна в контекстах, связанных с журналом «Беседа», куда Горький приглашал многих известных европейских писателей и публицистов, и, по-видимому, хотел привлечь и Генриха Манна. Но насколько известно, Манн в «Беседе» так и не публиковался, хотя писатели и имели много общих связей. Так, например, в это же время оба писателя активно общались с Роменом Ролланом, в журнале которого была опубликована статья-манифест Генриха Манна под названием «L’Europe. Etat suprème» («Европа. Верховное государство» 15 июля 1923 г.). Упоминание об этой статье можно найти и в одном из писем Горького.
Интересно, что две рассматриваемые нами фигуры, игравшие огромную роль в своих странах, а также и в европейской культурной жизни того времени, имели и общий экзистенциальный модус: и Генрих Манн, и Максим Горький были сфокусированы на событиях, происходящих в их странах, и в то же время и Манна, и Горького беспокоила и общая европейская судьба. Горького, находившегося на чужбине, очень беспокоила судьба его родины: молодая строящаяся страна в 1919–1923 гг. переживала бурное становление, в процессе которого естественным образом происходили как положительные, так и негативные события. То же самое можно увидеть и у Манна: кризисы, сотрясавшие молодую Веймарскую республику, очень волновали писателя. Сравнивая письма и статьи Горького этого периода и статьи Манна, можно увидеть, что общими чертами этих текстов является высокая степень эмоциональности при оценках событий, происхо- дящих как в своей стране, так и за пределами родины. Письма Горького о Германии представляют собой субъективные оценки и наблюдения, при этом новая республика и ее народ рассматриваются Горьким в контексте их положения в европейской семье народов. В письма Горького, кроме того, вкрапляются размышления и о России, и о ее отдельном собственном пути. Что касается Г. Манна, то его, сходным с Горьким образом, волнует и общеевропейская судьба, однако, несмотря на это, его статьи в большей мере посвящены именно анализу судьбы немецкого народа, его прошлого, настоящего и будущего. В то же время, сравнивая степень субъективности писателей, можно увидеть, что письма Горького содержат в целом объективные оценки состояния немецкого государства и перспектив его развития. Здесь Горький выступает скорее сторонним наблюдателем и менее эмоционален по сравнению с высказываниями, в которых он касается возможных путей развития родной страны. Вместе с тем нельзя назвать и статьи Манна только лишь аналитическими: в них очень много экспрессивных оценок как политических деятелей, так и своего народа, а некоторые из них тяготеют к манифестной форме или даже являются своеобразным манифестом (на что указывал и Горький), как статья «L’Europe. Etat suprème». В целом, взгляды, отраженные в текстах Горького и Манна этого периода, прежде всего, связаны с непосредственной оценкой исторических событий, а также философскими, социальными и эстетическими аспектами.
В письмах Максима Горького немецкого периода сразу привлекают внимание многочисленные отзывы о трудолюбии немецкого народа: «… немцы – работают! Колоссально!»; «Работают они – изумительно!» [Горький 2007, 260, 272], – и другие подобные впечатления. В этом смысле Горькому повезло увидеть, как он пишет А.П. Пинкевичу, «яростную работу немца, возрождающего свою страну» [Горький 2007, 256], оказаться в Германии именно в тот период ее развития, когда немецкий народ как бы заново «отстраивал» свое государство: под новым названием, с другой конституцией и новыми идеалами. Об этом качестве немецкого народа писал и их соотечественник Генрих Манн, но в несколько ином ключе. В целом, публицистика Манна 1919–1923 гг. характеризуется острой критикой как немецкого правительства, развязавшего войну, так и собственного народа, обвиняемого Манном в излишней «буржуазности» и стремлении к комфорту, которые и привели государство к состоянию 1919 г. Стоит отметить, что Горький тоже не приветствовал немецкую «буржуазность», но с симпатией оценивал стремление немецкого народа возродить свою страну: «Здесь, у немцев, такая возбуждающая к труду атмосфера, они так усердно, мужественно и разумно работают, что <…> невольно чувствуешь, как растет уважение к ним, несмотря на их “буржуазность”» (А.П. Пинкевичу) [Горький 2007, 256]. В этом видны истоки позиций Горького и Манна. Горький, в 1921 г. приехавший в Германию, был сторонним наблюдателем, следящим за событиями, происходящими в чужом государстве. Позиция же Г. Манна продиктована личной заинтересованностью гражданина своей страны, а потому более эмоциональна. В этом смысле Манн, рассуждая о том, что же привело Германию к краху, видит причину в стремлении госу- дарства развивать экономику и подчинять все сферы жизни культу только лишь экономического развития. В статьях, проникнутых антимилитаристским пафосом, Манн рассуждает о том, как стремление к экономическому превосходству привело Германию к обнищанию в культурном отношении, называя политику немецких властей с 1871 по 1918 гг. своеобразным «экономическим фетишизмом» [Манн 1958, 355]. Так, он пишет в одной из статей цикла «Трагедия 1923 года»: «Экономика – не самоцель, она ни к чему не ведет <…> вера в ее всемогущество духовно и нравственно притупляет целый народ» [Манн 1958, 354]. Фактически Г. Манн противопоставляет понятия «культура» и «нация» понятию «капитал» и говорит о том, что экономический успех не тождественен развитию нации, задаваясь вопросом: разве «нация – это товарищество по взаимной промышленной эксплуатации <…>?» [Манн 1958, 354]. По его мнению, «нация прекращает свое существование <…> если рвется разматывающая нить ее культуры» [Манн 1958, 355], культуру же необходимо взращивать, ведь если этого не делать, то происходит не только разрушение культурного самосознания, но крушение самого человека. Однако взращивать культуру теперь некому, а на почве разрушенной веры в силу экономики произрастает национализм, истоки которого Манн также видит в нравственном упадке народа. О потере интереса к развитию человека в то время свидетельствует и Горький: «Человек становится и ценится все дешевле»; «Запах разложения, гниения очень густ, особенно – здесь, в Германии» (М.М. Пришвину) [Горький 2009, 267]. Сходным образом М. Горький описывает и упадок культуры в Германии того периода: «…бурный развратище, ресторанное житьишко и – кинематограф, где преобладают картины на темы религиозные и мистические» (А.П. Пинкевичу) [Горький 2007, 256]. Общие оценки писателем словесного творчества тоже были не утешительны: «…наблюдается истощение, анемия литературного творчества, здесь – общая и грозная усталость <…> очень процветает словесное фокусничество…» (В.А. Каверину) [Горький 2009, 277]. В другом же письме Горький отмечает: «В чести только авантюрные романы, вроде “Атлантиды”, “Тарзана”» (М.М. Пришвину) [Горький 2009, 267]. Максима Горького, как и Генриха Манна, наблюдения за снижением культурного уровня в Германии наводили на печальные размышления: «Изумительно хрупкая и тонкая вещица – культура, и жутко наблюдать, как быстро утрачивает ее даже такой, казалось бы <…> дисциплинированный народ, каковы немцы» (Е.П. Пешковой) [Горький 2009, 272]. Однако при общем состоянии культурного и духовного истощения, едва заметные внутренние процессы в государстве все же происходили, что отмечает и сам писатель. Так, несмотря на «утрату веры, на отсутствие в обиходе души крепких идей» (В.М. Ходасевич) [Горький 2007, 261], религиозность, по воспоминаниям Горького, принимала довольно неожиданный оборот. В письмах 1921–1922 гг. Горький не раз упоминает огромный интерес к религии и культуре Востока, возникший в новопровозглашенной республике именно в те годы: «В моде иогизм, индусская философия…» (А.П. Пинкевичу); «…очень много внимания уделяют Востоку, особенно – Индии…» (В.М. Ходасевич); «Немцы издают десятки книг, посвященных
Востоку…» (А.П. Пинкевичу) [Горький 2007, 256, 261, 270]. Интересно, что если Горький видел причины снижения культуры и социального упадка в «курьезном отношении правительства» (Г. Гейлорду) [Горький 2009, 259] к своему народу, то Г. Манн в своих статьях обвиняет не только правящую элиту, но и своих соотечественников. По Манну, Германия начала свой путь к Веймару даже не после начала Первой мировой войны, а еще в 1871 г., после победы во Франко-Прусской войне и провозглашения так называемой «кайзеровской Империи»: «в победоносной Германии 1871– 1914 гг. воцарилось безумство властителей и тупоумие верноподданных <…> жажда наживы…»; «мы стали хвастливее, самовлюбленнее, сильнее уверовали в свою непобедимость…» [Манн 1958, 311, 314]. В своих статьях Манн не щадит как правящий класс, так и народ, порой доходя до своеобразного самоотрицания немецкой идентичности: «…государство не было истинно немецким <…>. Под его обломками погиб не немецкий народ, а только сомнительная разновидность немцев» [Манн 1958, 310]. Однако даже если оценки Генриха Манна верны, то кризис, постигший Германию, явно повлиял на менталитет людей, изменил его, что отражает в своих письмах Максим Горький: «Большинство их <немцев> воспалено неукротимым желанием спасать человечество… <…> Есть что-то глубоко трогательное в том отвращении и брезгливом испуге, с которым эти люди говорят о недавнем прошлом, и возбуждает уважение к ним то мужество, с которым они признают роковые ошибки своей страны» (А.П. Пинкевичу) [Горький 2007, 269]. С другой стороны, Горький не только изнутри наблюдал попытки духовного подъема немецкой нации, но также видел и экономические проблемы, с которыми сталкивалась страна. Так, с 1921 по 1923 гг. в письмах можно обнаружить неоднократные упоминания забастовок: «Да, здесь народишко тоже не сладко живет, уже, понемножку, начинают громить прод. магазины и рынки» (Е.П. Пешковой); «Идут забастовки: только что кончили кельнеры, начали бастовать рабочие газовых заводов. Ожидается забастовка шоферов»; «Рабочие – весьма сердиты. Ожидаются крупные события» (А. П. Пинкевичу) [Горький 2007, 257, 260; Горький 2009, 70]. И действительно, республика переживала трудное время, ведь помимо восстановления собственного государства необходимо было выплачивать огромные репарации, из-за чего народ жил в нищете: «Много увечных нищих на улицах…» (Е.П. Пешковой) [Горький 2007, 260]. Огромное количество безработных и астрономическое повышение цен порождало голод, о котором Горький не раз упоминает в своих письмах немецкого периода: «… дети голодают <…> ученые, профессора…» (к Эль Мадани); «…улицы полны прилично одетых нищих, это – немецкая интеллигенция, – наиболее ценная рабочая сила страны…» (Е.П. Пешковой) [Горький 2009, 268, 272]. В одном из писем писатель приводит историю семьи, которая не кормит отца, «потому что “он – стар и ему пора умирать”» (М.М. Пришвину) [Горький 2009, 267]. При этом Горький как человек культуры не мог спокойно созерцать происходящее, а потому всерьез раздумывал о том, чем можно помочь немецкому народу и республике в это кризисное время. Незадолго до своего отъезда из Германии в 1923 г. он рассуждал на эту тему в одном из писем американскому ученому Г. Гейлорду: «Меня всего более <…> тревожит положение деятелей науки, искусства <…>. В Германии они голодают <…> немцы ученые совершенно не умеют защищать себя». Здесь же Горький говорит о том, что «было бы полезно <…> поддержать ученых Германии», и даже просит ученого поговорить «с коллегами на эту тему» [Горький 2009, 259, 260].
Но самое главное, что, столкнувшись со всеми этими проблемами, Германия оказалась в политической и экономической изоляции. По-видимо-му, наблюдая за этой ситуацией изнутри, Горький невольно проводил параллели с советской Россией, тоже оказавшейся в то время в своеобразном внешнеполитическом отчуждении. Оба государства находились в схожей внутриполитической позиции становления и строительства нового общественного устройства, связанной с закономерными кризисами. Вместе с тем и Германия и Советское государство столкнулись с в внешнеполитической ситуацией отчужденности и трудностями международных контактов. Горький, проживая в эти кризисные годы в Германии, конечно же, не мог не заметить, что оба государства (хоть и по разным причинам) фактически были исключены из европейской экономической и культурной жизни. Именно поэтому в его письмах появляется идея политического сближения молодой Советской страны и недавно провозглашенной Веймарской республики. Еще в 1921 г. Горький шутливо пишет Е.П. Пешковой о том, что скоро Германия и Россия «сольются в единое целое, в некую Германорос-сию» [Горький 2007, 278]. А уже в письме от 25 января 1922 г. в редакцию газеты во Фрейбурге он пишет: «Сейчас в Европе наиболее несчастны Россия и Германия <…> с них Судьба сдирает кожу вместе с мясом». И в этом же письме задается вопросом о том, возможно ли «слияние двух [наций] народов в союз для мирного труда и творчества?» [Горький 2007, 24] Стоит отметить, что эта мысль возникла у Горького не случайно, ведь, как свидетельствуют его письма, многие в Германии того времени всерьез думали о политическом союзе с Россией. Кроме того, такие идеи были близки и руководству Советской страны. Так, в письме от 25 января 1921 г. Горький пишет В.И. Ленину: «…ходят ко мне немцы разных возрастов и профессий и все говорят о необходимости русско-германского союза. Я этому союзу сочувствую и убеждаю их <…> обсоюживайтесь скорее…». И здесь же: «Шварцвальдские немцы <…> говорят о союзе с Россией – чувствуется, что это живой и хорошо продуманный интерес. Идея союза, кажется, не чужда и сознанию массы…» [Горький 2007, 272]. В какой-то степени позиция Горького и его наблюдения иллюстрируют одну из двух концепций развития Веймарской республики, превалирующих в те решающие годы в немецком обществе. Одна из них как раз подразумевала возможность политического объединения между Германией и Советским государством, вторая же предлагала иной путь. Так, если рассмотреть статьи Генриха Манна того периода, то можно увидеть, что писатель критиковал капиталистическое развитие Германии («…вожди и следовавшая за ними масса <…> Их мышление <…> стало капиталистическим» [Манн 1958, 318]), а также, качественно сближая социализм и демократию, видел в этих формах правления, в противоположность абсолютизму, перспективу для Германии в будущем: «Социализм должен научить людей творить», а демократия стать «воплощением понятий об истинной гуманности» [Манн 1958, 340, 341]. Однако несмотря на это, в статьях Манна с 1919 по 1923 гг. отсутствует идея сближения России и Германии. В этом смысле, если не открыто, то косвенно Г. Манн не разделял позицию Горького. Так, очень показательна статья Манна 1923 г. на французском языке, опубликованная в июльском номере журнала Ромена Роллана «Европа». Стоит отметить, что Горький в письме Р. Роллану от 18 сентября 1923 г. просит уточнить отношение самого Роллана к этой статье: «…как Вы относитесь к манифесту Генриха Манна?» [Горький 2009, 242]. Уже само определение «манифеста», данное Горьким, говорит о программном и концептуальном характере текста. В целом статья Манна повторяет идеи других его публикаций 1923 г., однако вновь обвиняя капиталистов в кризисе Германии («Aucune nation ne retrouvera le souffle tant qu’elle n’aura pas banni les industriels rapaces» – «Ни одна нация не успокоится, пока не изгонит хищных промышленников») [Mann 1923, 130], писатель не только разбирает ошибки, приведшие к катастрофе, но и грезит о будущем, о новом братстве европейских народов, что придает его тексту манифестный характер. Так, он задается вопросом: «L’Europe veut-elle devenir une?» («Хочет ли Европа стать единой?»), – и отвечает: «Il faut d’abord que nous soyons unis, nous, Français et Allemands…» («Прежде всего, мы должны быть едины, мы, французы и немцы») [Mann 1923, 130, 137], таким образом указывая на важную роль преодоления вражды между Францией и Германией. По сути, объединению двух европейских народов Манн придает мессианское значение: «Nous devons être la base du continent unifié. Nous portons la responsabilitéenvers nous et envers le reste du monde» («Мы должны стать основой единого континента. Мы несем ответственность перед собой и перед остальным миром») [Mann 1923, 137].
Как можно увидеть, концепция развития Веймарской республики у Манна кардинально отличается от взглядов Горького и представляет собой другой полюс, где Германия не объединяется с Россией, а возвращается обратно, в семью европейских народов, при этом возвращая себе лидирующую роль в этом новом объединении. Примечательным здесь является то, что манифест Генриха Манна выходит как раз в то время, когда отношение к французам в республике обостряется до предела. Еще в 1922 г. Максим Горький отмечал: «Немцы говорят только о союзе с Россией и о том, что надо бить французов. Запрещают детям своим играть с детьми Франции» (Е.П. Пешковой) [Горький 2009, 32]; а в письме Г. Уэллсу от апреля 1922 г. подчеркивал: «…немцы сердятся на французов и страстно желают бить их. Г-н Пуанкаре делает очень плохую политику…» [Горький 2009, 46]. Упоминая премьер-министра Франции Раймона Пуанкаре, Горький имел в виду его антигерманский курс, который в том числе привел к кризисным для Германии событиям 1923 г.: началу Рурского конфликта, когда французы оккупировали Рурский угольный бассейн. В свою очередь, об этом как о «sehr als schlimme Folge schlimmer Umstände» («ужасном следствии плохих обстоятельств») [Mann 1923, 56] говорит и Г. Манн.
Таким образом, можно увидеть, что взгляды этих писателей являются своего рода отражением двух основных геополитических концепций того времени, связанных с будущим развитием Германии. Первая из них отсылает к возможному сближению двух стран – России и Германии, что прослеживается у Горького. Другой же путь, о котором говорит Генрих Манн, связан с объединением и воссоединением Европы и своеобразным возвратом Германии (теперь уже Веймарской республики) в состав общеевропейской семьи. Однако возрождение Германии в новом европейском содружестве было сложным процессом, ведь и другие европейские страны тоже переживали кризис, если не экономический, то духовный упадок. Кроме того, само отношение к Европе как к идеальному носителю духовных ценностей стало пересматриваться. Так, Горький в своей статье «Wenn Europa sich nicht besinnt» («Если Европа не образумится»), опубликованной в 1922 г. в Берлине в книге «Russland und die Welt» («Россия и мир»), признавая, что «und dabei ist Europa doch der Mittelpunkt der schöpferischen Energie der ganzen Welt» («и в то же время Европа является средоточием творческой энергии всего мира»), говорит о том, что «hat Europa seine moralische Autorität als Schöpferin von Kulturwerten verloren» («Европа потеряла свой авторитет в качестве созидательницы культурных ценностей») [Gorky 1922, 28, 29]. В то же время Генрих Манн в статье для журнала Р. Роллана призывает к объединению Европы, и к ее внутреннему возрождению не на экономических, а на духовных основаниях. При этом и Горький, и Манн видят причину общеевропейского упадка не только во внутренних процессах, но и во внешнем влиянии капиталистической парадигмы. Так, Горький в 1923 г. в письме из Гюнтерсталя к Г. Гейлорду описывает случай, свидетелем которого он стал: два поссорившихся берлинских шофера прекратили преследовать друг друга после того, как американец показал им доллар: «Оба автомобиля услужливо подъехали к американцу, и возможная драма – не разыгралась» [Горький 2009, 259]. Комментируя этот инцидент, как один из многих, Горький высказывает сожаление о том, что «ценность европейской культуры <…> видимо, забыта вождями европейской политики» [Горький 2009, 259], что, конечно же, сказывается и на духовном состоянии народа. В то же время и Манн говорит о том, что Германия находится «et sous la griffe du colosse capitaliste» («под когтями капиталистического колосса») [Mann 1923, 143] и что ей необходимо духовное обновление.
В целом оба писателя, один из которых являлся гражданином Германии, а другой был сопереживающим, но все же только отстраненным наблюдателем, сходились во мнении, что не только Германия, но и вся Европа в 1919– 1923 гг. пребывала в кризисе. Являясь символическими представителями двух полярных концепций того времени о будущем пути Германии (в объединении с Россией или в «примирении с остальными европейскими странами), оба писателя пророчески понимали важность и переломность этих годов не только для Германии, но и для всей цивилизации. Если Генрих Манн призывал к новому объединению Европы под иными, не буржуазными, а культурными идеалами, то Горький чувствовал, как он признавался Р. Роллану, «страх за Европу, в которой все растет ненависть, злоба, отчаяние» [Горький
2009, 59], а потому видел спасение для отвергнутой на тот момент Германии в культурной и экономической консолидации с Россией. При этом, несмотря на концептуальное различие в видении будущего немецкой нации, оба писателя в своих взглядах предлагают своеобразный социальный диалог, в процессе которого появлялась возможность осмыслить как причины произошедшего со страной, так и наметить планы на ее будущее развитие. В одном их писем того периода Горький говорил: «Европа тяжко больна, и меня, русского, ее состояние тревожит не меньше, а больше, чем многих бесстрашно мыслящих европейцев» (Р. Роллану) [Горький 2009, 5]. И действительно, позже, уже в 1928 г., Генрих Манн писал о Горьком: «…он сумел провидеть грядущие события и открыть их истоки» [Манн 1958, 212]. Таким образом, анализируя нехудожественные тексты писателей, можно увидеть важность и значение писательского слова как синтетического материала, в котором не только отражался исторический контекст, но и предлагались варианты выхода из кризисов и даже альтернативные пути развития цивилизации.
Рассматривая письма Горького, можно увидеть его искреннее сочувствие к немецкому народу, нацеленность на сотрудничество, внимание к судьбе отдельных людей, а самое главное, проницательный взгляд как на будущее внутриполитическое развитие Германии, так и на перспективы ее возможного сотрудничества с другими странами. В то же время при взгляде на тексты Генриха Манна можно увидеть глубокий анализ прошлых ошибок, поиск нового пути для Германии и Европы, понимание причин, приведших к пагубным последствиям 1919–1923 гг. И в этом смысле концептуально разные, но проникнутые гуманистическим пафосом идеи двух писателей являются иллюстрацией возможного синтеза мысли и символом несостояв-шегося диалога, который, возможно, мог бы изменить мир к лучшему.
Список литературы Максим Горький и Генрих Манн о кризисе Веймарской республики 1919-1923 гг.: взгляд писателей и общественных деятелей
- Анисимов И.И. Мастера культуры. М.: Художественная литература, 1971. 287 с.
- Биск И.Я. История повседневной жизни населения в Веймарской республике. Иваново: ИвГУ, 1990. 155 с.
- Быстрова О.В. Разоблачение идеологии фашизма в публицистике М. Горького // Мировое значение М. Горького. М.: ИМЛИ РАН, 2020. С. 199-248.
- Галечко И.И. Образ Советской России и русских в Веймарской республике. Биробиджан: Приамурский государственный университет им. Шолом-Алейхема, 2018. 100 с.
- Гордиенко Т.В. Эпистолярное наследие А.М. Горького (1916-1919 гг.) в научном освещении // Вестник МАПРЯЛ. 2006. № 53. С. 54-56.
- Горький М. Полное собрание сочинений: в 24 т. Т. 13. М.: Наука, 2007. 735 с.
- Горький М. Полное собрание сочинений: в 24 т. Т. 14. М.: Наука, 2009. 631 с.
- Драбкин Я.С. Становление Веймарской республики. М.: Наука, 1978. 374 с.
- Знаменская Г.Н. Генрих Манн. М.: Художественная литература, 1971. 189 с.
- Клинг О.А. А.М. Горький в Германии: хроника Нины Берберовой // Новый филологический вестник. 2022. № 3 (62). С. 210-221.
- Клинг О.А. Немецкий период А.М. Горького в реконструкции В.Ф. Ходасевича // Новый филологический вестник. 2021. № 3 (58). С. 170-178.
- Космач В.А. История Германии в годы Веймарской республики. Ноябрьская революция и становление республики (1918-1923 гг.). Псков: Псковский государственный университет, 2014. 416 с.
- Манн Г. Сочинения: в 8 т. Т. 8. М.: Гослитиздат, 1958. 743 с.
- Мёллер Х. Веймарская республика: Опыт одной незавершенной демократии. М.: РОССПЭН, 2010. 311 с.
- Овчаренко А.И. Публицистика М. Горького. М.: Советский писатель, 1965. 628 с.
- Овчинникова Л.В. Крах Веймарской республики в буржуазной историографии ФРГ. М.: Изд-во Московского университета, 1983. 216 с.
- Примочкина Н.Н. Дневниковые записи А.М. Горького: от биографического документа к художественному тексту // Текстологический временник. Русская литература XX века: Вопросы текстологии и источниковедения. Кн. 3: Письма и дневники в русском литературном наследии XX века. М.: ИМЛИ РАН, 2018. С. 333-340.
- Серебров Н.Н. Генрих Манн. М.: Наука, 1964. 295 с.
- Советско-германские научные связи времени Веймарской республики. СПб.: Наука, 2001. 367 с.
- Спиридонова Л. М. Горький - мыслитель, художник, человек. М.: ИМЛИ РАН, 2022. 432 с.
- Ушаков В.Б. Внешняя политика Германии в период Веймарской республики. М.: Изд-во ИМО, 1958. 158 с.
- Шульц Э.Э. От Веймарской республики к Третьему рейху: Электоральная история Германии 1920-х - начала 1930-х гг. М.: ЛЕНАНД, 2016. 272 с.
- Eksteins M. The limits of reason: The general democratic press and the collapse of Weimar democracy. London: Oxford University press, 1975. 337 p.
- Gorky M. Wenn Europa sich nicht besinnt // Russland und die Welt. Berlin: Verlag für Politik und Wirtschaft, 1922. S. 27-32.
- Gross D. The writer and society: Heinrich Mann in a literary politics in Germany. Atlantic Highlands (N.J.): Humanities press, 1980. 302 p.
- Halperin S.W. Germany tried democracy: A political history of the Reich from 1918-1933. New York: Norton, 1974. 567 p.
- Haupt J. Heinrich Mann. Stuttgart: J.B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung und Carl Ernst Poeschel Verlag, 1980. 225 s.
- Mann H. Diktatur der Vernunft. Berlin: Verlag die Schmiede, 1923. 77 s.
- Mann H. L'Europe. État suprême // Europa. 1923. № 6. P. 129-149.
- Moench W. Weimar: Gesellschaft - Politik - Kultur in der Ersten Deutschen Republik. Frankfurt am Main: Verlag Peter Lang, 1988. 242 s.
- Tormin W. Die Weimarer Republik. Hannover: Fackelträger, 1987. 287 s.