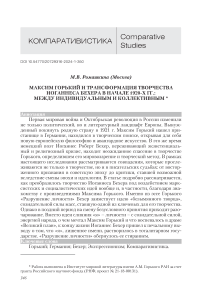Максим Горький и трансформация творчества Иоганнеса Бехера в начале 1920-х гг.: между индивидуальным и коллективным
Автор: Ромашкина М.В.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Компаративистика
Статья в выпуске: 1 (68), 2024 года.
Бесплатный доступ
Первая мировая война и Октябрьская революция в России изменили не только политический, но и литературный ландшафт Европы. Вынужденный покинуть родную страну в 1921 г. Максим Горький нашел пристанище в Германии, находился в творческом поиске, открывая для себя новую европейскую философию и авангардное искусство. В это же время немецкий поэт Иоганнес Роберт Бехер, переживающий экзистенциальный и религиозный кризис, находит неожиданное спасение в творчестве Горького, определившем его мировоззрение и творческий метод. В рамках настоящего исследования рассматриваются совпадения, которые прослеживаются не только в творчестве, но и в писательских судьбах: от восторженного признания в советскую эпоху до критики, ставшей возможной вследствие смены эпохи и идеологии. В статье подробно рассматривается, как преобразилось творчество Иоганнеса Бехера под воздействием марксистских и социалистических идей вообще и, в частности, благодаря знакомству с произведениями Максима Горького. Именно из эссе Горького «Разрушение личности» Бехер заимствует идею «безымянного творца», созидательной силы масс, ставшую одной из ключевых для его творчества. Однако в поздний период на смену безусловного принятия приходит разочарование. Вместо идеи слияния «я» - личности - с созидательной силой, энергией народа, о чем мечтал Максим Горький и что воспевалось в драме «Великий план», к концу жизни Иоганнес Бехер пришел к печальному выводу о том, что «я», лишенное имени, растворилось в тоталитарном государстве. «Разрушение личности» обернулось ее стиранием.
Горький, германия, бехер, экспрессионизм, компаративистика
Короткий адрес: https://sciup.org/149145257
IDR: 149145257 | DOI: 10.54770/20729316-2024-1-350
Текст научной статьи Максим Горький и трансформация творчества Иоганнеса Бехера в начале 1920-х гг.: между индивидуальным и коллективным
Первая мировая война и Октябрьская революция в России изменили не только политический, но и литературный ландшафт Европы. Вынужденный покинуть родную страну в 1921 г. Максим Горький нашел пристанище в Германии, где переживал своего рода душевный кризис [Примочкина 2022] и находился в творческом поиске, открывая для себя новую европейскую философию и авангардное искусство. В то же время, в самом начале 1920-х гг., еще сравнительно молодой Иоганнес Роберт
Бехер также переживает тяжелейший период своей жизни, связанный с экзистенциальными и религиозными исканиями. Спасительным для него становится творчество Горького, определившее его мировоззрение и творческий метод в рамках пролетарской литературы.
Примечательно, что определенные совпадения прослеживаются не только в творчестве, но и в писательских судьбах: от глубочайшего признания в советскую эпоху до критики, ставшей возможной вследствие смены эпохи и идеологии.
Бертран Рассел в своей «Истории западной философии» рассматривал всю историю мысли через призму борьбы индивидуального и коллективного, личности и социума. Эта диалектика стала в первой половине XX в. главным нервом эпохи – от «восстания масс» (Х. Ортега-и-Гассет) и Октябрьской революции до тоталитарных режимов 1920–1930-х гг. Дихотомия «Я» и «Мы» пронизывала все стороны интеллектуальной жизни эпохи, что безошибочно уловил Горький, уже в 1908 г. опубликовавший эссе «Разрушение личности», которое произвело большое впечатление на Бехера. В этой статье мы рассмотрим искания Иоганнеса Бехера в контексте перехода от демонстративного индивидуализма поэта-экспрессиониста к безымянному автору, голосу «серых колонн».
Страдания юного Бехера
Одной из центральных мировоззренческих установок экспрессионистов было реальное и «эстетическое инакобытие молодых» [Энциклопедический словарь экспрессионизма 2008, 7], предощущение Нового мира с помощью искусства в противовес «старому порядку» их отцов. Протест хорошо образованной берлинской молодежи против бюргерства, милитаризма и шовинизма «отцов», таким образом, помещает экспрессионистов в плеяду нигилистических молодежных течений.
Бехер, сын крупного баварского судебного чиновника, рано разорвал отношения с семьей. Позднее он писал, что его детство было омрачено разногласиями с родителями, не раз подчеркивая это для создания образа выходца из ненавистного Bürgertum, порвавшего со своим классом. В главном своем романе – «Прощании» ( Abschied , 1940) – Бехер вновь рисует образ тирана-отца и молодого героя, отказывающегося от бюргерского уклада жизни.
Своеобразным актом «отцеубийства» можно считать нигилистический разрыв с немецкой классической литературной традицией и «буржуазной» культурой: «Имя Гёте стало для меня синонимом немецкого мещанства... а органные звуки Баха казались мне благочестивым обманом» [История немецкой литературы 1985–1986, 567]. Автор множества лирических стихов, формой и содержанием восходивших к образцам классической литературы, молодой Бехер демонстративно проверяет немецкий язык на прочность: в синтаксисе, лексике, пунктуации. Сергей Третьяков отмечает, что Бехер считался экспериментатором в области словотворчества [Третьяков 1936]. Йенс-Фитье Дварс сравнивает слова Бехера с
М.В. Ромашкина (Москва) | Максим Горький и трансформация творчества Иоганнеса Бехера... бомбами, которые взрываются сами, разрушая синтаксис и традиционный строй предложения [Dwars 1998]. И в этом тоже конфликт с традицией, «мещанством», «отцами».
Идеологически и мировоззренчески Горький был близок к экспрессионистам. Ожидание «бури» и нового справедливого мира, презрение к мещанству, образ нового активного человека, пацифизм, антропоцентризм и общий гуманистический посыл – во всех этих «точках» соприкосновение несомненно (ср. ощущение большого города у Бехера: «Город размозжил его жилыми корпусами, / А потом – сковал асфальтовой корой» [Бехер 1970, 31–32]).
То же может быть сказано об идеологических пересечениях Горького и марксизма, марксизма и экспрессионизма. Неслучайно многие крупные фигуры немецкого экспрессионизма связали себя впоследствии с социализмом: Бехер, Брехт, Рубинер, Вольф, Леонгард. Таким образом, следует скорее говорить о треугольнике близких мировоззренческих систем: Горький – марксизм – экспрессионизм.
Разрушение личности
В начале 1920-х гг., по признанию самого Бехера, наряду с ленинскими сочинениями («Империализм, как высшая стадия капитализма», «Государство и революция») переворот в его понимании себя и окружающего мира произвела статья Горького «Разрушение личности» (1909): «1921/1922 год снова был годом больших потрясений. Потом я наткнулся на эссе Максима Горького. Здесь было много вопросов, которые меня тревожили...» [Deutschland und die russische Revolution 1998, 476].
«Разрушение личности» – культурологическое эссе, в котором Горький противопоставляет созидательную энергию народа индивидууму. Единоличный талант не только не поднимается над народом, он глубоко вторичен и мелок в сравнении с этим «единственным и неиссякаемым источником ценностей духовных, первым по времени, красоте и гениальности творчества философом и поэтом» [Горький 1997, 44]. Питаемое коллективной силой народных масс индивидуальное творчество может «огранять», но не создавать: «Зевса создал народ, Фидий воплотил его в мрамор» [Горький 1997, 51]. В отрыве же от этой монистической энергии творец стремительно деградирует, превращаясь в мещанина-индивидуалиста, а для Горького нет более оскорбительного определения, чем «мещанин». Горький беспощаден в своей критике: «Духовно обнищавшая, заплутавшаяся во тьме противоречий, всегда смешная и жалкая в своих попытках найти уютный уголок и спрятаться в нем, личность неуклонно продолжает дробиться и становится все более ничтожной психически. Чувствуя это, охваченная отчаянием, сознавая его или скрывая от себя самой, она мечется из угла в угол, ищет спасения, погружается в метафизику, бросается в разврат, ищет Бога, готова уверовать в дьявола… Для “я” осталось одно наслаждение – говорить и петь о своей болезни, о своем умирании…» [Горький 1997, 54].
Конечно, в 1909 г., говоря об ущербности «поэзии мировой скорби», Горький не мог иметь в виду экспрессионизм, который тогда существовал только на уровне смутного мироощущения (Weltgefühl). Но здесь важнее, как рефлексировал это Бехер. Представим, как статья Горького звучала для него. Его экспрессионистские ламентации и протест против «отцов», стихи о деформации окружающего мира и разложении, суицидальные эпизоды и психиатрические клиники, морфинистское прошлое (разврат, о котором пишет Горький), целенаправленное создание индивидуалистического образа Dichter, утопические и абстрактные симпатии к социализму, наконец, недавний период богоискательства – казалось, Горький писал не о современном ему поколении русских писателей, а о нем – Иоганнесе Бехере.
Роза Люксембург на кресте
В 1917 г. Бехер вступает в Социалистическую партию Германии, в 1918 – в Союз Спартака. В 1919 г. быстро приходит разочарование в коммунистическом движении в Германии, и Бехер отдаляется от общественной работы. Сам поэт писал впоследствии, что на тот момент имел «чисто эмоциональную связь с революционным движением, без малейших знаний о марксизме» [Metamorphosen eines Dichters 1992, 204]. Карстен Ган-сель подчеркивает в «социализме» молодого Бехера «анархистско-неоромантические установки» [Metamorphosen eines Dichters 1992, 34]. Этот же период отмечен интересом к религии, большим вниманием к библейскому тексту. Еще не до конца сформировавшиеся социалистические убеждения и католическая вера сливаются в весьма любопытном синтезе. Как отмечает Т.Н. Андреюшкина, «“Рай” и “Святая Империя” связаны в сознании Бехера с Советской Россией» [Андреюшкина 2015, 512]. «Социалист» соседствует со скрижалями завета, образами Заратустры и Моисея.
Бехер часто заимствует христианскую символику для описания людей, процессов, явлений, связанных с коммунистическим движением. К примеру, в «Гимне к Розе Люксембург», изданном в «Сумерках человечества», Бехер обращается к убитой коммунистке. По словам Микаэля Рорвассера, Ленин превращается в изображении Бехера во «всемогущий субъект второй истории творения», он становится «Богом-отцом, чье слово создало новый мир…» [Deutschland und die Russische Revolution 1998, 468–469]: «Он коснулся сна мира / Словами, которые стали хлебом» [Becher 1951, 17].
Примечательно, что даже много лет спустя, идентифицируя себя уже как социалистического реалиста, в поэме «Великий план» ( Der grosse Plan , 1931) Бехер вновь возвращается к религиозным метафорам, говоря о ГО-ЭЛРО и отсылая к Книге Бытия.
Обращение к христианству у Бехера, как, впрочем, и у Горького, в попытке описать «новый мир» и его героев (пророков, апостолов, мессий), конечно, глубоко неслучайно. По нашему мнению, это связано с двумя имманентными и марксизму, и экспрессионизму, и даже социалистическому романтизму (как предпочитал называть социалистический реализм Горький) элементами: неоромантическим образом жертвенного героя и эсха-
М.В. Ромашкина (Москва) | Максим Горький и трансформация творчества Иоганнеса Бехера... тологическим мифом. В случае героев, приносящих себя в жертву ради строительства нового мира, читателю рубежа XIX–XX вв. практически невозможно было избежать аллюзий на Христа. Такие герои прекрасно влились в систему персонажей социалистического реализма-романтизма. Следовало не просто подчеркивать упадок и деформацию окружающего мира (что, по теории марксистского искусства, характерно для критического реализма), но и показывать перспективу, с чем как нельзя лучше справлялся герой-пролетарий.
Что касается эсхатологического мифа, то экспрессионизм был неразрывно связан с предощущением и приветствием Апокалипсиса. Именно поэтому многие экспрессионисты перед Первой мировой войной воспринимали ее как потенциал для разрушения мира старого, из которого воспрянет мир новый («Распад и триумф»); (о противоречивом восприятии войны у экспрессионистов см.: [Андреюшкина 2014]). Марксизм же работает в той же «телеологической» системе координат, что и христианство: человеческая история неуклонно движется к революции (конец света) и «новому миру» –коммунизму. Как отмечает Клаус Вондунг, «Бехер особенно хорошо уловил апокалиптическую суть доктрины Маркса, претендовавшей на “радикальное изменение мира”» [Vondung 2000, 186]. Таким образом, христианская символика отвечала внутренней логике и социализма, и экспрессионизма, будучи универсальным, архетипическим «мифом» о новом мире и жертвенности.
Абиссиния Бехера
В 1923 г. после экзистенциальных метаний Бехер вступает в ряды Коммунистической партии Германии. Он быстро становится одной из ключевых фигур немецкой пролетарской литературы и в 1928 г. основывает «Союз пролетарско-революционных писателей». В стихотворной форме он обозначает задачу Союза – одновременно политическую и эстетическую: «Революция по-прежнему стоит / На повестке дня. / Я присоединяю свой голос / К боевой железорубленной песне партии» [Андреюшкина 2015, 514]. Петер Деметц добавляет: «Его Абиссинией была партия»[Demetz 1992], –отсылая к путешествию Артюра Рембо в Восточную Африку, которое помогло ему преодолеть личностный и творческий кризис.
Микаэль Рорвассер остроумно обыгрывает преображение Бехера в названии своей статьи: «Спасительная Россия. Опыт возрождения юного Иоганнеса Р. Бехера» – «Dasrettende Russland. Erweckungs erlebnisse des jungen Johannes R. Becher».
Даже в кругу единомышленников (берлинских интеллектуалов-экспрессионистов) Бехер, судя по лирике того периода, все равно чувствовал себя маргинализированным, лишенным той самой «перспективы», которую давал марксизм и которая соответствовала чаяниям самого поэта о спасении и возрождении.
Этот настрой, разочарование в протесте богемы, звучит уже в стихотворении «Кафе» (1914): «Уже возмущение снова захлестывает нас. / Мы только размахиваем руками в замешательстве. / Мы глотаем заговор с мрачной улыбкой, / Потом все бокалы со звоном кружатся» [Бехер 1970, 123]. Та же горькая интонация и чувство беспомощности слышится в стихотворении из того же сборника («Verfall und Triumph») «Стеснение» («Beenung»): «Мир становится слишком узким… / И грохот, и удушье, и страхи, и ярость…» [Бехер 1970, 264].
Преображенный партийной работой Бехер с облегчением пишет: «Моя жизнь полностью перевернулась в том, что касается друзей и знакомых. С кафе покончено, с веселым артистизмом и [богемой] Швабинга – тоже. Я должен работать каждую минуту. Я должен функционировать» [Metamorphosen eines Dichters 1992, 14].
Некоторые исследователи видят среди мотивов присоединения Бе-хера к партийной организации и внутренне ощущаемую необходимость в самодисциплине в противовес экспрессионистской развязности и хаотичности, и заполнение мировоззренческого вакуума после «богемного» периода [Metamorphosen eines Dichters1992, 36–37], и даже сублимацию, поиск замещающей «отцовской фигуры» [Davies 2013, 77].
В отличие от Максима Горького, для которого первые годы после победы большевиков стали причиной внутреннего кризиса («несвоевременных мыслей»), у Иоганнеса Бехера не было повода не восхищаться искренне революционными завоеваниями советского народа и не приветствовать «свет с Востока».
Человек, идущий в строю
С середины 1920-х гг. творчество Бехера, прочно связавшего себя с пролетарской литературой, претерпевает две взаимосвязанные трансформации: эстетическую и, конечно, идейную. Во-первых, меняется поэтика, уходит в прошлое вычурность экспрессионизма и «насилие над немецким академическим языком». Бехер пишет «рубленными» фразами (в ритме стаккато, по определению Т.Н. Андреюшкиной [Андреюшкина 2015, 514]), иногда доходя до сухого газетного изложения. Во-вторых, поэт отказывается от «O-Ich-Pathos» (так Микаэль Рорвассер переводит на немецкий выражение Сергея Третьякова «культ всесмеющего “я”») экспрессиониста в угоду воспеванию безымянных «Мы», «человека, идущего в строю», «серых колонн».
Творческое преображение Бехера было вдохновлено Максимом Горьким, как было показано выше, а также Владимиром Маяковским. Бехер переводил поэму «150 000 000» и прочно усвоил ритмику русского поэта – он сам старается приблизиться к ритму сплоченной толпы, к «радости марша» [Андреюшкина 2015, 515]. У Горького («энергия народа») и у Маяковского Бехер также заимствует идею «безымянного творца», созидательной силы масс.
Апофеозом этого творческого подхода стала поэма-драма «Великий план». Пафос экспрессионизма сменяется сухим пафосом цифр и газетных сообщений, исполняемых хором, подобно древнегреческим трагедиям.
Главные действующие лица «эпоса» – не личности, а великие стройки («Турксиб», «Магнитогорск», «Баку») и безымянные люди-функции (например, человек, который идет в строю, неизвестный солдат и др.).
Возвращаясь к ранее звучавшей мысли, отметим еще раз: Горький, Маяковский, Бехер, Юнгер рационально или интуитивно определили борьбу за примат между «я» и «мы» как один из главных дискурсов первой половины XX в. – эпохи, увидевшей рождение тоталитаризма.
Стирание личности
В 1952 г. Бехер пишет стихотворение «Человек, который любит Германию»: «Человек, который любит Германию… / Человек, который учит миру все народы <…> / Человек по имени Сталин, который бдит вместе с нами, / Человек, который провозглашает истинную славу Германии» [Becher 1973, 278]. После эмиграции в 1933 г. Бехер обосновался в Советском Союзе, и его взгляды, конечно, не могут быть совершенно неангажи-рованными. Однако Т.Л. Мотылева подчеркивает, что не столько страх за свою жизнь, сколько забота о судьбе Германии сформировала такую оценку личности Сталина: «Сталин был противовесом Гитлеру, был будущим освободителем Германии от кошмара фашизма. Он хвалил Сталина и был в этом искренен» [Motyljowa 1989, 584].
В автобиографическом сочинении c говорящим названием «Самоцен-зура», которое было опубликовано лишь в конце 1980-х гг., Бехер стремится быть честным с потомками и самим собой: «Я чтил этого человека, как никакого другого живого человека. <…> Было бы более чем нечестно, было трусостью с моей стороны не признаться открыто, что я считал этого человека одним из гениев (sic) человечества» [Becher 1988, 543].
Одной из черт экспрессионизма было ригористическое деление на «черное» и «белое» [Энциклопедический словарь экспрессионизма 2008, 636],«добро» и «зло», что вытекало из самой сути протеста, «крика». Это же прекрасно ложилось на социалистическую почву – мир разделялся на «пролетариат» и всех остальных, союзников и врагов. Этот протестный, бескомпромиссный дух бехеровского творчества отметил Максим Горький в «Протесте против суда над Бехером». Когда еще в эпоху Веймарской республики Бехера судили за антивоенный роман «Люизит, или единственно справедливая война» по обвинению в «литературной государственной измене» (literarischer Hochverrat), Горький выступил в его защиту: «“Люизит (единственная справедливая война)” Бехера – превосходное произведение художника, вдохновленного любовью и ненавистью». Эта страстная ненависть была близка Горькому (вспомним его слова «Если враг не сдается, его уничтожают»). Горький и Бехер не видели противоречия между гуманистическими идеалами и «священной ненавистью».
Однако сталинские чистки не могли не оставить отпечатка. В своем позднем стихотворении «Мотив из прошлых времен» («Motiv aus vergangenen Zeiten»), которое было опубликовано также много позже смерти Бехера, мы видим, как меняется его восприятие «безымянного»
человека, бывшего героем «Великого плана». В этом стихотворении можно увидеть отсылку к судьбам многих культурных и политических деятелей, но Бехер поднимается над конкретикой, над фактами и личностями. Это исследование глубинных страхов человека – страха дегуманизации, «проклятия памяти» («damnatio memoriae»), полного исчезновения, ухода в небытие.
Вместо слияния личности, «я», с созидательной силой, энергией народа, о чем мечтал Максим Горький и что воспевалось в «Великом плане», Иоганнес Бехер к концу жизни пришел к печальному выводу о том, что «я», лишенное имени, растворилось в тоталитарном государстве. «Разрушение личности» обернулось ее стиранием.
Список литературы Максим Горький и трансформация творчества Иоганнеса Бехера в начале 1920-х гг.: между индивидуальным и коллективным
- Андреюшкина Т.Н. «Конец мира»: немецкая поэзия периода Первой мировой войны // Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. 2014. № 1(15). С. 3–11.
- Андреюшкина Т.Н. Иоганнес Роберт Бехер // Литературный процесс в Германии первой половины XX века (ключевые и знаковые фигуры). М.: ИМЛИ РАН, 2015. С. 509–526.
- Бехер И.Р. Стихотворения. Прощание. Трижды содрогнувшаяся земля. М.: Художественная литература, 1970. 672 с.
- Горький М. Разрушение личности // Максим Горький: Pro et Contra. Личность и творчество Максима Горького в оценке русских мыслителей и исследователей. 1890–1910-е гг. Антология. СПб.: Русский Христианский гуманитарный институт, 1997. С. 44–90.
- История немецкой литературы: в 3 т. / общ. ред. А. Дмитриева. М.: Радуга, 1985–1986.
- Примочкина Н.Н. М. Горький и немецкий экспрессионизм // Филологические науки. Научные доклады высшей школы. 2022. № 6. С. 90–99.
- Третьяков С.М. Люди одного костра. (Литературные портреты). М.: Гослитиздат, 1936. 265 с.
- Энциклопедический словарь экспрессионизма / гл. ред. П.М. Топер. М.: ИМЛИ РАН, 2008. 736 с.
- Becher J.R. Gedichte 1949–1958. Berlin: Aussbau Verlag,1973. 747 s.
- Becher J.R. Sterne unendliches Glühen. Die Sowjetunion in meinem Gedicht 1917–1951. Berlin: Rütten & Loening, 1951. 310 s.
- Davies P. ‘Poltern Und Würgen Und Drohen Und Wüten...’: The Aesthetic Project of Johannes R. Becher (1891–1958) // Oxford German Studies. 2013. Vol. 42. No. 1. P. 77–95.
- Demetz P. Über Gattung und Begattung // Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 28.02.1992. S. 2.
- Deutschland und die russische Revolution: 1917–1924 / Hrsg. G. Koenen. München: Fink, 1998. 952 S.
- Dwars J.-F. Abgrund des Widerspruchs: Das Leben des Johannes R. Becher. Berlin: Aufbau, 1998. 861 S.
- Metamorphosen eines Dichters. Johannes R. Becher. Gedichte, Briefe, Dokumente 1909–1945. Berlin: Aufbau Tb, 1992. 271 S.
- Motyljowa T. Bechers geistige Tragödie // Kunst und Literatur. Heft 5. Berlin: Volk und Welt, 1989. S. 579–589.
- Vondung K. The Apocalypse in Germany. Columbia, Missouri: University of Missouri Press, 2000. 437 p.