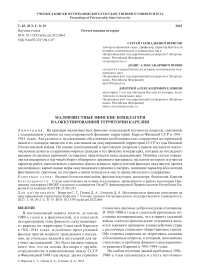Малоизвестные финские концлагеря на оккупированной территории Карелии
Автор: Веригин Сергей Геннадьевич, Попов Денис Александрович, Елошин Дмитрий Александрович
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Отечественная история
Статья в выпуске: 2 т.45, 2023 года.
Бесплатный доступ
На примере малоизвестных финских концлагерей изучаются вопросы, связанные с содержанием узников на оккупированной финнами территории Карело-Финской ССР в 19411944 годах. Актуальность исследования обусловлена необходимостью сохранения исторической памяти о геноциде нацистов и их союзников на оккупированной территории СССР в годы Великой Отечественной войны. На основе воспоминаний и протоколов допросов узников изучаются многочисленные аспекты содержания мирных граждан в тех финских концлагерях, которые до последнего времени по разным причинам оставались практически неисследованными. Новизна статьи определяется введением в научный оборот обширного архивного материала, на основе которого изучается характер работ, выполняемых узниками; факты военных преступлений финских оккупантов против заключенных; карантинные меры оккупационного режима в лагерях, носившие характер абсолютной фиктивности; причины, по которым узники попадали в места принудительного содержания.
Великая отечественная война, финская оккупация, концлагеря, финляндия, карелия
Короткий адрес: https://sciup.org/147240120
IDR: 147240120 | УДК: 94(470.22)"1941/45" | DOI: 10.15393/uchz.art.2023.864
Текст научной статьи Малоизвестные финские концлагеря на оккупированной территории Карелии
В послевоенный период вплоть до конца 1980-х годов и в финляндской, и в советской историографии тема финского оккупационного режима на территории Советской Карелии в 1941–1944 годах, и особенно преступлений финнов против мирного гражданского населения, не считалась важной и актуальной для научных исследований. Это было вызвано прежде всего тем, что на основе Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между СССР и Финляндией 1948 года между двумя странами
сложились прочные добрососедские отношения. В 1950–1980-е годы в советской пропаганде постоянно подчеркивалось, что в период холодной войны советско-финляндские отношения являются хорошим примером взаимодействия стран с различным социально-общественным строем. Обе стороны старались не затрагивать сложные и болезненные вопросы, к которым, несомненно, относилась и проблема финского оккупационного режима в Карелии в 1941–1944 годах.
На слабом изучении данной проблемы в 1950– 1980-е годы сказывалась и узость источнико- вой базы. Правда, на заключительном этапе Второй мировой войны и сразу после ее окончания в СССР были опубликованы сборники документов Чрезвычайной государственной комиссии (ЧГК) о преступлениях финских захватчиков на временно оккупированной территории Карелии в 1941–1944 годах1. Однако по вышеуказанным политическим причинам эти документы оказались невостребованы. Сказалось также и то обстоятельство, что финские военные преступники не проходили по Нюрнбергскому трибуналу – международному процессу над бывшими руководителями нацистской Германии в 1945–1946 годах, а по договоренности между руководством СССР и Финляндии судебные процессы над финскими военными преступниками были отнесены к финляндскому правосудию. В этой связи в СССР первая работа, где достаточно подробно изучался период оккупации, вышла только в 1983 году. Это была монография К. А. Морозова «Карелия в годы Великой Отечественной войны» [9], в которой автор привел число умерших в годы финской оккупации. По его мнению, их количество составляло 14 тысяч человек – сейчас это наиболее распространенная в отечественной историографии версия.
В постсоветский период наиболее подробно тема финской оккупации Карело-Финской ССР (КФССР) рассмотрена в работах С. Г. Веригина. В монографии «Карелия в годы военных испытаний…» [2] автор раскрывает широкий спектр проблем, связанных с указанной тематикой: военные преступления финского оккупационного режима против мирных граждан; экономическая политика и экономический ущерб финских оккупантов, нанесенный экономике республике; характер работ, выполняемых узниками концентрационных и трудовых лагерей, и др. С. Г. Веригиным был опубликован целый ряд статей, посвященных отдельным аспектам финской оккупации. В частности, в одной из них рассмотрена национальная политика финской администрации и сделан вывод о том, что в 1941–1944 годах она не принесла желаемых результатов: финнам не удалось привлечь на свою сторону советских карелов, вепсов, финнов [4].
-
С. Г. Веригин подробно рассматривал и экономические аспекты финской оккупации Карелии [3]. Автор отмечал, что изначально финские власти ставили перед собой задачу восстановления и развития оккупированной территории, так как Карелия должна была войти в состав «Великой Финляндии». Приоритет отдавался сельскому хозяйству и тем отраслям промышленности, которые были необходимы для снабжения армии. Центральное место в экономической политике финского оккупационного режима занимали планы интенсивной заготовки карельского леса и вывоза его в Финляндию. Экономическая политика ста-
ла меняться с 1943 года, когда Финляндия осознала, что Германия потерпит поражение. Начинается прямой грабеж природных и материальных богатств Карелии, разрушение промышленных объектов и вывоз оборудования в Финляндию. После выхода Финляндии из войны в сентябре 1944 года финляндское правительство частично компенсировало ущерб, причиненный экономике Карелии.
Общие аспекты финской оккупации Карелии были рассмотрены в статье А. Ю. Осипова «Оккупационный режим Финляндии в Советской Карелии» [10]. Автор делает вывод о том, что просветительную работу финнов в Карелии можно разделить на несколько направлений, но центральное место отводилось идее «Великой Финляндии». Наряду с этим местному населению внушалось негативное отношение к советской власти, а политику по отношению к юным возрастным группам А. Ю. Осипов определяет как «финляндизацию».
В статье Е. А. Давыдовой и Н. С. Журавлевой «Жизнь населения советской Карелии в период финской оккупации (1941–1944)» [5] также рассматриваются общие аспекты финской оккупации Карелии. Авторы выделяют два основных направления финской оккупационной политики. Первое было связано с необходимостью привлечения трудовых ресурсов в условиях войны, для чего создавались концентрационные и трудовые лагеря. При реализации этого направления ведущим критерием стал этнический признак, в соответствии с которым распределялись социальные права и материальные условия жизни. Второе направление – это пропаганда идеи «Великой Финляндии», в рамках которой внушалась мысль об историческом родстве всего финно-угорского населения. Идеологической обработке подвергались преимущественно молодежь и дети. Особое внимание уделялось возвращению к дореволюционным ценностям и религиозным традициям. Однако, как указывают авторы статьи, все эти попытки оказались безуспешны. Кроме того, в условиях войны трехлетний срок оккупации оказался слишком кратковременным для выработки стабильных методов управления покоренной территорией.
В 1950–1980-е годы в Финляндии выходили немногочисленные исследования, которые затрагивали проблему финского оккупационного режима в Советской Карелии в 1941–1944 годах. Выделим публикацию 1982 года докторской диссертации Антти Лайне «Два лица Великой Финляндии. Положение гражданского населения Восточной Карелии при финском оккупационном режиме 1941–1944» [13], в которой освещается финский оккупационный режим в Карелии не только как последовательность конкретных действий и мероприятий ВУВК, но и как результат осуществления на оккупированной территории Восточной Карелии идеи Великой Финляндии, сформировавшейся в Финляндии еще в начале XX века. А. Лайне был одним из первых финских исследователей, кто затронул тему финских концлагерей для мирного гражданского населения. К недостаткам данной работы следует отнести то, что в силу сложившихся тогда обстоятельств к исследованию не были привлечены документы из советских архивов.
Среди переводных финских исследований особое внимание стоит уделить работе Х. Сеп-пяля «Финляндия как оккупант в 1941–1944 гг.» [11]. Во время войны Финляндии против СССР автор был солдатом оккупационных войск в Петрозаводске, охранял заключенных, отправленных на принудительные работы на Онежский завод. Возможно, его собственной опыт оккупации оказал влияние на объективное освещение финской оккупационной политики в Карелии. В работе Х. Сеппяля сформулировал суть оккупационной политики Финляндии в Восточной Карелии в 1941–1944 годах как реализацию экспансионистского по своей природе проекта создания «Великой Финляндии».
Значительный вклад в финляндскую историографию проблемы внесла монография Юкки Куломаа «Яанислинна. Годы финской оккупации Петрозаводска, 1941–1944», вышедшая в 1989 году и посвященная всестороннему изучению финского оккупационного режима в оккупированной столице Карелии – г. Петрозаводске, переименованном финнами в военный период в г. Яанислинна («Крепость на Онего») (рус. перевод: [8]). В ней приводится большой фактический материал об оккупации столицы КФССР, в том числе указывается и количество узников каждого из шести петрозаводских концлагерей.
***
Несмотря на отмеченные выше публикации, посвященные указанной тематике, многие из финских мест принудительного содержания на оккупированной территории Карелии в 1941–1944 годах до сих пор остаются малоисследованными. По нашему мнению, это связано с целым рядом факторов. Во-первых, географическим: чем дальше лагерь находился от Петрозаводска, к которому всегда было приковано особое внимание (это можно объяснить тем, что Петрозаводск – столица КФССР, и тем, что там было сосредоточено сразу шесть концлагерей, многие из которых были особенно крупными), тем он реже освещался в работах историков. Во-вторых, это связано с источниковой базой: среди документов, собранных ЧГК после освобождения Карелии, подавляющее большинство материалов относилось как раз к петрозаводским лагерям, а не к тем, которые можно условно назвать региональными. В-третьих, размеры самого лагеря: чем меньше людей содержалось в лагере, тем меньше о нем осталось документов, соответственно, он изучался в недостаточной степени. Ко всему прочему, до сих пор сохраняется проблема малоизученности финского оккупационного режима на микроуровне: крайне мало работ посвящено отдельному концлагерю или отдельному оккупированному району КФССР. Среди них следует выделить недавно опубликованную статью Ю. Н. Зеленской [6], посвященную пребыванию советских граждан в Кутижемском трудовом лагере на занятой финскими войсками территории Советской Карелии.
На основе указанной выше историографии можно выявить целую группу мест принудительного содержания, которые в исторической литературе получили ограниченное освещение. Это концлагеря № 4 и № 7 (г. Петрозаводск), концлагерь № 8 (поселок Ильинский), концлагерь в деревне Колвасозеро, Видлицкий концлагерь, тюрьма и концлагерь в деревне Киндасово. Именно этим концлагерям, трудовым лагерям и тюрьмам посвящена данная статья.
Основой архивной базы статьи являются воспоминания и протоколы допросов узников финских лагерей, выявленные в архивах Республики Карелия в ходе работы над проектом «Электронный ресурс “Места принудительного содержания населения в Карелии в 1941–1944 гг.”», реализованного в рамках Программы поддержки НИОКР студентов и аспирантов ПетрГУ, финансируемой Правительством РК.
Финская оккупация Карелии значительно отличается от оккупации советских территорий немецкими войсками. В частности, в Карелии была самая высокая плотность мест принудительного содержания населения: для 86 тысяч человек, оставшихся на захваченной финскими войсками территории, было создано более 100 таких мест: 14 концлагерей, 34 трудовых лагеря, 42 роты для военнопленных, 9 тюрем и одна колония. При этом концентрационные и трудовые лагеря имели филиалы на всей оккупированной территории, охватывая практически все населенные пункты захваченной Карелии [1: 30]. Е. В. Усачева отмечала, что после изучения опыта организации оккупационного режима немцами финны пришли к выводу, что необходимо внедрять собственные методы управления оккупированными территориями [12: 122]. Она же подчеркнула и одну из главных черт финской оккупационной политики – национальную сегрегацию населения [12: 126].
Одним из самых загадочных и малоизученных финских лагерей является концлагерь в деревне Колвасозеро (Ребольский район КФССР), который был создан для неблагонадежного «национального» населения. В лагерь попадали карелы, вепсы, финны, ингерманландцы, которые были заподозрены оккупационной властью в связях с партизанами или подпольщиками, высказывали недовольство финской оккупационной политикой. Но люди могли попасть в лагерь и по другим причинам. В частности, узница этого лагеря А. О. Тарасова в 1948 году вспоминала:
«Однажды меня вызвали к финскому коменданту. Я очень испугалась. Пришла. Там уже знали, что я работала в райкоме партии. Они меня стали спрашивать, кто был первым секретарем райкома, вторым и т. д. Увидели на мне плащевое пальто и спросили, сколько стоит. Я ответила – 270 рублей. Они не поверили и сказали, что, наверно, 2 тысячи. Потом говорят, что хорошо одевалась только потом у, что в райкоме работаю. Они также говорили, что в райкоме был буфет, тогда как ни в какой другой организации его не было»2.
После этого ее отпустили домой, но через два дня арестовали, этапировали в Олонец, а оттуда в Колвасозеро, где она оказалась в мае 1942 года. Таким образом, причиной для ареста и отправки в этот лагерь могла стать банальная ненависть к советским партийным работникам, даже к тем, которые не были замечены в конкретной анти-финской деятельности. А. О. Тарасова вспоминала, что в мае 1942 года в лагере в Колвасозе-ро было только 25 человек, затем их число дошло до сотни. Е. В. Усачева в упоминаемой выше работе отмечала, что узников сначала этапировали в Видлицу (видимо, А. О. Тарасова, когда писала, что ее этапировали в Олонец, имела в виду именно Видлицу), а затем отправляли в тюрьму или концлагерь для «ненационального» населения в Киндасово или в концлагерь для «национального» населения в Колвасозеро [12: 124].
Другой узницей концлагеря в Колвасозеро, которая вспоминала о тех страшных днях, была карелка А. Я. Грябина. В 1941 году она жила в деревне Паданы, в период финского наступления пыталась бежать из деревни на неокку-пированную территорию. Но в лесу ее вместе с другими женщинами поймали финны и вернули обратно. Ее сын Алексей стал партизаном и участвовал в знаменитом рейде партизанской бригады И. А. Григорьева в тыл финских войск летом 1942 года. Вскоре он попал в плен, но бежал из него в мае 1943 года. После его побега А. Я. Грябину арестовали финны, посадили в машину и повезли в неизвестном направлении. «В машине меня стали бить, ругают меня, говорят, ты мать разбойников, тебя надо, как мух, убить»3. За деревней Терманы машина остановилась, и А. Я. Грябиной показали тело убитого сына. Ей даже не дали с ним попрощаться, посадили обратно в машину, а через несколько дней этапировали в концлагерь для «национального» населения в Колвасозеро. Причина – она была матерью партизана. Таким образом, в концлагеря могли попадать карелы и вепсы, которых финские войска пришли «освобождать от гнета русских», только за то, что их родственники воевали с финскими оккупантами. «Пока жили в лагере, ходили каждый день на полевые работы. Кормили плохо, давали в день 200 гр. хлеба и похлебку из гнилой рыбы или мяса»4, – вспоминала А. Я. Грябина. Подобное питание было характерно для всех финских концлагерей того времени.
Любопытным является тот факт, что детей узников концлагеря для «национального» населения в Колвасозеро отбирали у родителей и отправляли учиться в школу (это было связано с общей политикой финнов по отношению к детям-«националам», которых готовили к жизни в будущей «Великой Финляндии»). Узница лагеря Д. Ф. Кононова отмечала, что детей до 1943 года не учили вовсе, а с 1943 года отправили в школу, но «учили больше закону Божьему»:
«Держали детей в невыносимых условиях. По нескольку месяцев не водили в баню, не стирали белья. Если ребята приезжали домой в лагерь, то их трудно было узнать, все они были черные от грязи»5.
Далее рассмотрим концлагерь № 7 в г. Петрозаводске. Он существовал недолго и был создан, видимо, для изоляции узников концлагеря № 6 во время карантина. 9 сентября 1943 года, как раз после окончания карантина, эти концлагеря объединились. В воспоминаниях узников отмечается, что лагерь № 7 также называли «Шунгское отделение», в нем содержалось около 800 человек. Характер содержания узников в этом лагере, созданном, по сути, специально в рамках карантинных мер, ярко показывает то, как в финских лагерях проходил карантин. Всех узников постригли, отобрали одежду, которая длительное время лежала на улице. Затем одежду отправили в «жа-рилку» – ее «прожаривали» с целью уничтожить инфекцию. Однако после этого одежду вновь кидали в общую кучу, и узники «копошились» в ней в поисках своих вещей. Это практически сводило на нет весь смысл карантина – ведь зараженные узники могли спокойно заразить одежду незараженных и лишь поспособствовать распространению инфекции. Другим важным этапом карантинных мер была баня. Как отмечает узница концлагеря № 7 Могилева,
«в баню загоняли вместе с мужчинами и женщин, где выдерживали около часа при температуре 70–80 градусов. Бани были маленькие, переносные, из фанерных и бумажных щитов. В них было так тесно, что люди мазали друг друга телами и грязная вода моющихся стекала на других»6.
Еще одним лагерем, который практически не рассматривался в работах историков, был петрозаводский концлагерь № 4. Лагерь являлся карантинным и фильтрационным. 31 декабря 1941 года из концлагеря № 2 в концлагерь
№ 4 было увезено 40 мужчин, которые подозревались в том, что были советскими военнослужащими. После двух недель допросов с применением пыток часть мужчин пропала без вести, часть была возвращена в лагерь № 27. К выводу о том, что лагерь № 4 был предназначен для военнопленных, приходит историк Е. С. Киселева [7: 36]. Автор на основе воспоминаний узников дает оценку численности – примерно 300 заключенных. Лагерь пополнялся небольшими группами советских граждан по 75, 19 и 40 человек. После проверки узников переводили в другие лагеря, например в лагерь для военнопленных в То-мицы [8: 66]. В декабре 1941 года заключенных лагеря было более 3 тысяч человек8, а 28 февраля 1942 года в лагере № 4 содержалось 2240 человек [8: 66]. Так как военнопленные находились в нескольких лагерях, можно предположить, что значительная часть узников была гражданскими лицами. Например, в лагерь № 4 попадали советские граждане для дальнейшего распределения. Н. Д. Анисимов 23 ноября 1941 года вместе с женой и шестью детьми был заключен в концлагерь № 4, но, как он сам отмечает, после недолгого пребывания был направлен в лагерь в Кутижму на лесозаготовки9. Положение узников в лагере № 4 было очень тяжелым. Они голодали, узница Клавдия Одоевская вспоминала, что приходилось питаться крапивой, гнилой картошкой и трупами собак. Из-за голода весной 1942 года в лагере произошла вспышка цинги и кори у детей. Смертность была высокой, и руководство лагеря организовало бригаду из подростков, которые занимались рытьем могил. В 1942 году большинство заключенных было переведено на лесозаготовки, а часть – в лагерь № 610.
О тяжелой ситуации с медицинским обслуживанием в концлагере № 4 рассказал фельдшер этого концлагеря Парфенов в заявлении в Чрезвычайную государственную комиссию:
«В 1942 г. в лагере № 4, где я в то время был назначен в амбулаторию в качестве фельдшера, среди детского населения свирепствовала корь, на неоднократные мои просьбы и заявления начальство лагеря не принимало никаких мер. Комендант лагеря в то время был финн Кеконен. В октябре – ноябре 1942 г. в лагерь было завезено старое, грязное финское белье и роздано населению взамен ранее отобранного хорошего. Через некоторое время после этого в лагере стали появляться заболевания с кожными сыпями. Снача ла никто не обратил серьезного внимания, заболевания были единичными. Затем заболевания приняли массовый характер, была отправлена кровь от больных на исследование в лабораторию и установлен сыпной тиф…»11.
В рамках данной статьи также хотелось бы рассмотреть условия и характер работ в трудовых лагерях. Один из крупнейших трудовых лагерей – Кутижемский, расположенный в Пряжин-ском районе, был проанализирован в уже упо- мянутой статье Ю. Н. Зеленской. Мы раскроем условия содержания узников в многочисленных финских трудовых лагерях на территории Медвежьегорского района КФССР. Узница нескольких финских трудовых лагерей на территории Медвежьегорского района А. А. Ермолина вспоминала, что изначально она находилась в Заонежье, где и попала в оккупацию. После этого ее и остальных жителей деревни Яндомозеро этапировали в Медвежьегорск, где они работали на выгрузке пиломатериалов из вагонов. А. А. Ермолина вспоминала о голоде и ужасной системе питания узников: в день им давали до 400 граммов сухарей (галет), а суп они варили из тухлой конины, крапивы или мороженой картошки. Через неделю их перевели на 7-й разъезд, где узники работали на строительстве дорог. Рабочий день в этом трудовом лагере длился с 7 утра до вечера (обычно до 19:00), на отдых отводился один час. Таким образом, работали по 11 часов. А. А. Ермолина также отмечала, что работать зачастую приходилось по колено в воде, а одежды и обуви «не было никакой»12. Схожие моменты прослеживаются и в воспоминаниях Е. С. Аникиной – узницы Кутижемско-го трудового лагеря. С 7 утра работали на лесоповале, за день необходимо было выполнить норму. Рабочий день устанавливался до 18:00, однако те, кто до этого времени норму не выполнил, оставались работать и дальше. Она также отмечала, что зачастую узники просто не успевали высушить промокшую за рабочий день одежду и утром выходили на работу в мокрых вещах13. Таким образом, в обоих трудовых лагерях был крайне длинный рабочий день (11–12 часов), узники работали в суровых условиях и не имели для этого подходящей одежды. На основании этого можно сделать вывод, что данные стороны деятельности трудовых лагерей в Кутижме и на территории Медвежьегорского района являются типичными и характерными в целом для всех трудовых лагерей на оккупированной территории КФССР.
Узники трудового лагеря в Кутижме часто рассказывали о зверствах, которые творили врачи лагеря. Е. С. Аникина вспоминала:
« Не бы ло пощады к больным , придеш ь к врач у, а он даже не осматривает, гонит на работу. <…> врач не лечил, а издевался над больными. Например, частенько больных заставляли делать утреннюю зарядку, бегать вокруг больницы, пилить и таскать дрова и т. д., чтобы окрепли мускулы. Привели в больницу однажды ненормального мальчика, он ничего не понимал, что ему говорил врач, за это был жестоко избит»14.
-
А. А. Ермолина, которую весной 1943 года отправили в трудовой лагерь, находящийся в 18 км от Кяппесельги, вспоминала:
«Условия работы были жуткие, очень многие болели малярией, ко всему тому еще прибавлялось большая скученность людей, холод, вечная сырость одежды и обуви. При лагере хотя и был лазарет, но хочешь не хочешь, в нем никого не лечили. Во-первых, не было медикаментов, да и просто так не хотели. Сестры были русские, не из лагерных, а врачи приезжали финские, и только издевались да смеялись над нами, не оказывая никакой помощи»15.
О зверствах врачей особенно ярко написано в воспоминаниях и протоколах допросов узников тюрьмы для «ненационального» населения и концлагеря в деревне Киндасово. Узница Кин-дасовской тюрьмы А. И. Егорова отмечала:
«…если даже человек серьезно болел, все равно его выгоняли на работу, а охранники КОВАЛА, СИХВО-НЕН били таких людей палками, при этом кричали “вот вам здесь лекарство”»16.
Другая узница этой тюрьмы Е. В. Тарасова приводила сходную информацию:
«…белофинская администрация тюрьмы выгоняла всех на различные работы, в том числе больных, а если заключенный обращался за медицинской помощью к тюремному санитару (т. к. врача в тюрьме не было) ПОРА-ЯРВИ, то тот вместо оказания помощи выгонял больных из кабинета, а иногда даже избивал и “лечил” палкой и кулаками»17.
Таким образом, мы можем сделать вывод, что отношение врачей к узникам было одинаковым и в трудовых лагерях, которые часто меняли место расположения в зависимости от наличия лесных угодий, и в тюрьмах, которые не переезжали с места на место, а находились в одном месте постоянно, что, казалось, могло бы позволить наладить там нормальную и постоянную медицинскую помощь. Однако это было не нужно финской администрации, не заинтересованной в сохранении здоровья узников.
В архивных документах малоизученных финских концлагерей и тюрем содержится обширный материал об издевательствах оккупантов над мирными гражданами – узниками этих мест принудительного содержания. Е. В. Тарасова на допросе показала:
«В Киндасовской тюрьме над заключенными издевались, били за каждый проступок, например, во время полевых работ истощенные заключенные брали что-либо из овощей, их подвергали избиениям до бессоз-нания, так были избиты заключенные Гагарин, Фокин, Жданов, женщины Егорова и Артемьева. Редко можно найти человека, которого бы не били из тех, кто побывал в Киндасовской тюрьме. Начальником тюрьмы был капитан Тойвонен. По его приказаниям и распоряжениям, а также капитана Юлстало производились все расправы, пытки и издевательства над советскими гражданами, заключенными в тюрьму»18.
Преступления против мирного гражданского населения на оккупированной территории Карелии не обезличены. В архивных источниках и воспоминаниях узников малоизученных финских концлагерей и тюрем называются конкретные фамилии тех, кто применял пытки и истязания по отношению к заключенным. Заключенная тюрьмы в селе Киндасово А. И. Егорова на допросе 19 июля 1944 года назвала фамилии истязателей:
«Издевательства и избиения заключенных были любимым занятием всей охраны тюрьмы дер. Киндасово. Не проходило дня, чтобы кого-нибудь из заключенных не били. Особыми зверствами и изощренными методами издевательств отличался начальник тюрьмы капитан Тойвонен, его помощники сержант Ковала и Сихвонен, которые не только избивали заключенных, но без следствия и суда расстреливали невинных советских граждан, брошенных в тюрьму»19.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, проанализированный обширный архивный материал позволяет раскрыть многие аспекты содержания узников в ранее малоизученных финских концлагерях. В первую очередь приведенные документы дают возможность выяснить причины, по которым узники попадали в лагеря. В случае с концлагерем в Колвасозеро становится ясно, что люди там зачастую оказывались вовсе не из-за своей «неблагонадежности», а по совершенно надуманным причинам: работа в райкоме партии до войны, «дорогое» пальто, наличие детей, участвующих в сопротивлении финским оккупантам. На основе анализа документов, относящихся к концлагерю № 7 в Петрозаводске, удалось показать характер карантинных мер финской оккупационной администрации и доказать их абсолютную фиктивность – эти меры не спасали узников от распространения инфекций. На основе сравнения Кутижемского трудового лагеря и нескольких трудовых лагерей на территории Медвежьегорского района мы приходим к выводу, что условия содержания в трудовых лагерях были довольно типичными – длинный рабочий день, крайне суровые условия работы, скудное питание и отсутствие подходящей рабочей одежды.
Поднятая в статье проблема малоизвестных финских концлагерей требует продолжения исследований. Необходимо выявлять региональные аспекты оккупации и главное – осуществлять изучение этой темы на микроуровне: исследовать отдельные концлагеря и отдельные оккупированные финнами районы КФССР. В конечном итоге все это позволит всесторонне представить картину финского оккупационного режима на территории КФССР в годы Великой Отечественной войны и создать необходимую документальную базу для правовой оценки жестоких проявлений оккупационной политики.
Список литературы Малоизвестные финские концлагеря на оккупированной территории Карелии
- Без срока давности: преступления нацистов и их пособников против мирного населения на оккупированной территории РСФСР в годы Великой Отечественной войны. Республика Карелия: Сборник документов / Отв. ред. серии Е. П. Малышева, Е. М. Цунаева; Отв. ред. Е. В. Усачева; Сост. Т. А. Варухина, Л. С. Котович, Е. В. Рахматуллаева, О. И. Суржко, Е. В. Усачева, Н. В. Федотова. М.: Фонд «Связь Эпох»: Издательство «Кучково поле», 2020. 408 с.
- Веригин С. Г. Карелия в годы военных испытаний: Политическое и социально-экономическое положение Советской Карелии в период Второй мировой войны 1939-1945 гг. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2009. 544 с.
- Веригин С. Г. Экономические аспекты финляндской оккупации Карелии (1941-1944 гг.) // Электронный научно-образовательный журнал «История». 2021. Т. 12. Вып. 7 (105) [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://history.jes.su/s207987840016508-7-1/?ysclid=le43umc69l835462609 (дата обращения 01.11.2022).
- Веригин С. Г. Национальная политика финской администрации на территории оккупированной Карелии в 1941-1944 гг. // Вестник РУДН. Серия: История России. 2009. № 4. С. 5-19.
- Давыдова Е. А., Журавлева Н. С. Жизнь населения советской Карелии в период финской оккупации (1941-1944) // Политический вектор-L. Комплексные проблемы современной политики. 2015. № 1. С. 32-40.
- Зеленская Ю. Н. Трудовой лагерь для советских граждан в Кутижме в годы Великой Отечественной войны // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. 2023. Т. 45, № 1. С. 62-68. DOI: 10.15393/uchz.art.2023.853
- Киселева Е. С. К вопросу о финском лагере для советских военнопленных в городе Петрозаводске // Петрозаводск - город воинской славы: героические страницы прошлого Европейского Севера России: Сб. ст. и материалов V Межрегион. науч.-практ. конф.; Отв. ред. Ю. Н. Зеленская. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2022. С. 35-38.
- Куломаа Ю. Финская оккупация Петрозаводска. 1941-1944. Петрозаводск: А. Н. Ремизов, 2006. 277 с.
- Морозов К. А. Карелия в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). Петрозаводск: Карелия, 1983. 236 с.
- Осипов А. Ю. Оккупационный режим Финляндии в Советской Карелии // Устная история в Карелии: Сб. науч. статей и источников. Вып. 3. Финская оккупация Карелии (1941-1944) / Науч. ред. А. В. Голубев, А. Ю. Осипов. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2007. С. 23-28.
- Сеппяля Х. Финляндия как оккупант в 1941-1944 годах // Портал Карельского союза бывших малолетних узников финских концлагерей [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.autistici.org/ deti-uzniki/sepp.html (дата обращения 15.04.2022).
- Усачева Е. В . Установление финского оккупационного режима на территории Карело-Финской ССР и организация мест принудительного содержания для гражданского населения // Курский военно-исторический сборник. 2016. Вып. 17. С. 121-126.
- Laine F. Suur-Suomen kahdet kasvot. Itâ-Karjalan siviilivâeston asema suomalaisessa miehityshallinnossa 1941-1944. Helsinki, 1982. 490 s.