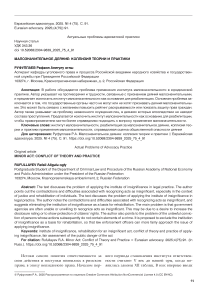Малозначительное деяние: коллизия теории и практики
Автор: Руфуллаев Р.А.
Журнал: Евразийская адвокатура @eurasian-advocacy
Рубрика: Актуальные проблемы адвокатской практики
Статья в выпуске: 4 (75), 2025 года.
Бесплатный доступ
В работе обсуждается проблема применения института малозначительности в юридической практике. Автор указывает на противоречия и трудности, связанные с признанием деяний малозначительными, и предлагает исключить институт малозначительности как основание для реабилитации. Основная проблема заключается в том, что государственные органы часто не могут или не хотят признавать деяния малозначительными. Это может быть связано с желанием повысить рейтинг раскрываемости или показать защиту прав граждан. Автор также указывает на проблему незаконного осуждения лиц, в деяниях которых впоследствии не находят состава преступления. Предлагается исключить институт малозначительности как основание для реабилитации, чтобы правоприменители могли более справедливо подходить к вопросу применения малозначительности.
Институт малозначительности, реабилитация за малозначительное деяние, коллизия теории и практики применения малозначительности, справедливая оценка общественной опасности деяния
Короткий адрес: https://sciup.org/140312452
IDR: 140312452 | УДК: 343.36 | DOI: 10.52068/2304-9839_2025_75_4_91
Текст научной статьи Малозначительное деяние: коллизия теории и практики
государственную гарантию защиты гражданских прав. При этом сама по себе ответственность служит гарантией существования такого масштабного публичного образования, как государство.
Современное государство, в том числе и наше, не может существовать без юридической ответственности, которая выступает гарантом правопослушного поведения и восстановления социальной справедливости, равенства граждан. Юридическая ответственность представляет собой меры, принимаемые государством к субъекту правоотношений.
Юридическая ответственность имеет различные виды, такие как административная, гражданская, а также материальная, налоговая и другие. Однако наивысшим видом юридической ответственности государства является уголовная.
Как известно, уголовная ответственность возникает лишь в исключительных случаях, изложенных только лишь в Уголовном кодексе Российской Федерации, который позволяет квалифицировать деяние как преступление.
Однако, наряду с преступлениями, законодателем введено такое понятие, как малозначительность деяния, которое не является преступлением, поскольку формально содержит признаки преступления и не несет в себе той общественной опасности, которая порицается государством.
При этом само по себе понятие малозначительности с учетом его единственного признака – отсутствие общественной опасности – является оценочным и предоставляет правоприменителю широкий круг полномочий. Такая конструкция правовой нормы в целом является правильной, отвечает целям и задачам государства, а также самой природе и условиям возникновения юридической ответственности.
Однако одних лишь теоретических правильных норм для решения вопроса разграничения оказалось недостаточно, поскольку сформировавшаяся правоприменительная практика говорит нам о том, что данная конструкция нормы неохотно применяется компетентными органами, в том числе судами.
Зачастую, чтобы доказать очевидные с точки зрения теории уголовного права вещи, на практике приходится пройти нелегкий затратный во всех смыслах путь до третьей, а в отдельных случаях надзорной инстанции судебной системы.
Так, приговором Ельнинского районного суда Смоленской области от 05.09.2024 К. осужден по ч. 1 ст. 139 УК РФ, то есть за незаконное проникновение в жилище против воли проживающего в нем лица, к обязательным работам на срок 90 ча- сов. На основании п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ освобожден от наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования. При этом К. не отрицал проникновение в жилище, однако указал на значимую деталь, что целью проникновения в чужое жилище было лишь желание забрать свой садовый инструмент, который ему не возвращал хозяин жилого помещения по причине случившегося между ними конфликта.
Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Смоленского областного суда от 25.12.2024 приговор оставлен без изменения (по существу).
Однако кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам Второго кассационного суда общей юрисдикции от 20.05.2025 приговор и апелляционное определение отменены, уголовное дело в отношении К. прекращено в связи с отсутствием в его действиях состава преступления ввиду его малозначительности. За К. признано право на реабилитацию [1].
Данное уголовное дело является не единственным, однако наглядно подтверждает, что отсутствие общественной опасности в действиях К. признано лишь судом третьей инстанции, не считая того, что уголовное дело вообще не должно было быть возбуждено следственными органами.
Такое развитие очевидных и обыденных жизненных событий говорит нам о наличии устойчивой проблемы в правоприменительной практике, о нежелании государственных органов, в частности правоохранительных, надзорных, судебных, признавать деяние малозначительным.
Стойкая утрата государственными органами способности отличать малозначительные деяния от преступлений, по нашему мнению, обусловлена занятием удобной позиции. Так, правоохранительным органам удобно возбудить такое уголовное дело лишь в связи с тем, что это повысит рейтинг раскрываемости органа. Для прокуратуры это повод лишний раз показать о защите прав граждан и общества по уже сформированному уголовному делу.
Но если со стороной обвинения в целом все понятно, то что же движет судом, который является отдельной независимой ветвью власти, при постановлении таких приговоров?
Представляется, что ответ как раз-таки содержится в резолютивной части вышеописанного постановления, а именно в признании за таким гражданином права на реабилитацию, которым наделяет такое лицо п. 3 ч. 1 ст. 133 и п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.
Названные законоположения предписывают правоприменителю, что реабилитации заслуживает лицо, в деянии которого отсутствует состав преступления, а, как известно, малозначительное деяние не отвечает признакам преступления в целом. Императивными наставлениями законодателя уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению, если в таком деянии отсутствует состав преступления, что, безусловно, является справедливым. Однако, как показывает правоприменительная практика, человека, в деянии которого отсутствует состав преступления, поначалу привлекают к уголовной ответственности, незаконно осуждают, а потом вдруг на стадии кассационного производства (как правило, через пару лет с момента возбуждения дела) выясняется, что это деяние вовсе не было преступлением, так как не было общественно опасным и лишь поэтому не отвечает признакам преступления. Конструкция п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, заложенная законодателем, хоть и является правильной, явно не предусматривала суровых реалий жизни и при введении не была хоть как-то смоделирована ее фактической применимостью и взаимосвязью с другими нормами.
Так, органы предварительного расследования, в частности, следователи, уполномоченные возбуждать уголовные дела, наделены законом процессуальной самостоятельностью, закрепленной в ст. 38 УПК РФ.
В законодательном идеале следователь, выступая на стороне обвинения, вправе сам оценить наличие общественной опасности деяния и не возбуждать уголовное дело. Однако на практике, боясь ответственности и в погоне за раскрываемостью, статистическими данными, в борьбе за холодную справедливость он возбуждает такое уголовное дело.
Инструменты обжалования такого постановления о возбуждении уголовного дела в суд в порядке ст. 125 УПК РФ не способны дать результата, поскольку суд не вправе входить в вопросы, относящиеся к виновности лица, а может проверить только наличие повода и основания для возбуждения уголовного дела, которые на момент возбуждения такого уголовного дела, безусловно, имеются.
Контрольно-надзорный орган, который может хоть как-то воздействовать на следствие, и круг инструментов которого намного шире, чем у суда на стадии возбуждения и предварительного расследования дела, также бездействует, полагая, что поступок такого лица сам по себе является непра- вомерным. При этом он также опасается входить в вопрос оценки общественной опасности деяния. В результате таких позиций правоохранительных органов уголовное дело направляется в суд для принятия решения по существу, а суд, даже видя очевидную малозначительность, но учитывая перспективу дальнейшей реабилитации лица, не прекращает такое уголовное дело по реабилитирующему основанию, прекрасно понимая, что такое прекращение повлечет последствия в виде признания ошибки всей системы правоохранительных органов и вопросов восстановления прав такого лица. Однако, если взглянуть на вопрос с точки зрения справедливости, то, несомненно, возникает противоречие. Ведь деяние лица, хоть и не дотягивает до преступления, но тем не менее содержит в себе все признаки состава преступления, является противоправным и, мало того, что остаётся безнаказанным, так еще и ставит лицо в выгодное положение, позволяющее ему получить денежную компенсацию за длительное незаконное уголовное преследование. Представляется, что именно эти причины и побуждают суды неохотно признавать деяния малозначительными, делая сам институт малозначительности труднореализуемым.
Таким образом, чтобы на практике достичь применения института малозначительности, следует исключить его как основание для реабилитации лица, совершившего деяние. Такое изменение развяжет руки правоприменителю, позволит наиболее справедливо подходить к системе применения малозначительности и недопущения необоснованного привлечения таких лиц к уголовной ответственности.