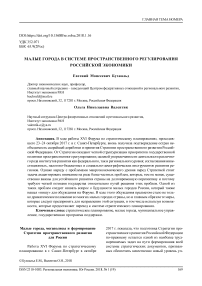Малые города в системе пространственного регулирования российской экономики
Автор: Бухвальд Евгений Моисеевич, Валентик Ольга Николаевна
Журнал: Региональная экономика. Юг России @re-volsu
Рубрика: Стратегическое планирование в регионах и городах России: инструменты и ресурсы реализации
Статья в выпуске: 1 (19), 2018 года.
Бесплатный доступ
В ходе работы XVI Форума по стратегическому планированию, проходившего 23-24 октября 2017 г. в г. Санкт-Петербурге, вновь получила подтверждение острая необходимость скорейшей доработки и принятия Стратегии пространственного развития Российской Федерации. От Стратегии ожидают четкой структуризации приоритетов государственной политики пространственного регулирования; целевой упорядоченности деятельности различного рода институтов развития как федерального, так и регионального уровня; согласования инвестиционных, налогово-бюджетных и социально-демографических инструментов развития регионов. Однако наряду с проблемами макроэкономического уровня перед Стратегией стоит задача акцентировать внимание на ряде более частных проблем, которые, тем не менее, существенно важны для устойчивого развития страны на долговременную перспективу и поэтому требуют четкой позиции государства относительно путей решения этих проблем. Одной из таких проблем следует назвать вопрос о будущности малых городов России, который также нашел «нишу» для обсуждения на Форуме. В ходе этого обсуждения предметом стало не только драматическое положение во многих малых городах страны, но и главным образом те меры, которые следует предпринять для исправления этой ситуации, в том числе используя возможности, которые предоставляет переход к системе стратегического планирования.
Стратегическое планирование, малые города, муниципальное управление, государственная программа поддержки
Короткий адрес: https://sciup.org/149131229
IDR: 149131229 | УДК: 352.071 | DOI: 10.15688/re.volsu.2018.1.16
Текст научной статьи Малые города в системе пространственного регулирования российской экономики
DOI:
Малые города, мегаполисы и формирование Стратегии пространственного развития для России
Работа XVI Форума по стратегическому планированию в г. Санкт-Петербург в октябре
2017 г. показала, что подготовка Стратегии пространственного развития Российской Федерации по-прежнему остается одной из наиболее труднорешаемых задач на пути формирования всей системы стратегических документов, призванных обеспечить качественно новый уровень уп- равления социально-экономическими процессами в стране и ее регионах. Требования к содержательной стороне этих документов, предусмотренных 172-ФЗ о стратегическом планировании [15], очень высоки. Но если в отношении «базовой» Стратегии социально-экономического развития еще допустимы общие идеологические установки по экономической политике государства, по целеполаганию основных параметров роста, в том числе и в сценарном варианте, то от Стратегии пространственного развития, несомненно, ожидаются ответы на вполне конкретные запросы практики государственного управления. Это вопросы, касающиеся представлений о наиболее рациональной пространственной структуре российской экономике и о путях ее обеспечения мерами государственной политики регионального развития. Как показали обсуждения на Форуме, эта рациональность имеет многие «срезы», а именно: экономическое соотношение между отдельными регионами, между макрорегионами; между «точками роста» («опережающего развития») и общей позитивной динамикой единого экономического пространства страны и пр.
Одним их важных аспектов рациональности пространственной организации экономики и размещения производительных сил страны выступает баланс между малыми, средними, крупными и крупнейшими городами (мегаполисами). «Масла в огонь» в ходе обсуждения этого аспекта политики пространственного регулирования на Форуме «подлили» выступления руководителя ЦСР А.Л. Кудрина. Так, на Гайдаровском форуме 2017 г. он заявил, что России в целях повышения национальной конкурентоспособности следует создать 10–15 городов-агломераций, в которых будут максимально сосредоточены ресурсы экономического роста – инфраструктурные, интеллектуальные, социальные. Именно этим агломерациям и нужно, якобы, в первую очередь дать дополнительные возможности развития [5].
Надо сказать, что подобные идеи высказываются уже не в первый раз. Еще в 2012 г. тогдашний министр экономического развития России и нынешняя глава Центробанка Эльвира Набиуллина высказывала мнение о неперспектив-ности малых городов России и предлагала всячески способствовать переселению жителей из них в крупные поселения. Но тогда речь шла только о малых городах. В концепции опережающего развития 10–15 мегаполисов в разряд неперспективных, что существенно взволновало все региональное сообщество страны, могут попасть уже и достаточно крупные города, в том числе и столицы ряда субъектов Федерации.
В сентябре 2017 г., выступая на конференции «Новая повестка развития российских городов», А.Л. Кудрин высказал мнение, что темпы роста крупных агломераций в России в предстоящие годы достигнут 5–7 %, при том что прогнозы роста ВВП страны составляют порядка 3 %. По его мнению, «мегаполизация» составляет объективную закономерность в современном мире, когда возможности увеличения темпов роста национальных экономик концентрируются именно в крупных и крупнейших городах. По его оценкам, в 380 городах планеты производится около половины мирового ВВП, и в будущем конкуренция между ними будет усиливаться, а их доля в мировом ВВП будет и далее возрастать.
Наконец, в ноябре 2017 г., выступая в рамках Общероссийского гражданского форума, А.Л. Кудрин вновь подтвердил, что во всем мире растет роль крупных городов и агломераций; именно они будут давать наиболее высокий темп прироста ВВП в ближайшие десятилетия. По этому пути, якобы, должна идти и Россия. При этом, кроме Московской агломерации, по его мнению, может сформироваться агломерация на Урале «Екатеринбург – Челябинск – Пермь»; агломерация в Сибири «Новосибирск – Томск – Барнаул». Может сформироваться и агломерация вокруг Казани [6]. Как при этом будет определяться судьба всех остальных больших, и особенно малых, городов России, остается крайне неопределенным. Конечно, всякое мнение – это только мнение; но, как отмечали выступавшие на специальной сессии по проблематике малых городов на XVI Форуме по стратегическому планированию в г. Санкт-Петербурге «Развитие малых городов: альтернативные подходы и креативные решения» в октябре 2017 г., отстаивать альтернативную позицию надо именно сейчас, а не тогда, когда приоритет «15–20 мегаполисов» уже официально будет закреплен в том или ином документе стратегического планирования Российской Федерации.
Конечно, позиция относительно приоритетности развития крупнейших мегаполисов и в дальнейшем вызывала определенную критику. Эти критические замечания исходят из того, что роль крупных мегаполисов как единственно возможных лидеров современной инновационной экономики далеко не безусловна. Многие инновационные компании – инновационные лидеры современной экономики (например, в странах Запад- ной Европы) базируются в сравнительно небольших городах. Высказывались и мнения о том, что «супер-мегаполисы» будут крайне сложно управляемы, и, помимо потенциального инновационного эффекта, такие территориально огромные агломерации могут породить крупные экономические, социальные, транспортные, экологические и иные проблемы как для самих мегаполисов, так и для их жителей.
Остается неясным и то, как будут управляться эти мегаполисы и как будут формироваться их бюджеты (в соответствии с законодательством полноценный бюджетный процесс возможен только на том уровне управления, где есть представительный орган власти). Так, потенциальный мегаполис «Новосибирск – Томск – Барнаул» – это три самостоятельных субъекта Федерации со своими бюджетами, государственными программами и пр. Трудно предположить, имеется ли в виду то, что формирование подобного мегаполиса будет означать слияние трех субъектов Федерации, или этим предполагается создание некоего надрегионального органа управления. По опыту попыток «управленческой деятельности» со стороны федеральных округов можно сказать, что такая попытка будет иметь заведомо провальный характер.
Кроме того, даже в теоретическом плане трудно согласиться с позицией относительно безальтернативности мегаполисов как носителей современной инновационной экономики. Как раз наоборот: в условиях перехода к цифровой экономике, о специфике которой много говорилось на Форуме, появляется возможность формирования мощных центров инноваций и конкурентоспособности в периферийных регионах, что подтверждается и опытом стран Европейского союза. Да и сами по себе крупные агломерации не обязательно «делают погоду» в экономике и обеспечивают наибольшее благосостояние населения. Самые большие агломерации существуют в Мексике, но это никак не формирует бум инноваций и высокий уровень жизни в этой стране.
Кроме того, следует предположить, что ставка на 10–15 ведущих мегаполисов с правом на приоритетное получение всех ресурсов в российских условиях неизбежно приведет к дальнейшим центростремительным тенденциям в размещении производительных сил, в рамках которых опережающее развитие одних территорий неизбежно будет означать фактическое запустение других, причем не только в экономическом, но и в социально-культурном смысле. В условиях ог- ромных масштабов географического и экономического пространства России такая тенденция неприемлема, в том числе и с позиции интересов национальной безопасности. Как было отмечено в исследовании по малым и средним городам Волгоградской области, специфика природно-ресурсного, трудового и производственного потенциала этих городов региона способствует закреплению за ними роли экономических и организационных центров муниципальных районов с усилением функций межрайонного взаимодействия и кооперации [18].
Не случайно ряд этих аспектов пространственного регулирования нашли отражение во вновь принятых документах по национальной безопасности Российской Федерации. Как показывают эти документы [13; 14], пространственный «срез» стратегического планирования тесно связан со многими вопросами, непосредственно входящими в круг приоритетов национальной безопасности страны и ее регионов. Президент РФ В.В. Путин на совещании по вопросам экономической безопасности России 7 декабря 2016 г. отметил: «Особое внимание нам надо уделить сбалансированному пространственному развитию территорий. Необходимо максимально использовать потенциал, который есть у каждого региона России. Создавать новые производства и рабочие места, а значит базовые условия для демографического развития, повышения качества жизни людей» [4].
Так, Стратегия национальной безопасности Российской Федерации относит неравномерное развитие регионов, снижение устойчивости национальной системы расселения к числу главных стратегических угроз национальной безопасности в области экономики. Как отмечено в этом документе, для обеспечения экономической безопасности основные усилия направлены на устранение дисбалансов в экономике, территориальном развитии. В долгосрочной перспективе устранить угрозы национальной безопасности, связанные с диспропорцией развития регионов России, целесообразно, в частности, путем расширения количества центров экономического роста. Другими словами, речь идет о расширении круга «центров экономического роста», а не об их сжатии до 10–15 территориальных единиц.
Эти идеи территориально сбалансированного, а не концентрированного экономического роста получили развитие в «Стратегии экономической безопасности Российской Федерации до 2030 года». В этом документе к основным вызо- вам и угрозам экономической безопасности относится, в частности, неравномерность пространственного развития Российской Федерации, усиление дифференциации регионов и муниципальных образований по уровню и темпам социально-экономического развития. В этой связи основными задачами по обеспечению сбалансированного пространственного развития Российской Федерации, укрепления единства ее экономического пространства являются совершенствование национальной системы расселения, создание условий для развития городских агломераций. Но одновременно также ставится задача сокращения уровня межрегиональной дифференциации в социально-экономическом развитии субъектов Федерации; расширение и укрепление межрегиональных хозяйственных связей, создание межрегиональных производственных и инфраструктурных кластеров.
Наконец, в оценке проблем и перспектив сбалансированного пространственного развития следует опереться на положения тех нормативно-правовых документов, которые определяют основные приоритеты для Стратегии пространственного развития Российской Федерации. Прежде всего, это Указ Президента РФ от 16 января 2017 г. № 13 «Об утверждении Основ государственной политики регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года» [8]. «Основы…» определяют как одну из ключевых задач политики регионального развития обеспечение устойчивого экономического роста и научно-технологического развития регионов, повышение конкурентоспособности экономики Российской Федерации на мировых рынках на основе сбалансированного и устойчивого социально-экономического развития субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.
В соответствии с «Основами...» приоритетными задачами государственных программ территориального развития должны быть:
-
– снятие инфраструктурных ограничений для опережающего развития территорий с низким уровнем социально-экономического развития и высокой плотностью населения – этот тезис относится, скорее, к депрессивным территориям, например к республикам Северного Кавказа;
-
– инфраструктурное и социальное обустройство территорий с низкой плотностью населения и прогнозируемым наращиванием экономического потенциала – этот тезис явно относится к территориям нового освоения, например Восточной Сибири и Дальнего Востока;
– сдерживание оттока населения с важных в геополитическом отношении территорий, не имеющих в обозримом будущем перспектив динамичного экономического развития, путем создания благоприятных социальных условий; увеличение количества точек роста экономики как необходимое условие технологического развития, повышения инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности российской экономики. Вот этот тезис Стратегии экономической безопасности как раз и может восприниматься как основа того направления региональной политики государства, которое не может не ориентироваться на поддержку малых городов России, важность которых для страны, действительно, определяется не только чисто экономическими аргументами, но и факторами социально-культурного, этнонационального и даже геополитического характера. По нашему мнению, ключевые установки «Основ…» все же скорее тяготеют к идее сбалансированного территориального развития, нежели к модели концентрации производительных сил страны вокруг 20 крупнейших мегаполисов, когда все за пределами этих мегаполисов как бы вообще выпадает из орбиты государственной политики регионального развития.
Малые города России: источники и стимулы развития
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ в редакции 1998 г., действовавшей до 2004 г., к малым относились города с численностью населения до 50 тыс. человек. В 2004 г. был принят новый Градостроительный кодекс РФ [2], в котором нет классификации городских поселений в разрезе малых, средних и пр., что, несомненно, затрудняет разработку основ этого «среза» государственной политики регионального развития. Подобная классификация в настоящее время имеется только в таком документе, как «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (СНиП 2.07.01-89) [16]. Однако в данном случае речь идет не о законе, а только о ведомственном документе, который имеет ограниченную правовую силу. В этом смысле нельзя не согласиться с мнением о том, что «проблема отсутствия утвержденной типологии (классификации) не позволяет в полной мере охарактеризовать и упорядочить городские поселения как объект управления стратегического планирования» [3]. Ввиду отсутствия законодательно установленного критерия, в имеющихся публикациях «планка» для определения малых городов колеблется от 50 до 500 тыс. человек. В нашем исследовании мы остаемся при критерии малых городов как поселений с численностью населения до 50 тыс. человек. Но даже при ориентации на эту минимальную планку можно сказать, что малые города представляют собой достаточно мощную прослойку расселения и территориальной организации производства в современной России.
По итогам переписи населения Российской Федерации в 2010 г. насчитывался 781 город, которые можно было отнести к «малым»; к 1 января 2017 г. число таких городов увеличилось до 788 (71 % всех городов страны; см. табл. 1). При этом шел двусторонний процесс. С одной стороны, многие малые города теряли свой городской статус; с другой стороны, крупные города, теряя население, переходили в статус «малых». Например, к 2017 г. по сравнению с 2010 г. в связи с утратой части населения перешли из категории «средних» в категорию «малых» такие города, как г. Балахна (Нижегородская область), г. Лесной (Свердловская область), г. Донецк (Ростовская область), г. Ливны (Орловская область), г. Вышний Волочек (Тверская область). В связи с развитием городских агломераций в период после 2010 г. ряд малых городов вошли в состав более крупных городов. В том числе: г. Юбилейный вошел в состав г. Королев; г. Ожерелье – в состав г. Каширы (Московская область); города Московский, Щербинка – в состав г. Москвы.
В настоящее время в малых городах живут 16 млн россиян; это примерно 11 % населения страны. Однако, учитывая, что значительное число малых городов являются центрами соответствующих муниципальных районов, в зоне экономического и социально-культурного влияния малых городов, то есть во многом в прямой зависимости от их благополучия и устойчивого развития, находится примерно 30 млн чел., или более 20 % населения страны. Географическое распределение малых городов в России весьма неравномерно. Наибольшее число малых городов в настоящее время насчитывается в Центральном федеральном округе – 224; наименьшее – в Северо-Кавказском федеральном округе – 32. Неравномерно распределены малые города и по субъектам Федерации (см. табл. 2 и 3).
Для России поляризованное развитие экономического пространства – исторически длительная тенденция и во многом очевидная перспектива для страны с ее огромной территорией и относительно небольшим (по отношению к территории) населением. На данный момент Россия по большинству экономических и социальных параметров относится к группе среднеразвитых государств, экономика которых традиционно характеризуется тенденциями межрегиональной дифференциации и поляризации территорий – как по экономическим показателям, так и по качеству социально-культурной среды проживания населения. Еще более возросшие в ходе экономических реформ различия в уровне и качестве жизни между территориями России мощно сдвигают население к крупным поселениям, опустошая все иные территории, в том числе и малые города. Однако в этих процессах в последние десятилетия отмече-
Таблица 1
Структура городских поселений в Российской Федерации на 1 января 2017 г.
|
Федеральный округ |
Крупнейшие (свыше 1 млн) |
Крупные (250 тыс. – 1 млн) |
Большие (100 тыс. – 250 тыс.) |
Средние (50 тыс. – 100 тыс.) |
Малые (до 50 тыс.) |
Итого |
|
Дальневосточный |
0 |
3 |
7 |
6 |
51 |
67 |
|
Приволжский |
5 |
12 |
15 |
35 |
132 |
199 |
|
Северо-Западный |
1 |
6 |
4 |
14 |
121 |
146 |
|
Северо-Кавказский |
0 |
4 |
10 |
10 |
32 |
56 |
|
Сибирский |
3 |
7 |
11 |
20 |
89 |
130 |
|
Уральский |
2 |
6 |
8 |
17 |
82 |
115 |
|
Центральный |
2 |
17 |
26 |
34 |
224 |
303 |
|
Южный |
2 |
8 |
11 |
18 |
57 |
96 |
|
Итого |
15 |
63 |
92 |
154 |
788 |
1112 |
|
Население, тыс. чел. |
33 188,4 |
27 596,3 |
14 154,9 |
10 710,2 |
15 994,6 |
102 044,4 |
|
Население, % |
32,52 |
27,44 |
13,87 |
10,50 |
15,67 |
100,0 |
Примечание. Рассчитано к. э. н. А. В. Кольчугиной по: [17].
ны некоторые особенности. В советские годы люди в преимущественной мере «бежали» из сельской местности в различные поселения городского типа. В последнее же время происходит интенсивный переток населения из малых и даже средних городов в наиболее крупные города (мегаполисы). Но такой процесс нельзя признать однозначно положительным и тем более активно стимулировать его как приоритет политики пространственного регулирования.
Традиционно этот центростремительный процесс расселения обосновывался желанием населения к более высокому «качеству жизни» с позиции оплаты труда, потребления, социальнокультурного обслуживания, транспортной мобильности и пр. «Бегства от безработицы» в экономике советского типа не было. Сегодня ситуация иная, она имеет глубокие экономические причины. Недостаточное развитие инфраструктуры в условиях территориально огромной страны сделало многие виды экономической деятельности в отдаленных территориях, в малых городах и поселениях принципиально неконкурентоспособными на ключевых рынках по сравнению и с отечественным производством, и тем более с импортом. Если плановое хозяйство советского типа еще как-то решало этот вопрос, поддержи- вая территориально-значимые предприятия, то в системе рыночного хозяйствования проблема экономической жизнестойкости и конкурентоспособности малых и средних поселений, сохранения за ними достаточного количества рабочих мест обозначилась предельно резко. Результатом стало откровенное вытеснение малых и средних поселений с «поля» хозяйственной деятельности и социального развития. Надо признать откровенно: пока наше государство не предприняло ни одной значимой, тем более – результативной попытки что-то противопоставить этим негативным процессам. С государственной политикой в отношении малых городов ситуация всегда выглядела двойственно. С одной стороны, официально государство никогда не открещивалось от проблем малых городов и путей их решения. С другой стороны, все попытки осуществить в этом направлении серьезные практические шаги так и не увенчались успехом [7].
Так что нельзя сказать, что попыток реализовать те или иные меры поддержки малых городов России не было вообще. Такие попытки были, и с ними связана подготовка очень интересных документов, многие положения которых и сегодня представляют практический интерес. В частности, следует отметить Указ Президен-
Таблица 2
Число малых городов России по федеральным округам на 1 января 2017 г.
|
Федеральный округ |
2010 г. |
2013 г. |
2017 г. |
|
Дальневосточный |
50 |
50 |
51 |
|
Приволжский |
130 |
130 |
132 |
|
Северо-Западный |
122 |
123 |
121 |
|
Северо-Кавказский |
35 |
34 |
32 |
|
Сибирский |
89 |
89 |
89 |
|
Уральский |
82 |
83 |
82 |
|
Центральный |
228 |
226 |
224 |
|
Южный |
45 |
46 |
57 |
|
Итого |
781 |
781 |
788 |
|
Население, тыс. чел. |
16 444 4,1 |
16 343,9 |
15 994,6 |
|
Доля в общей численности населения, % |
16,9 |
16,5 |
15,7 |
Примечание. Рассчитано к. э. н. А.В. Кольчугиной по: [11; 17].
Таблица 3
Группировка субъектов Российской Федерации по числу малых городов на 1 января 2017 г.
|
Количество малых городов в субъекте Федерации |
Число субъектов Федерации |
|
Малые города отсутствуют |
1 |
|
От 1 до 5 малых городов |
23 |
|
От 6 до 10 малых городов |
22 |
|
От 11 до 15 малых городов |
23 |
|
Свыше 16 малых городов |
12 |
Примечание. Рассчитано к. э. н. А.В. Кольчугиной по: [17].
та РФ от 24 мая 1996 г. № 775 «О Федеральной комплексной программе развития малых и средних городов Российской Федерации в условиях экономической реформы», в соответствии с которым Правительством РФ была подготовлена и принята (Постановление Правительства РФ от 28 июня 1996 г. № 762) «Федеральная комплексная программа развития малых и средних городов Российской Федерации в условиях экономической реформы» [9]. Как это часто случалось в тот сложный период, принятые программы практически не финансировались и на деле не реализовывались. Но сам по себе документ 1996 г. был очень интересен и нуждается в специальном анализе, поскольку по ряду позиций он сохраняет свою актуальность.
В течение 2000-х гг. также неоднократно инициировался вопрос о разработке и принятии целевой государственной программы развития и поддержки малых городов Российской Федерации, готовились концепции указанной программы. Последний раз Концепция программы «Социально-экономического развития малых городов Российской Федерации на период 2015–2020 годов» разрабатывалась в 2013 году. Эта целевая программа должна была стать частью государственной программы «Региональная политика и федеративные отношения» сроком до 2020 года. Целевая программа предусматривала увеличение денежных доходов жителей малых городов к 2020 г. в 1,7 раза по сравнению с 2012 г.; увеличение уровня доходов консолидированных бюджетов малых городов на душу населения к 2020 г. – в 1,6 раза; рост общего объема инвестиций в основной капитал на душу населения малых городов России – в 1,7 раза.
Такая государственная программа действительно была утверждена Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 307. В качестве ее целей декларировалось достижение сбалансированного развития регионов и муниципальных образований; сокращение уровня межрегиональной дифференциации, повышение конкурентоспособности российской экономики. На основе программы предполагалось обеспечить стимулирование регионов и муниципальных образований к наращиванию их экономического и налогового потенциала, совершенствование механизмов взаимодействия различных уровней власти, в том числе механизмов передачи полномочий и ресурсов на субфедеральный уровень. Однако в окончательной редакции данной государственной программы блок вопросов по развитию и поддержке малых городов уже отсутствовал. Более того, на деле эта государственная программа практически не реализовывалась: после ликвидации Министерства регионального развития России в сентябре 2014 г. она была прекращена.
В настоящее время основной путь государственной поддержки малых городов при решении их социально-экономических проблем осуществляется через участие регионов в федеральных целевых программах (ФЦП) и федеральных адресных инвестиционных программах (ФАИП), которые курируются различными федеральными ведомствами. Участие региона в целом в ФЦП определяется в основном на конкурсной основе, и попадание в них в качестве бенефициаров тех или иных малых городов носит достаточно случайный характер. Это говорит о том, что реальной системности в государственной политике в отношении малых городов (если считать, что эта политика как нечто целостное существует вообще) пока явно не достигнуто.
Происходящий в настоящее время переход к практике стратегического планирования представляет собой не просто новую «ступень качества» для всей системы государственного и муниципального управления, но и посылку к более успешному решению тех проблем пространственного развития российской экономики, которые ранее оставались без должного внимания и практических действий. В полной мере это касается системы мер по развитию и поддержке малых городов России. Однако справедливо и то, что стратегическое планирование само по себе еще не выступает гарантией адекватного учета проблем малых городов и проживающего здесь населения в отсутствие разумного позиционирования этого круга проблем во всех документах стратегического планирования, и прежде всего в рамках стра-тегирования пространственного развития российской экономики. А сердцевиной стратегического планирования, его важнейшим инструментом выступает система государственных программ.
В этой связи в настоящее время вновь раздаются голоса в пользу возобновления государственной целевой программы поддержки малых городов. Однако в ходе дискуссии на Форуме по стратегическому планированию прозвучали и иные мнения. В частности, высказывались обоснованные опасения, что при ограниченных объемах финансирования реализация такой программы в отношении сотен малых городов России будет подобна «дробине для слона». Многие участники дискуссии на Форуме, опираясь на при- меры позитивного опыта, полагали, что шанс на выживание малых городов заключен прежде всего в реализации принципа «саморазвитие, самоуправление и самофинансирование» как главные составляющие условия сохранения и восстановления малых городов страны.
Нетрудно заметить, что все приводившиеся позитивные примеры оживления экономической активности в малых городах относятся к двум специфическим типам таких городов. Во-первых, малые города, которые уже реализуют или пытаются реализовать свой туристско-рекреационный и культурно-досуговый потенциал (например, г. Суздаль Владимирской области, г. Вязьма Смоленской области, г. Мышкин Тверской области и др.). Во-вторых, малые города, непосредственно тяготеющие к местам добычи полезных ископаемых, инвестиционно привлекательные и имеющие достаточные налоговые доходы для финансирования своего экономического и социального развития (ряд малых городов Республики Татарстан, Республики Саха – Якутия и др.). К сожалению, такие возможности присущи сегодня далеко не всем малым городам России.
В большинстве своем участники дискуссии сошлись во мнении, что тот или иной вариант государственной программы поддержки малых городов необходим. Идея государственной программы не противоречит принципу «саморазвития, самоуправления и самофинансирования», а напротив, способна при гибком подходе создать условия для его эффективной реализации. В этой связи, чтобы подобная программа «состоялась», важно не только обеспечить ее официальное одобрение, не только получить достаточные объемы финансирования, но и тщательно проработать методические основы, а также инструментальный аппарат подобной программы – иначе результат будет тот же, что и в предшествующие годы. Для того чтобы такая модель государственной политики в отношении малых городов дала весомый позитивный результат, необходимо реализовать несколько условий.
Прежде всего необходимо четко ограничить объекты регулирующего воздействия для подобной программы. Скорее всего, за рамки программы должны быть выведены те малые города, где располагаются уже действующие федеральные и региональные «институты развития» (наукограды; особые экономические зоны; зоны территориального развития; территории опережающего развития; разного рода индустриальные округа и технопарки, в том числе софинансируемые федеральным центром и пр.). По-видимому, это должно касаться и тех малых городов, которые вошли в утвержденный Правительством РФ перечень моногородов (в настоящее время в этом перечне 319 городов России) [12], для которых уже действуют специальные институты государственной поддержки (Фонд развития моногородов). При этом примерно половина моногородов России – это малые города.
Остальные малые города на основе экспертизы должны быть типизированы, хотя бы в первом приближении, – так, как это осуществлено в отношении моногородов России – по характеру социально-экономической ситуации в городе и наличию рисков ее ухудшения. Однако, скорее всего, в данном случае такая типизация окажется недостаточной: ситуация с малыми городами сложнее и многообразней, чем это имеет место в случае моногородов. Количество их специфических типов значительно больше, и каждому из них нужны свои подходы и меры поддержки. Развивая эту мысль, участники дискуссии на Форуме по стратегическому планированию предлагали типизировать малые города по таким признакам, как: транспортная удаленность; агломерационные и не агломерационные города; малые города, имеющие и не имеющие связь с аграрно-промышленным комплексом, располагающие и не располагающие собственным социальнокультурным комплексом и пр. Это говорит о том, что разработка программы поддержки малых городов потребует большого научно-методического обоснования.
Конечно, есть опасения, что подобная типизация, тем более при ее нормативно-правовом закреплении, станет «законной» основой для объявления определенной группы малых городов «нежизнеспособными» и подлежащими сселению. Такие описания небезосновательны. Но надо оставаться в пределах сегодняшних экономических реалий страны. Возможно, какие-то трансформации малых городов в поселения иного функционала неизбежны. Так, за счет развития транспортных коммуникаций и всеобщей автомобилизации малые города даже в пределах 50–60 км от областных центров постепенно превращаются в спальные и рекреационные зоны этих центров. Во всяком случае определять судьбу каждого отдельного малого города должны не чиновники (по крайней мере, не только чиновники), а экспертное и гражданское сообщество, и в этом отношении формализован- ные принципы типизации могут оказаться очень востребованными.
Далее, как мы полагаем, средства федеральной программы должны не напрямую направляться тем или иным малым говорам, а использоваться для софинансирования на гибкой долевой основе соответствующих целевых программ субъектов Федерации. Для такого софинансиро-вания и определения условий его получения названные программы должны экспертироваться и подтверждаться Минэкономразвития РФ. В этой связи настоятельно прозвучали предложения включить пункт о защите интересов и развитии малых городов в перечень позиций, по которым оценивается эффективность деятельности руководителей (высших должностных лиц) субъектов Федерации.
Региональные программы поддержки должны иметь строго адресный характер, который может быть обеспечен только путем подбора инструментов (форм) поддержки на основе типизации малых городов как объектов такой поддержки. Программы должны в максимальной степени использовать механизмы государственно-частного и муниципально-частного партнерства, при том что в условиях малых городов в качестве частных участников партнерства может выступить весь спектр субъектов предпринимательства – от малых до самых крупных.
Это верно, как и то, что ни одна программа не может охватить собой всех предпосылок возрождения малых городов России. В этой связи на Форуме было высказано много предложений, «технику» и правовые основы реализации которых еще нужно уточнить. Как всегда, было много предложений поддержать развитие малых городов, в частности тех или иных секторов их хозяйства, налоговыми льготами и / или дополнительными налоговыми отчислениями. Но малые города – не особые субъекты налогово-бюджетных отношений; в данной сфере отношений это – муниципальные образования (городские округа или городские поселения) со стандартными нормами формирования местных бюджетов. Выделить для них особый налогово-бюджетный режим как именно для «малых городов» невозможно. Но это реально, если в налогово-бюджетном законодательстве появится особый круг «кризисных» муниципальных образований, который такой режим могли бы получить.
Иной вариант решения этой проблемы – использование для поддержки малых городов того или иного вида «институтов развития». Если институт территорий опережающего социальноэкономического развития (ТОСЭР) сейчас активно используется для поддержки моногородов, то для решения аналогичных проблем в отношении малых городов можно обратиться к еще одному близкому по характеру институту – «зон территориального развития» (ЗТР). Этот институт был утвержден федеральным законодателем еще в 2011 г. [10], однако, судя по имеющейся информации, пока широкого распространения не получил. Мы полагаем, что модель ЗТР можно приспособить – путем акцента на целевую поддержку доминантной сферы экономической деятельности развития малого города – для решения задач, стоящих перед данным направлением социально-экономической политики государства.
Дискуссионным остается вопрос о том, как наиболее целесообразно «вписать» проблематику малых городов в систему («вертикаль») стратегического планирования, как определить позиции малых городов как одновременно объектов и субъектов стратегического планирования.
С одной стороны, специфические проблемы малых городов и пути их решения должны найти отражение во всех стратегических и нормативно-правовых документах, регулирующих основы социально-экономической политики государства. Прежде всего это – отраслевые стратегии, Стратегия развития малого и среднего предпринимательства (МСП) до 2030 года. Для большинства малых городов именно МСП – наиболее реальный шанс возрождения хозяйственной деятельности [1]. При этом приоритетную поддержку должны получить не только МСП, уже имеющиеся в малых городах, но и крупные предприятия всех иных регионов, готовые поддерживать действующие и генерировать новые МСП в малых городах на основе установления с ними прочных долговременных кооперационных связей. С другой стороны, была поддержана мысль о том, что малые города, особенно если они получают те или иные формы государственной поддержки, должны обязательно осуществлять функции стратегического планирования при методическом и ином содействии как с регионального, так и с федерального уровня [3].
В законодательном плане целевые меры поддержки малых городов должны найти отражение в целой системе законодательных актов. Это (помимо налогово-бюджетного законодательства) законы о промышленной политике, культуре, государственно-частном и муниципальном частном партнерстве и пр. Но главное, конечно, – это чет- кое отражение позиции государства в отношении малых городов в готовящейся Стратегии пространственного развития Российской Федерации. Однако для того, чтобы сформировать такую позицию и тем более базировать на ней целевую государственную программу, надо четко представлять себе объект управления. Сегодня такой картины, системно представляющей социально-экономическое положение, трудности и проблемы различных типов малых поселений России, нет. Необходимо провести серьезный научный анализ ситуации с малыми городами России и ее регионов, уточнить специфику проблем каждого из них и, соответственно, определить особые пути их решения. Если такой научной и информационной базы не будет, все меры с целью экономического возрождения малых городов должного позитивного эффекта не дадут.
Список литературы Малые города в системе пространственного регулирования российской экономики
- Виленский, А. В. Об особенностях поддержки малого и среднего бизнеса в малых городах России/А. В. Виленский//Самоуправление. -2017. -№ 3. -С. 43-47.
- Градостроительный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http:/base.garant.ru/57423090/(дата обращения: 05.02.2017). -Загл. с экрана.
- Егорова, К. С. Типология городов с позиции стратегического планирования социально-экономического развития/К. С. Егорова//Евразийский Союз Ученых (ЕСУ). -2015. -№ 4 (13). -С. 90-93.
- Заседание Совета Безопасности, посвященное обсуждению проекта Стратегии экономической безопасности, 7 декабря 2016 г. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://kremlin.ru/events/president/news/53429 (дата обращения: 05.02.2017). -Загл. с экрана.
- Кудрин выписал России рецепт оздоровления через мегаполисы. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: https://utro.ru/articles/2017/01/15/1312332.shtml (дата обращения: 05. 02. 2017). -Загл. с экрана.
- Кудрин предсказал рост российских мегаполисов. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: https://ok-inform.ru/economics/102277-kudrinpredskazal-rost-rossijskikh-megapolisov.htm (дата обращения: 05.02.2017). -Загл. с экрана.
- Курило, А. Е. Возможности социально-экономического развития малых городов/А. Е. Курило, Т. Г. Шкиперова//Региональная экономика: теория и практика. -2016. -№ 12 (435). -С. 98-106.
- Об утверждении Основ государственной политики регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года: указ Президента РФ от 16 января 2017 г. № 13. Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_210967/(дата обращения: 05.02.2017). -Загл. с экрана.
- Об утверждении Федеральной комплексной программы развития малых и средних городов Российской Федерации в условиях экономической реформы: постановление Правительства РФ от 28 июня 1996 г. № 762.-Электрон. текстовые дан.-Режим доступа: https://www.lawmix.ru/pprf/107065 (дата обращения: 05.02.2017). -Загл. с экрана.
- О зонах территориального развития в Российской Федерации: федер. закон от 3 декабря 2011 г. № 392-ФЗ. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122563 (дата обращения: 05.02.2017). -Загл. с экрана.
- Окончательные итоги переписи 2010 г. Статистический бюллетень Росстата. -Электрон. база дан. -Режим доступа: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/perepis_itogi1612.htm. (дата обращения: 05.02.2017). -Загл. с экрана.
- О Перечне монопрофильных муниципальных образований РФ (моногородов): распоряжение Правительства РФ от 29 июля 2014 г. № 1398-р. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://base.garant.ru/70707138 (дата обращения: 05.02.2017). -Загл. с экрана.
- О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191669/(дата обращения: 05. 02. 2017). -Загл. с экрана.
- О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации до 2030 года: указ Президента Российской Федерации от 13 мая 2017 г. № 208. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216629/(дата обращения: 05.02.2017). -Загл. с экрана.
- О стратегическом планировании в Российской Федерации: федер. закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841 (дата обращения: 05.02.2017). -Загл. с экрана.
- Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений (СНиП 2.07.01-89): утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 30 декабря 2016 г. № 1034/пр. и введен в действие с 1 июля 2017 г. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://base.garant.ru/71692328/(дата обращения: 05.02.2017). -Загл. с экрана.
- Численность населения РФ по муниципальным образованиям на 1 января 2017 г. Статистический бюллетень Росстата. -Электрон. база дан. -Режим доступа: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/(дата обращения: 05.02.2017). -Загл. с экрана.
- Штеменко, К. О. Современная отраслевая структура малых и средних городов Волгоградской области/К. О. Штеменко//Бизнес. Право. Образование. Вестник Волгоградского института бизнеса. -2013. -№ 1 (22). -С. 195-198.