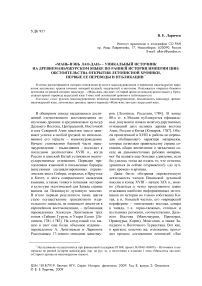«Мань-вэнь лао-дан» - уникальный источник на древнеманьчжурском языке по ранней истории империи Цин: обстоятельства открытия летописной хроники, первые ее переводы и публикации
Автор: Ларичев Виталий Епифанович
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Языкознание
Статья в выпуске: 2 т.8, 2009 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается история становления русского маньчжуроведения и переводов маньчжурских вариантов летописных хроник кочевых империй киданей, чжурчжэней и монголов. Описывается открытие базового источника по ранней истории маньчжур - «Мань-вэнь лао-дан» («Старый архив на маньчжурском языке»). Представлен проект перевода на русский язык I тома этой летописной хроники и публикации его.
Русское маньчжуроведение, японское маньчжуроведение, письменность маньчжур, древнеманьчжурский язык, летописные хроники, проект перевода "мань-вэнь лао-дан" на русский язык
Короткий адрес: https://sciup.org/14737068
IDR: 14737068 | УДК: 957
Текст научной статьи «Мань-вэнь лао-дан» - уникальный источник на древнеманьчжурском языке по ранней истории империи Цин: обстоятельства открытия летописной хроники, первые ее переводы и публикации
В обширном списке выдающихся достижений отечественного востоковедения по изучению древних и средневековых культур Дальнего Востока, Центральной, Восточной и юга Северной Азии заметное место занимают успехи в особой (редкой по использованию) его отрасли – маньчжуроведении. Начало становления базовой части маньчжуроведения – языкознания – восходит к последним десятилетиям XVIII в., когда Россия и цинский Китай установили межгосударственные отношения. Первыми преодолевали языковой и письменные барьеры выпускники специализированных переводческих школ Сибири, открытых в Иркутске и Кяхте, а честь совершенного овладения языками, а также тонкого познания истории и культуры экзотической для Запада страны выпала на Пекинскую духовную миссию. В итоге первым результатом таких шагов стало осуществление грандиозного издательского замысла, не имеющего аналогов в европейском востоковедении, – публикация переведенных Алексеем Леонтиевым трех томов «Тайцин Гурунь и Ухери Коли» [Леонтиев, 1781–1783]. На следующий год вышло в свет еще более объемное издание – переведенное А. Леонтиевым и Ларионом Россохиным 17-томное описание маньчжу- ров [Леонтиев, Россохин, 1784]. В конце 80-х гг. в Москве публикуются официальные документы начала межгосударственных отношений двух великих держав востока Азии, России и Китая [Комаров, 1787]. Объем проведенной в XVIII в. работы по переводам обобщающего характера материалов, которые позволяли правительству страны составить общее впечатление о загадочном соседе на дальневосточных рубежах империи, мог бы вызвать еще большее удивление, если бы удалось тогда же издать то, что осталось храниться (и сейчас сохраняется!) «до лучших времен» в архивах.
Даже бегло обозревая переводческую деятельность членов Пекинской духовной миссии в конце XVIII – начале XIX в., можно убедиться в четко продуманном плане отыскания наиболее информативных источников по истории не только собственно Китая, а и, большей частью, его «варварской периферии» – «иноземцев» востока, севера и запада, т. е. горно-таежных, степных и пустынных регионов, соответственно, Дальнего Востока (Маньчжурии, Приморья, Приамурья, Кореи), Монголии, а также Западного и Восточного Туркестана. Вот как, в кратком, конечно же, изложении, проходил процесс составления летописей «Ляо ши», «Цзинь ши» и «Юань ши», а затем, при династии Цин, переводов всех трех источников на маньчжурский язык, которые как раз и стали объектами «прочтений» членами Пекинской духовной миссии – Г. М. Розовым [Мясников, 1998] и П. И. Каменским в начале XIX в., а в середине его - М. Н. Су-ровцовым, студентом Китайско-маньчжурского разряда факультета восточных языков Санкт-Петербургского университета. Работа над историей Ляо началась вскоре после разгрома чжурчжэнями этого государства (1125 г.) и овладения ими территорий империи Сун в северных пределах провинций Шаньси и Хэбэй. Именно тогда руководители новой на востоке Азии империи Цзинь создали «Гошиюань» - «Институт истории государства». Деятельность его ориентировалась на составление «ши лу» - официальных историй царствований государей эпох Ляо, Сун и Цзинь. Итогом работы Института стали 10 «Подлинных историй царствований».
Однако дело до издания этих бесценных для истории материалов так и не дошло. Последующие драматического характера политические и военные события, которые привели к сокрушительному разгрому монголами «Золотой империи» чжурчжэней, положили конец деятельности Института. Работа историографов «Гошиюаня» была, как особой важности государственная задача, продолжена лишь около середины XIV в., когда при дворе монгольской династии Юань была создана специальная Комиссия. Практическое решение задачи написания историй трех династий пришлось на годы правления последнего монгольского императора Тогон-Темура. Государь лично рассмотрел доклад Токто, согласился с доводами политической необходимости написания династийных историй киданей, чжурчжэней и сунского Китая, а затем распорядился о создании издательской Комиссии. Поздней осенью 1344 г. члены ее предоставили владыке все три хроники.
Следующим этапом введения в научный оборот «Ляо ши», «Цзинь ши», а также «Юань ши» с целью расширения круга читателей стал перевод этих династийных летописей с китайского на маньчжурский язык в конце первой половины XVII в. То было время начала объединения Нурхаци чжур-чжэньских земель в новое государство – «Поздняя Цзинь» – и становления своеоб- разной письменности, отвечающей нормам маньчжурского языка. Нурхаци, «желая созерцать древность», издал указ о переводе на маньчжурский язык летописей трех династий: Да Ляо, Айсинь и Да Юань. В 1644 г., по окончании перевода и редактирования текстов, три хроники были переданы государю, который после просмотра, сделанного Комиссией, издал указ: «Переписать печатным почерком, вырезать тексты на досках и напечатать книги трех династий – Да Ляо, Айсинь и Да Юань! Распространить по Поднебесной!»
Через 200 лет после этого события две последние летописи были переведены с маньчжурского на русский язык членами Пекинской духовной миссии – П. И. Каменским (он стал ее главой после Н. Я. Бичурина) и Г. М. Розовым, учеником самого отца Иакинфа (см.: [Розов, 1998]). В середине XIX в. академик В. П. Васильев [1857; 1863], а затем через много десятилетий М. Н. Суровцев (см.: [2007] написали первые обобщающие сочинения на русском языке по истории киданей и других народов Дальнего Востока, а попытку перевести «Дай Ляо гуруни судури» на немецкий язык предпринял Г. К. фон Габеленц [Gabelentz, 1887]. В начале XXI в. полный перевод c маньчжурского на русский язык династийной хроники, посвященной Железной империи, выполнила новосибирский маньчжуровед Л. В. Тюрюмина. Перевод опубликован в коллективном научном труде «История Железной империи» в серии «История и культура востока Азии» [Тюрюмина, 2007]. В конце прошлого века в этой же серии была издана «История Золотой империи» [1998] (в эту книгу включен полный перевод на русский язык династийной хроники «Ай-синь гуруни судури», выполненный почти два века назад Г. М. Розовым), а также подготовлена к публикации в ближайшие годы «История Небесной империи» (частью этой книги станет перевод П. И. Каменского «Дай Юань гуруни судури», выполненный также в начале XIX в.).
При столь масштабной переводческой и публикаторской деятельности маньчжурского двора в части «ши лу» предшествующих Цин империй, как следует полагать, еще большее внимание его соответствующие службы должны были уделять историческим документам своего народа. Так оно и было в действительности (см.: [Волкова,
1981; Пан, 2006]). Изучение различных аспектов истории Цин оставалось актуальным и привлекательным для российских востоковедов на протяжении всего XX в. Из фундаментально значимых трудов, опубликованных во второй половине прошлого века, в первую очередь заслуживают упоминания монографии В. С. Мясникова «Империя Цин и Русское государство в XVII в.» [1980], Г. В. Мелихова «Маньчжуры на Северо-Востоке» (XVII в.)» [1974] и В. С. Кузнецова «Цинская империя на рубежах Центральной Азии (вторая половина XVIII – первая половина XIX в.)» [1983]. О широком интересе в России к событиям в Маньчжурии времени становления Цин свидетельствует публикация научно-популярной редакцией Сибирского отделения издательства «Наука» (Новосибирск) книг, посвященных жизнеописаниям первых маньчжурских императоров – Нурхаци [Кузнецов, 1985] и Аба-хая [Кычанов, 1986]. Что касается XXI в., то особо знаменательным событием его первого десятилетия воспринимается выход в свет монографии Т. А. Пан [2006], посвященной скрупулезному описанию маньчжурских источниковых материалов (в том числе, в особенности подробно, – «Мань-вэнь лао-дан»). Они могут быть использованы в последующем изучении истории и культуры времени правления династии Цин.
Стимулов к тому немало, и первый из них – необходимость восстановления последовательного хода событий, которые предшествовали провозглашению Нурхаци, вождя-объединителя маньчжурских племен, ханом. Актуальность такого исследования определяется слабой осведомленностью специалистов относительно доцинского этапа истории маньчжуров, охватывающего более полувека. На это сетовали В. В. Горский и В. П. Васильев в середине ХIХ в., когда они предпринимали попытки выявить достоверные записи об этом [Горский, 1852а; 1852б; Васильев, 1863]. Отсутствие таковых и безуспешные разыскания соответствующих документальных свидетельств возбудили даже суждения об историографических фальсификациях давно отошедших в прошлое дел (с помощью их вожди маньчжуров будто бы пытались доказать в реальности несуществующую древность своей родословной, сравнимой с древностью корней правителей соседних племен). Такого рода сомнения усиливали скептицизм также по вопросу давности и обстоятельств разработки маньчжурского алфавита (см.: [Позд-неев, 1901]).
Решить возникшие проблемы могло помочь лишь одно – следовало получить доступ к «Мукденскому дворцовому архиву» и отыскать в хранилищах его документы, которые могли использоваться в качестве первоисточников для составления сочинений, посвященных ранней истории маньчжуров. Получить доступ в архив удалось лишь в начале XX в. Наиболее ценной находкой как раз и стало тогда собрание исходных документов по ранней истории маньчжуров – «Мань-вэнь лао-дан» («Старый архив на маньчжурском языке»). Эту уникальную рукописную хронику обнаружил японский языковед Найто Торадзиро. Более того, ему посчастливилось даже сделать фотокопии части документов и тогда же (в 1905 г.) опубликовать их. Далее события развивались так: в 1912 г. Найто Торадзиро и Ханэ-да Тору скопировали на фото весь текст «Мань-вэнь лао-дан», исполненный так называемым «закругленным почерком» (то были «крайне красивые копии источника», которые хранились в помещении «Чунмокэ» императорского дворца в Мукдене; иные же копии, исполненные столь же красивым так называемым «заостренным почерком», как стало известно, хранились в зале «Нэйкэ даку» императорского дворца в Пекине и оставались недоступными). Фотокопии текстов «закругленного почерка» удалось вывезти в Японию (г. Киото), что и открыло в последующие годы возможность изучать «Мань-вэнь лао-дан» (см.: [Fuchs, 1936]).
Детальное и филологически качественное изучение «Мань-вэнь лао-дан» началось лишь в конце 30-х гг. и продолжилось в 40-е гг. прошлого века. Честь первого перевода всего источника принадлежит филологу Фудзиока Кацудзи. Этому исключительной масштабности труду он посвятил последние годы жизни, но не успел довести начатое до конца (помешали болезнь и смерть), оставив многое в предварительного характера записях и черновиках, полных исправлений, подчисток, смысловых неясностей излагаемого, всякого рода неточностей, ошибочных толкований и пропусков. Сомнительности чисто филологические усугублялись ошибками историческими (они объяснялись слабой, видимо, осведомленностью Фудзиока Кацудзи в средневековой истории народов Дальнего Востока). Тем не менее ближайшее окружение переводчика посчитало необходимым и полезным доработать (насколько это оказалось возможным) незавершенный труд. В 1939 г. «Мань-вэнь лао-дан» в таком виде был опубликован под названием «Мамбун Рото».
В начале 40-х гг. прошлого века работу по переводу «Мань-вэнь лао-дан» продолжил Иманиси Сундзю. Результаты его труда публиковались отдельными выпусками в издании «Соко» («Журнал библиотеки Дай-рэн») в течение двух лет (1943–1944). Перевод завершился XV томом, в котором содержались документы, связанные с годами правления императора Тай-цзу. Тогда же начали выходить в свет подлинные маньчжурские тексты (удалось опубликовать 9 томов) и переводы их на японский язык. Как выяснили в последующем специалисты по маньчжурскому языку и истории цин-ской династии, переводы Иманиси Сундзю не отличались (как и предшествующие) должным качеством. Для преодоления недочетов в изложении ранней истории Цин в середине прошлого века была сформирована научно-исследовательская группа, перед которой была прямо поставлена задача исчерпывающе полного перевода «Мань-вэнь лао-дан» и составления комментариев к текстам. Коллектив переводчиков возглавил лучший знаток маньчжурского языка Канда Новио, а его сотрудниками стали Симанда Дзëхэй, Окамото Кэйдзи, Хонда Минобу, Исибаси Хидэо, Мацумара Дзюн и Окада Хидэхиро. Непосредственное руководство работой осуществляли специалисты высшего класса – Вада Сэй, Го Мино и Ямамото Тацуро. Переводились тексты с фотокопии варианта «Мань-вэнь лао-дан», исполненного «заостренным почерком».
Участники проекта осуществили следующее:
-
• романизировали, т. е. транскрибировали латиницей, маньчжурский шрифт, используя так называемую систему Моллен-дорфа;
-
• сопроводили маньчжурские тексты не одним, а двумя вариантами перевода на японский язык: а - буквальным, слово за словом (они размещались выше соответствующих маньчжурских слов); б – свободным, упорядоченно осмысленным, литературно переработанным, легким для восприятия переложением, что призвано было обеспе-
- чить максимально возможную правильность толкования смысла переводимого, а с ним и точность исторических реконструкций (строчки такого стиля перевода располагались ниже соответствующих строчек маньчжурского текста).
С середины 50-х и до начала 60-х «Toyo Bunko» («Востоковедная библиотека») опубликовала транслитерацию «Мань-вэнь лао-дан», а также как буквальный, так и литературный переводы. В каждый том включались, кроме того, факсимильные оттиски наиболее интересных страниц. Изданные тома содержали описания событий за период с 1607 по 1637 г. – история правления основателя династии Цин Нурхаци – Тай-цзу (1616–1626 гг.) и преемника его – Тай-цзуна (1627–1643 гг.). Записи о событиях 1637–1643 гг. отсутствовали. Здесь потери, может быть, навсегда останутся невосполнимыми – ведь сравнения текстов «Мань-вэнь лао-дан» с хрониками последующего времени наглядно демонстрируют, сколь значительному сокращению подвергался первоисточник составителями их. Вот какую картину установила в результате сопоставлений видный русский маньчжуровед М. П. Волкова [1981]:
а – описания событий времени Тай-цзу в «Мань-вэнь лао-дан» занимают три тома (1 225 страниц текста); в «Священных поучениях Тай-цзу» - 117 с.;
б – то же самое в «Правдивых записях о маньчжурах» - 262 с.;
в – а сходное в «Книге записей событий, связанных с основанием династии Великая Цин» - 389 с.
И это, следует учитывать, при том, что повествование в «Мань-вэнь лао-дан» охватывает всего лишь период с 1607 по 1626 г., а «Священные поучения Тай-цзу» – с 1583 по 1626 г., «Правдивые записи о маньчжурах» - с 1559 по 1626 г., «Книга записей событий, связанных с основанием династии Великая Цин» - с 1583 по 1626 г. [Там же].
В сказанном сможет убедиться в будущем каждый по прочтении русского перевода текста I тома «Мань-вэнь лао-дан».
На страницах его «тетрадей» представлены полные волнующих подробностей описания событий, захватывающе интересных деталей множества военных столкновений, обстоятельств повседневной жизни правителя и его ближайшего окружения, сложных взаимоотношений маньчжуров с монголами, корейцами, китайцами и обитателями приамурских и приморских земель Дальнего Востока в драматическое время «собирания земель» в единое государство Цин. Важно при этом отметить следующее обстоятельство: при успешном исполнении «цинского проекта» отечественные историки и филологи маньчжуроведы получат в свое распоряжение оригинальный, т. е. без оглядки на толкования японских специалистов, перевод «Мань-вэнь лао-дан», что позволит им иметь свое суждение относительно проблем этнических, лингвистических, а также о событиях культурно-исторических.
«MAN-WEN LAO-DAN» – THE UNIQUE SOURCE ON THE EARLY HISTORY OF THE CHING EMPIRE WRITTEN IN THE OLD MANCHURIAN LANGUAGE:
CIRCUMSTANCES OF DISCOVERY OF THIS ANNALISTIC CHRONICLE, FIRST TRANSLATIONS OF IT AND PUBLICATIONS