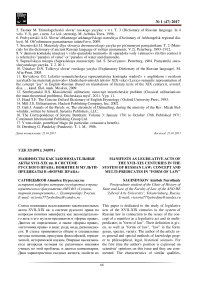Манифесты как законодательные акты XVII-XIX вв. в системе русского права: понятие и мульти-предикаты в "форме права"
Автор: Сагиндыков Айнибек Нуроллаулы
Журнал: Правовое государство: теория и практика @pravgos
Рубрика: Теория и история права и государства. История учений о праве и государстве
Статья в выпуске: 1 (47), 2017 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена исследованию законодательных актов XVII-XIX вв. в системе русского права по вопросам понятия манифеста как законодательного акта и его мульти-предикатов в «форме права». Даются их определение, а также «формы права», «источника права» в виде: рода, вида, разновидности. В статье применяются общие и специальные методы познания, присущие философской, юридической, исторической наукам. Впервые высказывается авторская позиция по различным мнениям ученых по этой проблеме, и даются комментарии. Дана характеристика сходных качеств, свойств их отличия и особенности. Предложения автора будут интересны для науки конституционного права, теории государства и права, истории государства и права. Предлагается при исследовании законодательных актов XVII-XIX вв. использовать комплексный подход. Ставится вопрос о целесообразности в контексте проведенного исследования, ввести в научный оборот использование категории «мульти-предикаты», которые представляют собой множественные признаки, позволяющие отнести акт к определенной категории в следующих ипостасях: «род», занимающий первое место в предложенной автором классификации; «вид», занимающий второе место; «разновидность» занимающей третье место. А также показана характеристика исследуемых актов как развивающая, конкретизирующая, детализирующая категории «род», «вид», «разновидность», что ведет к сведению их к такому понятию, как «форма права».
Манифест, законодательный акт, форма права, род, вид, разновидность, источник правам, мульти-предикаты
Короткий адрес: https://sciup.org/142233864
IDR: 142233864 | УДК: 321(091);
Текст научной статьи Манифесты как законодательные акты XVII-XIX вв. в системе русского права: понятие и мульти-предикаты в "форме права"
«Форма права » является разновидностью и порождается «источником права», является его материальным продолжением и вытекает из него, что позволяет нам говорить о «законодательном акте» как отдельной части, входящей в систему «источника права». В соответствии с исследованиями о законодательных актах XVII, XVIII, XIX вв. в системе источников русского права на примере манифестов, выявляется закономерность, что манифест является видом законодательного акта, т.е. «формы права». Манифест – это законодательный акт, который органично входит в «форму права». Тогда как «форма права» вливается в «источник права».
«Источник права» – как правовая категория идентифицируется с волей, но не оформленной. Тогда как «форма права» является оформленной волей, например, народа в виде законодательного акта, который является одним из видов «форм права», но он порождается, воплощается в действительность, обретает материальные рамки с помощью воли народа, что позволяет нам говорить о том, что «форма права» вытекает из «источника права».
Учёные выявили определенную иерархическую систему внутри категории «форма права» в виде рода, вида, разновидности. По-нашему мнению, род следует характеризовать как законодательный акт в рамках категории «форма права»; к виду следует отнести – например, манифесты и указы в рамках категории «формы права»; а к разновидностям можно отнести манифесты в различных сферах государственной и общественной жизни в рамках категории «формы права», например, манифесты, которые определяли основные вопросы в сфере организации высшей власти («Об отрешении от наследия... царевича Алексея Петровича» 1718 г. и «О короновании государыни императрицы Екатерины Алексеевны» 1723 г.); война Турции была объявлена манифестом от 22 февраля 1711 г. и т.п.
Манифесты – это «формы права». Во-первых, это подтверждается господствующей концепцией в науке. А именно юридическая наука определяет юридические факты и памятники законодательства как разные формы: манифесты, указы, грамоты, постановления и др. Вместе с тем, «… источники государства и права могут быть отдельными правовыми актами или выступать в комплексе института, отрасли, системы права. Специфическими источниками истории государства и права являются юридический быт, судебная практика, обычай,

юридические археологические источники» [1]. Во-вторых, ученные юристы определяют форму права как возможность взаимодействия частей правовой системы друг с другом, с окружающим миром. Главная характеристика формы права – социальной сущностью и содержанием. Таким образом, форма права и содержание позиционируются как неразрывные тесно связанные между собой категории. Что подтверждает Гегель: «содержание не бесформенно, а форма в одно и то же время содержится в самом содержании, и представляет собой нечто внешнее ему» [2, с. 298]. Вместе с тем, манифесты как законодательные акты имеют сходные качества, свойства внутри своей совокупности. Например, манифесты в области государственного строительства связаны с такими категориями: создание органов, определение предметов ведения и компетенции их, установление их структуры, порядка осуществления деятельности, определения их положение в иерархии и статуса, закрепления принципа вольного характера [3]. Но именно здесь главным фактором является категория, связанная с определением детализированного юридического статуса например с государственной гражданской службой, что явилось следствием систематизации законодательства и появлением Свода законов Российской империи, в структуре коего был отражен «Устав о службе гражданской по определению от правительства и по выборам» [4]. В его составе были консолидированы действующие к началу 1830-х гг. узаконения о гражданской службе (1700-1800 гг. – 158; 1800-1825 гг. – 363; 1825-1831 гг. – 332), а в качестве основы данного устава выступили Генеральный регламент 1720 г., Табель о рангах 1722 г. и др. Положения устава были распределены по пяти разделам: (1) Правила о принятии на гражданскую службу и определения к должности; (2) О производстве в чины; (3) Об общих правах и обязанностях гражданской службы; (4) Об увольнении в отпуск, от должностей и от службы; (5) Об актах или доказательствах служебного поведения. 25 июля 1834 г. было утверждено Николаем I Положение о порядке производства в чины по гражданской службе, внесшее ряд принципиальных изменений в ее организацию, его же указ от 20 ноября 1835 г. «О расписании должностей гражданской службы по классам от XIV до V включительно» четко связал чины и должности . Так, например, статус председателя Государственного совета корреспондировался I классу Табеля о рангах, министра – II классу, товарища министра – III, директора департамента министерства и градоначальника – IV и т.д. Последующие преображения в этой области государственного строительства произошли в Своде законов Российской империи 1842 г., результатом было – издание 1857 г. Основными принципами, условиями приема на гражданскую службу были: установление возрастного образовательного и сословного цензов носящие комплексный характер и использование что нашло свое отражение при создании этой службы, так и оставить ее сословный фундамент [5].
В то же время, данные обстоятельства показывают, что манифесты имеют отличительные качества, свойства – особенности. Здесь уместно, на наш взгляд, привести мнение исследователя А. В. Белякова, который констатирует, что «к концу XVII в. в архиве Посольского приказа сконцентрировались документы великокняжеского и царского архива – духовные и договорные грамоты, акты избрания царей и поставления патриархов и другие немногочисленные остатки делопроизводства центрального управления XIV–XVI вв. [6] материалы ряда приказов, которые в силу различных причин, оказались подчинены Посольскому приказу (Малороссийский, Новгородский, Устюжский и др.) или находились в ведении одного лица, документы по сношениям с зарубежными государствами, а также внутриприказная документация самого Посольского приказа. В XVIII в. основной целью служащих Московского главного архива Коллегии иностранных дел являлось приведение в порядок актов таким образом, чтобы использовать их в повседневной работе. Учеными подтверждается мнение о том, что множество существовавших источников не могут дать ответ на все проблемы и вопросы даже по одному классу служащих Посольского приказа. В связи с этим необходим комплексный подход в их исследовании [7].
Другой пример. «Быстрый разворот в регулировании правовых отношений в области питейной регалии [8, с. 112] осуществился с выходом 1 августа 1765 года Манифеста «Об отдаче питейной продажи с 1767 года на откуп во всем государстве, кроме Сибирской губернии» [9], в соответствии с которым предварительно издан Устав о винокурении. Вместе с тем, есть, например, Манифест 14 декабря 1766 г., который провозгласил сбор депутатов данной Комиссии в Москве в июне 1767 г., носивший по взглядам характер «просвещенной» монархии Екатерины II» [10]. Другие исследователи отмечают, манифестов, связанных с монетным делом, было недостаточно, т.е. не было манифестов о монетном деле вообще до 1786 г. Следовательно, до воцарения Павла I позитивных явлений в этой сфере не считалось «достойными» издания Манифеста [11, с. 17].
Однако другой исследователь отмечает, что по Манифесту «Об устройстве гильдий и о торговле прочих состояний» от 14 ноября 1824 г. планировалось создать обновленные разряды: к ним относили мещан и ремесленников, которые относились к торгующим, что их особо выделяло из сословных групп, они имели всевозможные торговые права (мещане которые не входили в этот разряд, имели статус посадских) [12]. Вышеуказанная характеристика манифестов говорит о наличии общих и особенных (отличительных) качеств, свойств их юридической природы; имеют место акты-манифесты, которые требуют при их исследовании комплексного использования; вместе с тем, следует отмечать акты, которые вообще не считались «достойными» издания манифеста, но которым предварялось издание других актов – например, Устава и др. Манифест «Об учреждении министерств» от 8 сентября 1802 года, в соответствии с которым в России впервые были учреждены восемь министерств: военное, морское, иностранных дел, внутренних дел, коммерции, финансов, юстиции, народного просвещения. В свое время Петр I, создавая коллегии, создал фундамент разграничения отраслей государственного управления, которое нашло отражение в этом процессе. За сто лет появилось всего лишь четыре министерства. Статья XV Манифеста определила создание весьма необходимого органа государственного управления – Комитета министров, который весомое влияние оказало на всю систему государственной власти Российской империи [13]. Позже Комитет министров осуществлял свою компетенцию в соответствии законодательным актом «Высочайше утвержденных правил для Комитета министров» от 4 сентября 1805 г. [14]. «Выписки из правил, данных в руководство Комитету министров» от 31 августа 1808 г., [15, с. 181] и «Дополнительных статей к правилам, данным Комитету министров» от 11 ноября 1808 г. (Полное собрание законов Российской империи. Издание первое. Далее – ПСЗ-1) [16]. Эти акты определяли компетенцию кабинета министров, когда император отсутствовал, при этом он имел право решать неотложные дела. А также данный манифест определял статус еще двух учреждений, которые существовали ранее: «Ведомство» Государственного казначея и Экспедиции о государственных доходах, которые существовали «впредь до издания полного по сей части Устава» на основании Указа от 24 октября 1780 г. [17]. С 1802 по 1835 гг. была создана в Российской империи новая система управления министерствами, которую исследователь Е.С. Данилов разграничил на два основных этапа. Первый этап – со дня издания вышеуказанного акта. Второй этап этой реформы с 1810–1811 гг. В обозначенный период было издано три манифеста, которые стали юридической базой. Манифест «О разделении государственных дел на особые управления, со значением предметов, каждому управлению принадлежащих» от 25 июля 1810 года, «Высочайше утвержденное разделение государственных дел по министерствам» от 17 августа 1810 года и «Общее учреждение министерств» от 25 июня 1811 года [18].
«Общее учреждение министерств» стало основным нормативным актом реформы. В соответствии с «Общим учреждением министерств» была установлена единая вертикаль власти, а также персональная ответственность министра перед императором, который его назначал и смещал. А также были разграничены по отраслям местные органы управления. С этого момента пошёл процесс формирования ведомств – центральных государственных

учреждений с подчиненными им местными государственными органами и должностными лицами» [13]. Вышеприведённые примеры, ещё раз подтверждают факт комплексного использования при их исследовании.
На наш взгляд, комплексность – это те общие качества и свойства, которые характеризуют Манифест и демонстрируют его как класс «формы права», обладающий определёнными качествами, свойствами, характеристиками, помогающими определить его содержание и сущность как законодательного акта в системе русского права. Анализируемый акт относится к более широкой категории «род», которая исследует наиболее широкие качества, свойства. Вместе с тем, такие дефинитивные категории как «создают, определяют, устанавливают, закрепляют, упорядочивают, используют, детализируют, проектируют, консолидируют, разграничивают» пр. и образуют совокупность качеств, свойств, которые следует корреспондировать с категорией «род». Что корреспондируется с его содержанием, которое отражено в словаре русского языка: род – «разновидность чего-нибудь, обладающее каким-нибудь качеством, свойством» [19 с. 628]. Мы предлагаем обозначить их как «мульти-предикаты» – это множественные признаки, позволяющие отнести акт к определённой категории, в данном случае к «роду».
Следует отметить, что вышеперечисленные дефинитивные понятия корреспондируются и с категориями «вид», «разновидность». Энциклопедическое их содержание в словаре русского языка таково: вид – это «определение свойств какого-либо предмета» [19, с. 66]. На примере отдельных манифестов, указов и постановлений продемонстрируем соответствующие общие и отличительные свойства, присущие «виду». О «разновидности» будет сказано ниже.
Мы считаем, что вид следует определять как – видовое понятие, которое содержит все основные признаки того или иного явления, события и одновременно включает в себя особенное, характерное только для этого вида.
На примере манифеста «О разделении государственных дел на особые управления, с означением предметов, каждому управлению принадлежащих» [20] покажем сходные свойства таких категорий как «род» и «вид». (Далее по тексту – манифест «О разделении государственных дел...»). Общая характеристика такова, что манифест «содержал общие принципы и направления реформ. Манифест «О разделении государственных дел...», впервые определил создание нового правоохранительного органа – внутренней стражи, его юридические основы, к сожалению, были определены в самых общих чертах. Таким образом, совершенствование юридической базы намечалось только в будущем [21, с. 29, 32].
Вместе с тем, отличительные черты наиболее ярко проявляются при характеристике указов, например, в актах второй половины XVII в., закрепляющие нормы уголовного права. В первую очередь они исходили (именные, указы, манифесты) или внедрялись в практику верховной властью (сенатские указы «По высочайше утверждённому докладу»). Отдельно обращалось внимание на акты, разработанные Екатериной II, такие как указ «О суде и наказаниях за воровство разных родов», «Устав благочиния», манифест «О поединках» и т.д.
Во вторую очередь были сенатские указы, закрепляющие новые уголовно-правовые принципы и апробирующие их практику судопроизводства. Но большая их часть вошла в первое собрание «Полного собрания законов Российской империи» (тт. XVI–XXIII) [22, с. 206– 207, 214–215]. За период с 1763 по 1767 гг. с целью уяснения характера доктринальной составляющей политики Екатерины II и ее влияния на законодательство до создания «Наказа Комиссии о сочинении проекта нового Уложения», в котором, в системном виде была изложена уголовно-правовая доктрина ее царствования. Обозначенные временные рамки были обусловлены несколькими причинами. Во-первых, на этот период приходится пик законодательной активности екатерининского царствования, когда в месяц издавалось в среднем, по подсчетам А.Б. Каменского, 22 законодательных акта. Во-вторых, в это время был принят целый ряд указов, кардинально реформировавших отдельные отрасли уголовного права и процесса (законодательство о малолетних, сужение сферы применения пытки при следствии и т.д.). О.А. Омельченко показал прямую связь между последним источником и указом о трех видах воровства 1781 г., уголовно-правовой частью Устава благочиния 1782 г. и основными положениями Манифеста о поединках 1787 г. [23, с. 45–49, 156].
Другой пример, « … манифесты и именные указы императрицы, предваряя каждую значимую меру, являлись обращением монарха к народу. Они разъясняли цели и намерения правительства, воспитывали подданных в духе послушания и просвещения, утверждали ценности («общее благо», «преданность трону», «любовь к Отечеству», милосердие, смягчение нравов и т.д.) Тексты всенародно оглашаемых законов составлялись по определенным «шаблонам». При этом власти умело использовали самые разнообразные средства для того, чтобы довести содержание этих законов до представителей различных сословий. На законодательном уровне определялся порядок рассылки манифестов по церквям с целью их оглашения, вводился контроль за тем, чтобы никаких задержек в этом процессе не было. Важной особенностью информирования о принятых Екатериной II законах являлось ежегодное издание сборников указов» [23]. «Внутри – и внешнеполитическая обстановка влияла на ход «пропагандистской» политики Екатерины II. В неспокойные для страны годы войн, социальных взрывов (крестьянская война), любого проявления оппозиционности властям (например, дворянская «фронда», издательская деятельность московских просветителей, объединившиеся вокруг Н.И Новикова) усиливались государственные меры по укреплению лояльности монархии. К ним можно отнести «милостивые Манифесты» и указы о введении цензурного контроля, а также публикация правительством печатных материалов официального характера (комедии, автором которых была императрица, панегирические речи, литература, направленная против внешних врагов России и т.д.) В то же время повышалась нагрузка на идеологическую сторону, доносимых до населения официальных текстов или символов (триумфальные арки, монументы и т.д.). В их основе лежали идеи преданности трону и любви к Отечеству» [24].
Анализируемые манифест и указ относятся к категории «вид», что есть в соответствии со словарём русского языка «определение свойств какого-либо предмета» [19, с. 66], но, на наш взгляд, с помощью большего количества свойств, с целью указания на точное их место и детальное определение внутри рода. Вместе с тем, такие дефинитивные, уточняющие мультипредикаты, как «исходят», «регулируют», «апробируют», «внедряют», «реформируют», «разъясняют», «воспитывают», «утверждают», «оглашают», «контролируют» и пр. показывают характерные отличительные свойства и образуют их совокупность, которая корреспондируется с категорией «вид», что позволяет поставить манифест, указ на второе место в предлагаемой нами классификации законодательных актов. Тогда как мульти-предикаты: «разграничивают», «создают», «регулируют», «определяют», фиксируют сходные свойства, характеристики исследуемых актов в совокупности, которые также корреспондируют категорию «вид».
Вместе с тем, категория «разновидность» – это, на наш взгляд, более детализированная характеристика категории «вид», менее широкая, чёткая, конкретная (но, в пределах «вида»), что в соответствии со словарём русского языка «разновидность – это «предмет или явление, представляющее собой видоизменение основного вида, категории» [19, с. 597]. Например, «Конфликтное развитие государственного строя России в ходе реализации принципов престолонаследия, введенных указом от 12 февраля 1722 г., показало необходимость не просто установления нормативных основ наследования престола, но и закрепления строгого порядка воспреемства трона, который бы наиболее соответствовал требованиям абсолютной монархии и отвечал принципам регулирования наследственных правоотношений, сложившихся в XVIII в. Акт о престолонаследии узаконил австрийскую или «полусалическую» систему. Императорская власть передавалась по наследству от отца к сыну, а в случае его отсутствия – к следующему, по старшинству, брату императора. Женщины допускались к наследованию лишь в случае полного отсутствия всех потомков мужского пола данной династии. Своим наследником Павел I «по праву естественному» назначил старшего сына Александра, а за
ним – все его потомство мужского пола. По пресечении потомства старшего сына право наследования престола переходит в род второго сына и так до последнего потомка мужского пола последнего сына. При пресечении последнего мужского поколения сыновей Павла I наследство переходит в женское поколение последнего царствовавшего императора, в котором также преимущество имеют лица мужского пола, с тем только обязательным условием, что «не теряет никогда права то женское лицо, от которого право беспосредственно пришло». В случае пресечения прямой нисходящей линии престолонаследия (как по мужской, так и по женской линии) право престолонаследия могло перейти в боковую линию.
Кроме описания порядка престолонаследия, в Акте были прописаны вопросы, касающиеся статуса императорских супругов, совершеннолетия государя и наследника, опеки над малолетним государем и пригодности к престолу с религиозной точки зрения. Акт о престолонаследии 1797 г. исключает возможность наследования престола женой или мужем царствовавшей особы. «Если наследовать будет женское лицо, и таковая особа будет замужем, или выйдет, тогда мужа не почитать государем, а отдавать однако ж почести наравне с супругами государей, и пользоваться прочими преимуществами таковых, кроме титула». Браки членов императорской фамилии не признавались законными без разрешения царствующего государя. Однако в законе четко не прописана норма об устранении от наследования престола лиц, рожденных от браков, заключенных без разрешения монарха …» [25].
Таким образом, «Акт о престолонаследии 1797 г. урегулировал проблему престолонаследия и создал строгий порядок воспреемства престола, который оставался неизменным до 1917 г. Фактически этот нормативный правовой акт явился первым шагом на пути формирования российской конституции, определив условия функционирования и передачи верховной власти. В качестве существенных условий, необходимых для наследника престола, а следовательно, предъявляемых к будущему императору, назывались: принадлежность к императорскому дому Романовых; происхождение от законного брака; равнородность брака родителей, т.е. чтобы супруг (или супруга) принадлежали к какому-нибудь царствующему (или царствовавшему дому); первородство по мужской линии (то есть сын стоит выше брата); исповедание православной веры» [25]. Такие дефинитивные, уточняющие мульти-предикаты, как «создают», «урегулируют», «устанавливают», «передают», «допускают», «назначают», «отдают», «используют», «воспреемство», «равнородность», «первородство», «исповедание» и пр. показывают характерные отличительные свойства и образуют их совокупность, которая корреспондируется с категорией «разновидность».
В ходе проведённого исследования мы приходим к следующим выводам:
-
1) характеристика исследуемых актов как развивающая, конкретизирующая, детализирующая категории «род», «вид», «разновидность» ведёт к сведению их, прежде всего, к такому понятию, как «форма права»;
-
2) на наш взгляд, целесообразно в контексте проведенного нами исследования, ввести в научный оборот использование категории «мульти-предикаты» – это множественные признаки, позволяющие отнести акт к определённой категории в следующих ипостасях: «род», (который занимает первое место в нашей классификации); «вид», (занимающий второе место); «разновидность», (занимающее третье место), например, конституционные признаки для манифестов.
Список литературы Манифесты как законодательные акты XVII-XIX вв. в системе русского права: понятие и мульти-предикаты в "форме права"
- Гринев В.А. Типологизация источников права в российской историко-Правовой историографии/Вестник Вятского государственного гуманитарного университета. Право. 2011. № 1. С. 24-25.
- Гегель Г.В. Энциклопедия философских наук. Т. 1. М., 1974.
- Брезицкая Л.А. Институционализация гражданской государственной службы в России (первая половина XIX в.
- Свод законов Российской империи. Т. 3. СПб., 1832.
- Положение о порядке производства в чины по гражданской службе/ПСЗ-2. Т. 9. № 7224.