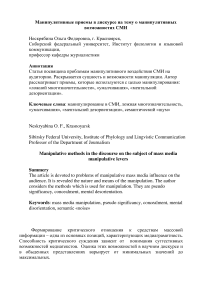Манипулятивные приемы в дискурсе на тему о манипулятивных возможностях СМИ
Автор: Нескрябина Ольга Федоровна
Журнал: Медиа. Информация. Коммуникация @mic-iej
Статья в выпуске: 4, 2013 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена проблемам манипулятивного воздействия СМИ на аудиторию. Раскрывается сущность и возможности манипуляции. Автор рассматривает приемы, которые используются с целью манипулирования: «ложной многозначительности», «умалчивания», «ментальной дезориентации».
Манипулирование в сми, ложная многозначительность, "умалчивания", "ментальной дезориентации", семантический "шум"
Короткий адрес: https://sciup.org/14752387
IDR: 14752387
Текст научной статьи Манипулятивные приемы в дискурсе на тему о манипулятивных возможностях СМИ
Формирование критического отношения к средствам массовой информации – одна из основных позиций, характеризующих медиаграмотность. Способность критического суждения зависит от понимания суггестивных возможностей медиатекстов. Оценка этих возможностей в научном дискурсе и в обыденных представлениях варьирует от минимальных значений до максимальных.
«Эксперты, - пишет Е.Е. Пронина, - последовательно переходили от идеи беспомощности человека перед всемогуществом СМИ к представлениям о подчиненности СМИ интересам аудитории и независимости реципиента в отборе и использовании информации. Неопределенность в решении этого вопроса не снижается и сегодня, и даже усугубляется, поскольку по мере развития СМИ появляются новые и более яркие свидетельства в пользу каждой из взаимоисключающих позиций» [1].
Существующая полярность мнений, на наш взгляд, объясняется тем, что отношения аудитория-СМИ внутренне дифференцированы, подвержены внешним воздействиям и трудно поддаются объективным и точным оценкам.
С одной стороны, существует масса, казалось бы, очевидных фактов внушаемости людей, но, с другой стороны, нет достоверных данных об эффективности манипулирования, полученных научными средствами и поддающихся однозначной интерпретации.
Воздействие СМИ на аудиторию принято называть манипулированием. Подобное терминологическое оформление ставит данную проблему на грань этически допустимого. Ведь манипулирование есть, по определению, скрытое воздействие, что отличает его от эстетического воздействия, присущего художественному тексту. Между тем, манипулирование очень часто отождествляют с психологическими приемами организации текста.
Манипуляцию специфицируют не приемы как таковые, а мотивы их использования и способы подачи. Если целью автора является создание эстетически значимого текста, то он не маскирует свои приемы. Априори ясно, что журналист хочет быть убедительным; для этого он привлекает художественность с полным на то правом. Художественный прием не скрывается от публики, но и не навязывается ей.
«Манипулирование» - слово с очень неопределенным значением, его господство в медиадискурсе само по себе обладает эффектом навязывания смысла. Между тем, сфера медиа является, как отмечают многие исследователи, пространством игровой коммуникации [2].
В отличие от манипуляции, игра предполагает равноправную интеракцию. Это значит, что люди общаются по определенным правилам, которые известны, понятны и не вызывают возражений ни у одного из участников. Многие ситуации, связанные с восприятием СМИ, являются игровыми, а не манипулятивными. «Вы делаете вид, что действуете в наших интересах, мы делаем вид, что вам верим», - так можно обозначить игровую ситуацию. Сторонний наблюдатель не всегда может уловить отличие между игровой и манипулятивной интеракцией.
Манипулятивное воздействие подразумевает управление поведением человека, осуществляющееся помимо его воли и сознания, хотя, возможно, и в его интересах. Неважно, удалось ли скрыть манипуляцию; важно, что манипулятор рассчитывал на это. Если манипулятивный прием проводится слишком тонко, он может быть просто не замечен реципиентом. Манипулятивная техника должна балансировать на грани между откровенным внушением, с одной стороны, и слабым воздействием - с другой. Первое вызывает сопротивление, последнее не воспринимается, поскольку недостаточно сильно для преодоления сенсорного порога.
Таким образом, манипулирование как особый тип воздействия не всегда может быть обнаружено. Оно «вплетено» в систему различных интеракций и редко существует в чистом виде.
Во многих случаях воздействие средств массовой информации следует квалифицировать как результат реакции конформного подчинения , а не манипулируемости. Термин «конформизм» в обыденной и публицистической речи толкуется расширенно. Им называют и ложное согласие, т. е. подчинение авторитету, и действительное принятие – «овнутрение» – чужой мысли.
Специалисты в области суггестии считают, что внушение включает самовнушение. Это справедливо и для конформизма. Он вовсе не является пассивным процессом, как это кажется на первый взгляд. Соглашательство требует психологического напряжения, хотя и не столь сильного, как в случае сопротивления чужому мнению.
Понять сущность и возможности манипуляции можно в том случае, если рассматриваются все параметры манипулятивной ситуации, такие как: мотивация субъекта, т. е. манипулятора; средства или приемы воздействия; конкретный объект воздействия в психике респондента; способы оценки результата.
Существует множество «списков» приемов информационного воздействия СМИ. Хотя, это неточное выражение. Учитывая сказанное о понятии «манипулирование», правильнее будет сказать «список (или перечень) логических, риторических, художественных приемов, которые могут быть использованы в целях манипулирования». Понятно, что такой перечень практически неисчерпаем. Далее скажем о некоторых из них, употребляемых для обоснования силы и вездесущести манипулятивных технологий.
В дискурсе на тему «СМИ нами манипулируют» используется прием «ложной многозначительности». Смысл его в том, что тривиальная фраза, сказанная с «упором», приобретает как бы новый смысл. Рассмотрим выражение «Если политик не появляется в СМИ, то он вообще не существует». Это все равно, что сказать: «Если не воспользоваться транспортом, то невозможно добраться до работы». Ну, так на то и создан транспорт, чтобы доставлять, а СМИ нужны для того, чтобы оповещать.
В дискурсе о манипулировании неявно присутствует аргумент, аналогичный одному из тезисов схоластов, используемый для доказательства бытия Бога: если у людей есть образ Бога, следовательно, Бог существует. В данном случае тезис читается примерно так: манипулирование – это миф, а если люди в него верят, значит, они действительно внушаемы; тогда манипулирование – это уже не миф, а наичистейшая реальность. Верна ли такая логическая конструкция? Только отчасти. Мнение о манипулируемости и реальное подчинение манипуляции – не одно и то же.
В текстах на тему манипулирования часто используется прием односторонней подачи информации, то есть умалчивания. Возьмем, к примеру, типичный текст из Интернета. В нем картина всеобщей внушаемости рисуется историческими «штрихами». В частности говорится, что Гитлер сумел внушить идеи фашизма молодому поколению за 7 лет, Сталин идеи коммунизма - за 10 лет. При этом недоговаривается одна важная вещь: диктаторы внушали массам те идеи, которые отвечали их потребностям, по крайней мере, тому, как они эти потребности понимали. Это факт, давно установленный историками, философами и социологами. Но тема манипулирования в популярных изданиях и в Интернете обсуждается так, будто она находится в интеллектуальном вакууме, будто она не является элементом системы гуманитарного знания.
Тезис о всесилии манипуляции часто аргументируется не примерами, показывающими ее эффективность, а усилиями манипуляторов. Говорится, например, сколько денег тратится на организацию соответствующих акций. Такой прием как будто бы опирается на здравый смысл: если нечто продается, следовательно, кто-то его покупает. Но здравый смысл может подвести, если, к примеру, мы присутствуем при последних минутах продавца перед банкротством.
Данный прием доказательства можно назвать «затратным», так как существование какого-то явления аргументируется стараниями, положенными на его создание. Затраты могут быть самые разные: время, деньги или психическая энергия, эмоции, внимание, воображение и пр. Однако эти усилия зачастую бывают потраченными зря.
В Интернете есть сайт «Быстрый учитель», который предлагает программу обучения с использованием 25-го кадра. Расчет на то, что адресат сделает вывод: «Раз так много предложений с 25-м кадром, значит, в этом что-то есть». Манипулятивный прием: «Дыма без огня не бывает».
Бессознательные процессы, к коим относится восприятие 25-го кадра, существуют, но из этого не следует автоматически, что они способны вызвать определенное поведение. Нет достоверных данных о том, что люди, подвергавшиеся внушению с помощью 25-го кадра, выбирали рекламируемый товар или политика [3].
Другой распространенный довод в пользу могущества манипуляции -описание многочисленных методов и приемов манипулирования. Данный аргумент тоже сомнителен. Если средств очень много, то это скорее говорит о недостаточной эффективности каждого из них. Недостаток аргументов в пользу тезиса о тотальной манипуляции пытаются скомпенсировать наведением подходящего ментального фона. Применяется метод создания семантического «шума» вокруг темы манипулирования. Разновидностью «шума» является дезориентация и мифологизация общественного сознания. Известно, что внушаемость повышается, если реципиент растерян, встревожен, если он плохо ориентируется в ситуации. Способствует внушаемости ментальная дезориентация - хаотичность, бессистемность мышления, «размытость» границ между рациональным и иррациональным, реальным и мистическим, возможным и невозможным.
Успеху мифа о тотальном манипулировании способствует языковая магия. Происходит постоянное терминологическое обновление темы. В последнее время в разных сочетаниях используются слова: «технология», «политтехнология», «новые информационные технологии», «виртуальная реальность», а также «зомбирование» и «брэндирование».
Все это не просто новые термины; это эмоционально нагруженная лексика, нагнетающая атмосферу смутной, но неотвратимой угрозы. Вернее, эти слова употребляются с целью вызвать чувство опасности, достигают ли они этой цели – вопрос другой.
К созданию «ментального хаоса» привлекается авторитет новых информационных технологий, а также связанный с ними терминологический ряд: «виртуальная реальность», «виртуальная коммуникация» и т. п. Новый термин, как известно, создает иллюзию нового знания и неизвестных дотоле возможностей. Понятие ВР, точнее его использование в медиатекстах, является элементом мифа о тотальном манипулировании сознанием людей и вносит в этот миф элемент загадочности и одновременно научности. «Виртуальная реальность» принадлежит двум семиосферам: миру художественного творчества, до недавнего времени выражавшему себя в концептах постмодернизма, и миру технократической утопии. Являясь элементом системы «новых информационных технологий», ВР несет в себе магию действенности, практичности, технического могущества. Сегодня все, что соединяется со словом «технология» – «политтехнология», «информационная технология» и пр. – приобретает смысл профессионального эзотерического знания, способного служить могучим средством воздействия на непосвященных.
Однако если некий смысл вкладывается адресантом, это не значит, что он так и прочитывается адресатом. До сих пор существует проблема оценки эффективности манипулятивного воздействия. Часто нельзя понять, что повлияло на поведение человека: приемы манипуляции или какие-то иные факторы. Эта ситуация хорошо известна специалистам по рекламе.
Очевидно, что если нет рекламы товара, то этот товар плохо продается или не продается вообще. Но значит ли это, что реклама есть инструмент манипулирования, от эффективности которого зависит количество продаж? Нет, не значит. Реклама информирует покупателя о товаре, она действенна в том случае, если товар нужен потребителю. Таково общее правило, хотя оно не исключает возможности манипулятивного навязывания образцов потребления. Особенно это касается подростковой аудитории; видимо, ее образ «стоит перед мысленным взором» тех, кто драматизирует ситуацию с манипулированием. Если особенности поведения одной части респондентов выдаются за общее правило, это либо ошибка, либо манипуляция.
Реклама помогает в ситуациях не особенно серьезного выбора, например, когда речь идет о покупке зубной пасты. Человек не хочет долго думать о всякой ерунде и, глядя на витрину, останавливает взгляд на том, что ему знакомо. Известно, что зависимость продаж от рекламы не линейна. На стадии знакомства с товаром или фирмой – это кривая роста. Затем наступает стадия насыщения, когда при увеличении рекламы не меняется уровень продаж. Последнее обстоятельство объясняется просто: поведение покупателя управляется преимущественно его потребностями и умением оценивать потребительские свойства товара.
Человек видит то, что готов увидеть в данной ситуации, и то, что хочет увидеть. Такова максима психологии; она работает «в условиях плохой видимости», то есть при неопределенных стимулах. Это относится и к медиапсихологии, как и то, что являясь слушателем, читателем и зрителем, человек заинтересован в знании реального положения дел в окружающем его мире.
Обнаружить подавляющее большинство воздействий вполне доступно для пользователей, которые имеют базовые представления о психологии, лингвистике, риторике и логике. Но главное все же - мотивация. Если есть установка на критическое восприятие информации, то обмануть большинство людей довольно трудно, а некоторую часть - невозможно.
Кроме вопроса о возможностях манипулирования важен вопрос о его моральном статусе. Проблема нравственного оправдания манипулирования не имеет алгоритмического решения; она всегда предполагает нравственный выбор . Манипулятор всякий раз сам решает вопрос о его этичности или неэтичности.
Из сказанного можно сделать вывод, что в медиадискурсе на тему манипулирования сознанием посредством СМИ очень много ложных доводов и манипулятивных приемов. Заметно стремление представлять аудиторию однородной и пассивной массой, что выражает суггестивные интенции данной темы.
«Масса», «сознание массы», «массовая коммуникация» - все эти выражения неточны, когда речь идет о восприятии информации, а не просто о ее циркуляции. В этих понятиях как-то странно «перекручивается» тема манипуляции. С одной стороны, образ человека складывается из представления о толпе, в которой индивидуальное сознание «растворяется» в массовых процессах. С другой стороны, перед мысленным взором маячит образ индивида, оставленного один на один с телевизором: этакого беспомощного, одинокого телезрителя, не способного сопротивляться магии голубого экрана. На самом деле повседневное общение людей опосредует и серьезно корректирует манипулятивные медиаэффекты. Слухи, настроения, когнитивные и эмоциональные установки, стереотипы и пр. не дают идеологии внедриться в сознание аудитории, несмотря на ее монопольное владение средствами массовой информации.
Если человек имеет собственное мнение по какому-то вопросу, то его толерантность к внушению возрастает при наличии хотя бы слабой поддержки его позиции. И, конечно, нельзя забывать о том, что люди сильно отличаются друг от друга степенью суггестивности и конформности. А на крайний случай «информационного беспредела» есть вариант бегства.
Оценивая уровень информационного воздействия, нужно помнить о том, что объект и субъект воздействия - существа одной природы, а в ней заложены противоположные свойства: активность и подчиняемость, свобода и несвобода, конформизм и нонконформизм.
Примечания
1Пронина Е.Е. Категории медиапсихологии: факты, феномены, фантомы// Человек как субъект и объект медиапсихологии. М., 2011. С.106.
2Третьяков В. Как стать знаменитым журналистом: курс лекций по теории и практике современной русской журналистики. М., 2004.
3Аронсон Э. Эпоха пропаганды: Механизмы убеждения, повседневное использование и злоупотребление. СПб., 2003. С.309.