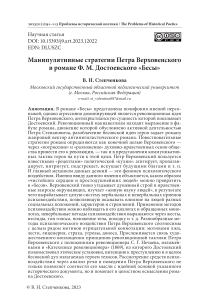Манипулятивные стратегии Петра Верховенского в романе Ф. М. Достоевского «Бесы»
Автор: Степченкова Валентина Николаевна
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 1 т.21, 2023 года.
Бесплатный доступ
В романе «Бесы» представлена полифония мнений персонажей, однако агрессивно доминирующей является революционная идея Петра Верховенского, антихристианскую сущность которой показывает Достоевский. Революционный макиавеллизм находит выражение в фабуле романа, движение которой обусловлено активной деятельностью Петра Степановича, разоблачение бесовской идеи героя задает роману жанровый вектор антинигилистического романа. Повествовательные стратегии романа определяются как конечной целью Верховенского - через «потрясение» и «разложение» духовно-нравственных основ общества привести его к революции, - так и в представлении коммуникативных тактик героя на пути к этой цели. Петр Верховенский пользуется известными «рецептами» политической «кухни»: агитирует, пропагандирует, интригует, подстрекает, искушает будущими благами и т. п. И главный механизм данных деяний - это феномен психологического воздействия. Именно ввиду данного явления объясняется, каким образом «чистейшим сердцем и простодушнейших людей» можно превратить в «бесов». Верховенский тонко угадывает душевный строй и нравственные запросы окружающих, изучает «живую науку людей», в результате чего вырабатывает целую систему вербальных и невербальных приемов психовоздействия, позволяющую оказывать влияние на людей разных социальных положений, характеров и стремлений. Применение методов психовоздействия можно наблюдать в его диалогах и обращенных монологах, невербальные методы психовоздействия выражаются через жесты, взгляды, тон голоса, положение тела, походку и т. д. Разнообразные методы психологического воздействия Петра Верховенского соотносимы с целым рядом мотивов отрицательной коннотации: мотивами лжи, лести, лицемерия, страха, угрозы, доноса. Прослеживается связь художественного воплощения принципов революционной тактики Петра Верховенского с положениями революционера С. Г. Нечаева, изложенными в «Катехизисе революционера» (1869), из которого Достоевский позаимствовал этические установки, интенцию к преступлению и в целом бесовский дух излагаемых героем тезисов. Рассмотрение средств психовоздействия через анализ речи и поведения Петра Верховенского позволяет не только соотнести его мысли с идейной основой указанного исторического документа, но и помогает в целостном осмыслении романа Достоевского.
Психологизм, психологический прием, манипуляция, манипулятивная стратегия, революционная идея, этика, политика, эстетика, поэтика, макиавеллизм, нигилизм
Короткий адрес: https://sciup.org/147239852
IDR: 147239852 | DOI: 10.15393/j9.art.2023.12022
Текст научной статьи Манипулятивные стратегии Петра Верховенского в романе Ф. М. Достоевского «Бесы»
Д остоевский, внимательно наблюдавший за жизнью общества, за его тенденциями и течениями, хорошо понимал происходившие вокруг социальные явления и угадывал их духовные последствия. В романе «Бесы» писатель, с одной стороны, отображает окружающую действительность в виде распространения революционных и нигилистических настроений, с другой — предостерегает и предупреждает о гибельности данного пути как для отдельных личностей, так и для общества в целом. И хотя сам Достоевский отрицал, что он психолог1, «во всем мире чтут Достоевского — романиста, психолога , философа и проповедника» (курсив наш. — В. С .) [Захаров, 2021: 7]. Психологизм — отличительное свойство стиля романов Достоевского, данная тема не раз становилась предметом исследования творчества писателя как в прижизненной критике [Авсеенко], [Майков], так и в современной [Горностаева, Романова], [Низамутдинов], [Панкова, Шурыгина], [Де Корте], [Рябов, Романова], также изучались психолого-педагогические аспекты [Юрьева], анализировались психологические приемы, используемые писателем [Даниленко], [Романова], [Этов]. Но, несмотря на значительное количество работ, связанных с осмыслением психологизма романов
Достоевского, — исследований, посвященных психологическому взаимодействию его героев, немного (см., напр.: [Хом-рач]). Этот аспект художественного мастерства Достоевского ярко раскрывается в «Братьях Карамазовых» (в связи с образом Великого инквизитора и беседами Ивана с Алешей) и является ведущим в романе «Бесы». Писатель тонко показывает, что осуществление планов Петра Верховенского происходит при помощи своеобразной технологии психологического воздействия, которое проявляется не только в прямых разговорах, но и невербально — через тон голоса, взгляды и жесты, походку и т. д.
Л. И. Сараскина, комментируя примечания академического Полного собрания сочинений, верно отметила, что Достоевский не просто желал «дать в романе художественно-психологический анализ нечаевского дела» ( Д30 ; т. 12: 154), а хотел показать целую «психологическую механику революции» [Сараскина: 367]. П. Е. Фокин также писал: «Анализируя механизм властных взаимоотношений внутри общества, Достоевский прежде всего исследовал психологический уровень этого механизма», и в романе «Бесы» «он уделил их описанию и разоблачению достаточно внимания» [Фокин: 160]. Г. К. Щенников определил роман «Бесы» как философское исследование психологии «политического авантюризма» [Щенников, 2005: 105]. По словам Б. Н. Тихомирова, «Верховенский проверяет и отрабатывает "технологии", заодно проверяя и качество человеческого "материала", возможности и способы манипулирования "людишками"» [Тихомиров: 177]. При рассмотрении романа в аспекте психологической стороны механизма революции важной становится задача «преодолеть "психологические" трактовки, сосредоточившись исключительно на его поэтике » [Есаулов, Тарасов, Сытина: 102], и раскрыть сложный и обманный путь к осуществлению своих идей Петра Степановича Верховенского.
Феномен психологического воздействия в романе «может рассматриваться и как процесс, приводящий к изменению психологического базиса конкретной активности, и как результат (собственно изменения)» [Кабатченко: 23]. Так, Л. И. Са-раскина писала по поводу романа «Бесы»: «Можно, собрав кучку приверженцев, хитростью и обманом втянуть их в политическое убийство. Можно путем самого бесцеремонного психологического давления, манипулируя ложными идеями, заставить человека стать послушным соглашателем или даже соисполнителем в их реализации. Можно даже убедить его в необходимости и безальтернативности насилия» [Сара-скина: 416].
Персонажи романа «Бесы» часто прибегают к манипуляции. Например, Степан Трофимович во время ссоры писал Варваре Петровне письма с уведомлением, что он «рѣшился погибнуть насильственною смертью; а отъ нея ждетъ послѣд-няго слова, которое все рѣшитъ»2, — таким образом Верхо-венский-старший пытался добиться от своего друга жалости, принятия и прощения. Варвара Петровна все понимала, научилась с этим жить и советовала Дарье:
«Повѣситься захочетъ, грозить будетъ — не вѣрь; одинъ только вздоръ!» (69).
Андрей Антонович в беспомощности перед своенравной супругой угрожал: если она не прекратит отношения с Петром Степановичем, то он выпрыгнет сейчас же на ее глазах «изъ окошка» (415). Юлия Михайловна в качестве манипуляции в отношении мужа пускала «въ-ходъ обмороки» (344) и «молчание», которое могло продолжаться до трех суток — «манера нестерпимая для чувствительнаго человѣка!», каким был Андрей Антонович (413). А чтобы не выглядеть несведущей в глазах мужа, лгала , что знает о готовящихся преступных замыслах (415). Лиза пыталась возбудить в Николае Ставрогине ревность и для этого приблизила к себе молодого Верховенского. Капитан Лебядкин с целью вытягивания из Ставрогина денег писал ему «дерзкiя письма съ угрозами опубликовать тайну» женитьбы на Марье Тимофеевне (255) и т. д.
Все эти манипуляции создают психологический дискомфорт для субъекта, на которого направлено воздействие, но при этом не происходит нарушения этических границ по отношению к окружающим. Несмотря на то, что для каждого общества этические нормы и границы свои, Г. Мюнстерберг в книге «Основы психотехники», ставшей классикой в области психологии, выделяет основополагающий принцип психологического воздействия: недопустимость в слабых душах возникновения «импульса к преступлению» [Мюнстерберг: 140] — интенция к злодеянию является неприемлемым пределом в процессе психологического воздействия. Но в деятельности Петра Степановича мы видим явную направленность к преступлению, он четко определяет свои задачи:
«Мы провозгласимъ разрушенiе… <…> Мы пустимъ пожары…» (397).
Этическая сторона в действиях Верховенского во многом коррелирует с «Катехизисом революционера» С. Г. Нечаева. По словам Б. Н. Тихомирова, деятельность Петра Степановича — это «наглядная демонстрация принципов революционной этики» [Тихомиров: 175], изложенных в документе. Анализ отношений Петра Степановича с его окружением раскрывает не только внутренний мир Верховенского, но и выявляет мотивы других персонажей романа, помогает в понимании авторской концепции и механики революционных движений. Как заметила М. А. Шалина, «именно через действующих лиц и их взаимосвязи реализуется сюжет, воплощается проблематика, автор доносит свою идею» [Шалина: 211].
Один из пунктов «Катехизиса» призывает вступать в отношения с высокопоставленными личностями, «пользующимися по положению богатством, связями, влиянием и силою»3. Таким образом, одна из первых, кто попадает в поле зрения Верховенского, — это Юлия Михайловна, на которую молодой человек приобрел «до странности сильное влiянiе» (307), «безъ котораго въ послѣднее время и ступить не могла» (440), «глядѣ-ла на него какъ на оракула» (463). Также у каждого революционера должен быть человеческий «капитал», состоящий из нескольких «революционеров второго и третьего разрядов»4 — в романе это была «пятерка», над которой Верховенский взял такую власть, что члены кружка понимали: Верховенский «играетъ ими какъ пѣшками», «злились, но тряслись отъ страху» (517). Липутину захватывало дух от обиды при общении с Петром Степановичем, но при этом он знал, что по приказанию Верховенского «непремѣнно "какъ рабъ" будетъ завтра же первымъ на мѣстѣ, да еще всѣхъ остальныхъ при-ведетъ» (518). Влияние Верховенского распространялось на разные направления, следуя установке, «что революционеры должны проникнуть всюду, во все высшия и средние <сословия>»5, в итоге про Петра Степановича будет сказано, что «мучениковъ было у него не мало, какъ и оказалось въ послѣдствiи» (293).
Зачастую психологическое воздействие является сложным процессом, включающим комплекс содержательных единиц: цели и задачи главного коммуникатора психологического воздействия, состав и последовательность действий, психологические особенности реципиентов психовоздействия, структуру взаимосвязей и отношений между субъектами, внешние условия и самое главное — средства психологического воздействия. Воплощение своей цели «систематическа-го потрясенiя основъ» общества (627) Петр Степанович начал с организационного аспекта: собирал «нашихъ» и тем самым обеспечивал контакт, управление и внушение своей «пятерке» определенных идей. Важным для него было непосредственное вовлечение своих адептов в деятельность: беспорядки в городе — «Городъ нашъ третировали они какъ какой-нибудь городъ Глуповъ» (304), скандалы на литературном вечере и на балу Юлии Михайловны, пожары, убийство Шатова. Также Петр Степанович придерживался определенного алгоритма и прежде чем убить Шатова, последовательно исполнил ряд психологических задач: сформировал отрицательный образ Шатова, зафиксировал на нем внимание, подогрел возбуждение, аргументировал необходимость убийства и организовал его. Методично продвигаться к своей конечной цели Петр Степанович мог за счет использования средств психологического воздействия .
Одно из эффективных средств психологического влияния, с которого начал Верховенский, — это создание собственного ложного образа в глазах окружающих. «Катехизис» гласит, что революционер должен «жить в обществе, притворяясь совсем не тем, что он есть»6. Таким образом, молодой человек моделирует различные представления в отношении себя и своего дела, постепенно формирует подчинительную позицию других к себе, вырабатывает послушание «пятерки» и не только. Вначале Верховенский приехал «съ чрезвычайно почтенными рекомендательными письмами» от значительного старичка графа К. (204), тем самым произвел положительный эффект на Юлию Михайловну: она считала, что так будут подкрепляться ее «скудные» связи с высшим светом (хотя на самом деле Петр Степанович имел косвенное отношение к графу К. и получил письмо через Ставрогина). Далее он пользовался знакомством уже с самой Юлией Михайловной для придания себе значимости:
«…я съ письмами Юлiи Михайловны и долженъ тамъ обѣгать трехъ-четырехъ знаете какихъ лицъ» (588).
В зависимости от поставленных задач Петр Степанович умел произвести совершенно противоположные впечатления. Например, на встрече у Варвары Петровны он представился в самом непосредственном виде и объяснял потом: если быстро и много говорить, а под конец и окончательно спутаться, то можно уверить «въ своемъ простодушiи» и «Помилуйте, кто послѣ этого станетъ васъ подозрѣвать въ таинственныхъ за-мыслахъ» (212). Так и вышло: даже после всех бесчинств в городе его воспринимали как «болтливаго студента съ дырой въ головѣ» (507). Но при этом на Юлию Михайловну Верховенский сумел произвести совершенно иной эффект, губернаторша говорила:
«…онъ со способностями и говоритъ иногда чрезвычайно умныя вещи» (301).
Чтобы установить рабски-покорные отношения в своей «пятерке», Петру Степановичу было особенно важно представиться перед ними человеком со связями и властью:
«…всѣ они принимали тогда Петра Степановича за прiѣхавшаго заграничнаго эмисара, имѣющаго полномочiя» (369).
Он внушал, что его деятельность весома, уверял «нашихъ» в существовании множества «пятерок», разбросанных по всей России, и доказывал, что «солдатъ на общее дѣло является все больше и больше съ каждымъ днемъ» (384). Неоднократно говорил о том, что они «всего лишь одинъ узелъ безконечной сѣти узловъ и обязаны слѣпымъ послушанiемъ центру» (512). Любил создать иллюзию полного контроля над окружающими и заявлял: «Не безпокойтесь, господа, я всѣ ваши шаги знаю» (513), и другие подтверждали:
«…этотъ Верховенскiй такой человѣчекъ, что можетъ-быть насъ теперь подслушиваетъ, своимъ или чужимъ ухомъ, въ вашихъ же сѣняхъ, пожалуй» (233).
Посредством созданных образов ситуаций Верховенский повышал свою значимость, презентовал себя то уполномоченным и со связями, то бездарным или, напротив, со способностями. Через все эти манипуляции он имел воздействие на окружающих, мог выстраивать необходимые модели поведения, в результате которых его слушались, заискивали, советовались, боялись, восхищались — в зависимости от поставленных им задач.
Одним из средств взаимодействия с людьми для Верховенского (а вместе с этим и способом влияния) была его работа по удовлетворению потребностей тех из них, из которых потом можно извлечь «наибольшую пользу»7. Для этого Верховенский наблюдал за окружающими и тонко подмечал их настроение, желания и стремления. При первом своем появлении на встрече у Варвары Петровны молодой человек понял крайнюю потребность Ставрогиной в разъяснении поведения ее сына:
«…онъ поймалъ Варвару Петровну на удочку, дотронувшись до слишкомъ наболѣвшаго мѣста» (180), — чем моментально приобрел ее расположение. Когда взволнованная женщина заговорила об анонимным письмах, Петр Степанович ее тут же уверил:
«…я вамъ ихъ розыщу, будьте покойны» (186).
Обещанием найти анонимщика Верховенский успокаивал и недоумевающего фон Лембке. Предлагал Андрею Антоновичу секретную информацию о доносе Шатова и обнадеживал его благодарностью от правительства. Зная жажду признательности Юлии Михайловны, он подкупил ее «грубѣйшею лестью» (327). Также Верховенский стремился узнать интересы Ставрогина:
«Скажите чего вы хотите, я сдѣлаю» (392).
Г. И. Егоренкова так же замечает: «Петр Степанович хочет "зацепить" Ставрогина <…> соблазном новых падений и бездн, но Ставрогин остается равнодушен к поистине титаническим усилиям своей "обезьяны"» [Егоренкова: 490]. Федьку Каторжного Петр Степанович желал подкупить заурядными обещаниями и спрашивал, хочет ли он «имѣть вѣрный паспортъ и хорошiя деньги» (525). Нужды могли быть разными: от насущных до нематериальных, выраженных в возможности реализации своих «склонностей, интересов, идеалов, убеждений, чувств» [Кабатченко: 275], что может являться зачастую движимым мотивом поведения и главным источником активности. Так и в «пятерку» каждый вступил в надежде личной реализации: Шигалев и Толкаченко нуждались в высказывании своих идей и взглядов (первый уверен был в верности и в востребованности своей теории, второй считал себя непризнанным знатоком народа). Про бóльшую часть «пятерки» мы узнаем, когда они еще были членами кружка Степана Трофимовича, что в дальнейшем многое объясняет. Принятие и признание находил в данной компании Липутин, ведь «въ городѣ его мало уважали, а въ высшемъ кругѣ не принимали», но в кружке «любили его острый умъ, любознательность, его особенную злую веселость» (31). Виргинский был бедным семьянином, про него сказано:
«…отводилъ у насъ душу и нуждался въ нашемъ обществѣ» (34).
Лямшин был случайным гостем, но вдруг обнаружил неожиданный спрос на свое шутовство: все «покатывались со смѣху, такъ что подъ конецъ его рѣшительно нельзя было прогнать: слишкомъ нужнымъ сталъ человѣкомъ» (307). Для многих была удивительна причастность к делу Верховенского молчаливого белокурого мальчика с детскими глазами Эркеля, но хроникер объясняет и его позицию:
«Исполнительная часть была потребностью этой мелкой, малоразсудочной, вѣчно жаждущей подчиненiя чужой волѣ натуры» (539).
В итоге он «преклонился предъ Петромъ Степановичемъ» (509). Таким образом, «регулирование уровня удовлетворения потребностей "других"» является одним из средств психологического воздействия [Кабатченко: 330]. В добавление к этому Петр Верховенский формировал в своей «пятерке» новые идеалы, убеждения и ценности, запуская процесс смысло-образования . Создавая новые цели, Петр Степанович генерирует квазипотребности ( «откровеннымъ правомъ на без-честье всего легче русскаго человѣка за собой увлечь» (366) ) и задает новую перспективу, суть которой — это возможность «человѣчеству на просторѣ самому соцiально устроиться и уже на дѣле, а не на бумагѣ» (385), ведь нет важнее цели, чем добиться «полнейшего освобождения и счастия народа <…> путем всесокрушающей народной революции»8. Петр Степанович убеждал, что его последователи будут сопричастниками в построении нового мира. После убийства Шатова Верховенский внушал значимость произошедшего:
«…вы должны ощущать ту свободную гордость которая сопряжена съ исполненiемъ свободнаго долга» (568).
Петр Степанович вкладывал высшие смыслы в свои идеи, заверял о гарантированности достижения целей и благ в рамках его программы.
Одной из сложных форм психологического воздействия является аргументирование — убедительное, доказательное, логическое объяснение ситуаций, поступков и мотивов, в результате которого создавалась траектория действий персонажей в нужном для Петра Степановича русле. Верховенский вразумительно пояснил Андрею Антоновичу, почему нельзя прежде времени сдавать Шатова: «…пошевелите раньше — гнѣздо разлетится» (338). Когда Юлия Михайловна попробовала обвинить Верховенского в беспорядках на ее литературном вечере, то Петр Степанович последовательно доказал свою непричастность (466). «Пятерке» молодой человек достоверно объяснил произошедшие убийства:
«…дѣло случая, сдѣлано Ѳедькой для грабежа» (511).
Он убедительно оправдал Ставрогина:
«Юридически вы совершенно правы, по совѣсти тоже» (495).
Ловко оперировал письмами Шатова и Лебядкина, доказывая свою псевдоправоту. Объяснял выгоду принятия на себя Кирилловым убийства Шатова:
«Это будетъ очень вѣроятно: они были друзьями и вмѣстѣ ѣздили въ Америку, тамъ поссорились» (515).
На протяжении всего романа Петр Степанович суетится, чтобы объяснить, вразумить, сориентировать на рациональное осмысление спорных ситуаций, повысить значимость используемых аргументов, и почти во всех случаях его задумки удаются. В конечном итоге хроникер заключает: три месяца спустя после всех событий «Петра Степановича иные считаютъ чуть не за генiя, по крайней мѣрѣ "съ генiальными способностями". "Организацiя-съ!" — говорятъ въ клубѣ, подымая палецъ кверху» (630).
Другое часто используемое Верховенским средство психологического воздействия — это демонстрация несостоятельности того или иного персонажа: на полученном эмоциональном фоне легче оказывать влияние, так как происходит психологическая дестабилизация, вследствие чего формируется особая податливость реципиента к дальнейшему внушению и руководству. При первом своем появлении у Варвары Петровны Верховенский без особого труда дискредитировал Лебядкина. В итоге капитан заключил:
«…вы жестоко со мной поступали» (187).
На этом же собрании Петр Степанович представил отца в неблагоприятном свете, открыв конфиденциальное содержание его письма и тем самым расстроив их двадцатилетнюю дружбу с Варварой Петровной ( далее будет следовать авторский комментарий, что у Петра Степановича были «замыслы на родителя» и «онъ разсчитывалъ довести старика до отчаянiя и тѣмъ натолкнуть его на какой-нибудь явный скан-далъ» (293) ) .
По отношению к Андрею Антоновичу он проявил подобное:
«…молодой Верховенскiй съ перваго шагу обнаружилъ рѣшитель-ную непочтительность» (297).
Юлию Михайловну взволновал сообщением, что ее хотят сменить из Петербурга, и «сюда назначенъ сенаторъ» (467). Шатову создал все условия на собрании «у нашихъ», чтобы он себя скомпрометировал, — неслучайно Ставрогин потом подметил: « … вы отлично выгнали Шатова» (391).
Неоднократно говорится о крайне пренебрежительном отношении Петра Степановича к своей «пятерке»: « … трети-ровалъ ихъ съ замѣчательною строгостью и даже небрежностью» (370), «непростительно» опаздывал, на важные вопросы «пятерки» отвечал: «Ахъ чортъ возьми, и безъ васъ много дѣла!» (513). Все его действия указывали на то, «что слишкомъ много чести такъ убѣждать и такъ возиться съ такими людишками» (516), чем очень их обижал. Иногда Петр Степанович выходил на откровенные оскорбления (500). Липутину прямо высказывал:
«Тѣмъ презрѣннѣе для васъ что вы не вѣря дѣлу <…> бѣжите теперь за мной какъ подлая собаченка» (520).
Демонстрацией своего небрежного отношения к товарищам Верховенский создавал предпосылки для их удрученного душевного состояния, которое вызывало в адресатах психологическую податливость и способствовало дальнейшему продвижению Петра Степановича к его намеченной цели.
Все эти средства психологического воздействия (создание собственного ложного образа, удовлетворение потребностей других, смыслообразование, аргументация, демонстрация несостоятельности) относятся к сложным формам психологических «хитростей». Но есть и ряд достаточно грубых и примитивных манипулятивных приемов, которыми также не пренебрегал Петр Степанович. Верховенский приводил собеседника в замешательство, приписывая ему слова, которые тот не говорил, тем самым направляя разговор в свое русло. Например, он обращается к Ставрогину: «Вы, кажется, сказали: "все равно"?» (213), но тот ничего не говорил. Аналогично выстроен и его диалог с Виргинским:
«— Но? спросилъ Петръ Степановичъ.
— Чтò но ?
— Вы сказали но … и я жду.
— Я, кажется, не сказалъ но …» (516).
Многократно Верховенский угрожал (258, 359, 390, 500, 508, 514, 527) и выставлял «грубый страхъ и угрозу собственной шкурѣ» (517). Т. П. Баталова справедливо подчеркнула, что убийство Шатова было лишено политичности и идейности: «Члены "пятерки" убивают Шатова из страха, что он сообщит об их деятельности властям, т. е. оберегали себя» [Баталова: 269]. Верховенский искажал смысл слов, играл со словами или открывал лишь «уголокъ» правды (581), что также являлось средством манипуляции. Например, на слова Шатова, что тот « прямо отказался» от деятельности в «пятерке», Верховенский лукаво заключает:
«… не прямо <…> "Не могу" не значитъ "не хочу"» (358; курсив наш. — В. С .).
Он задавал вопросы на собрании «у нашихъ» « страннымъ образомъ », неопределенно, но ужасно заманчиво, — при этом отвечающий тут же компрометировал себя (386).
Его сознание лукаво и подвижно, он видит и задействует сразу несколько смыслов слов. Так, например, Верховенский считает, что слово «паркъ», столь неопределенно помещенное в записке Кириллова, всех собьет с толку (625). Он обманывал (334, 355, 517), льстил и говорил «сладкiя вещи» (215, 299, 327, 334, 338, 464, 572, 586 и др.), упрекал и обвинял , например, отца: «…въ какое же положенiе я былъ поставленъ послѣ этого? <…>
Чтó ты надѣлалъ со мной» (196–197); упрекал Кириллова: «вспомните что вамъ собрали сто двадцать талеровъ на дорогу» (355); укорял «пятерку»: «…съ какой стати вы изволили зажечь городъ безъ позволенiя» (512).
Любил Верховенский играть разные роли : на встрече у Варвары Петровны «хотѣлъ было взять дурачка, потому что дурачокъ легче чѣмъ собственное лицо» (212); притворялся, что «фанатически» предан Юлии Михайловне (302); входя к «нашимъ», сочинял «физiономiю» (366) и т. д.
Придумывал роли и другим: представил Эркеля на собрании в роли ревизора (371), — и вообще нарочно выдумывал «чины и должности» (364). Пытался влиять и личным примером : «Я дѣйствую по инструкцiи центральнаго комитета, а вы должны повиноваться» (520). Но в данном контексте исключался «феномен взаимного нравственного совершенствования участников общения» [Киселева, Сахарчук: 156], так как ссылка на центральный комитет являлась фальшью, и Верховенский преследовал сугубо личные интересы.
Одним из ярких средств психологического влияния в арсенале Петра Степановича являлся невербальный метод воздействия на собеседников. С. П. Пухачев отмечает, что для более основательного анализа героев в литературном произведении «"цена" движения возрастает. Самые, казалось бы, естественные жесты <…> могут, тем не менее, нести дополнительный смысл, "участвовать" в характеристике персонажа» [Пухачев: 270], сюда могут входить тембр голоса, позы, жесты, взгляды, тон и быстрота речи и др. Эффект в этом случае рассчитан на создание эмоциональной реакции, придание новых смыслов ситуациям и словам. Т. С. Кабатченко отмечает, что «возможность невербальных компонентов выражать, обозначать, <…> воздействовать на чувства, вызывать образ, служит средством отреагирования и составляет основу тех психологических эффектов, которые возникают при их использовании в целях воздействия» [Кабатченко: 171].
Так, будучи на собрании «у нашихъ» Верховенский всячески показывал свое безразличие и пренебрежение ко всему происходящему. Это выражалось в поведении, жестах, положении тела: он «замѣчательно небрежно развалился на стулѣ въ верхнемъ углу стола, почти ни съ кѣмъ не поздоровавшись» (372), демонстративно потягивался на стуле, «зѣвая» во время важного для всех вопроса: «засѣданiе, или, просто, мы собранiе обыкновенныхъ смертныхъ» (376), попросил ножницы, «безмятежно разсматривая свои длинные и нечистые ногти» (379), при этом «Арина Прохоровна поняла что это реальный прiемъ» (380).
В другой раз, возлагая на Липутина обязательство отпечатать прокламации и предполагая несогласие, Петр Степанович действовал « твердо », « самоувѣренно », говорил « ужасно хладнокровно » и в итоге « грозно прогремѣлъ », « засверкавъ глазами » (520), — вся кинесика его тела указывала на невозможность возражения.
В роковой для Кириллова вечер Петр Степанович вошел к нему « злобный и задорный », «улыбнулся онъ обидно покровительственною улыбкой », говорил «со скверною шутливостью » (571) — все демонстрировало неотвратимость исполнения Алексеем Нилычем задуманного самоубийства. Когда Петр Степанович замечает неуверенность в Кириллове, то весь язык тела Верховенского начинает выдавать страх, что его план сорвется. Он меняется, слова сопровождаются такой паралингвистической характеристикой, как « вздрогнулъ », « отчеканилъ », « вскинулся », « позеленѣлъ », прибегает к излюбленному средству — угрозе, только уже выраженной не на словах, а через положение тела и жесты: «Петръ Степановичъ сталъ въ позицiю и навелъ свое оружiе на Кирилова» (573). Но потом Верховенский решает изменить тактику и возбудить Кириллова иначе. Он « закурилъ папиросу » (575) и с « нату-ральнымъ простодушiемъ » (576) завел речь о философии Кириллова: «…никогда не могъ понять у васъ этого пункта: почему вы-то богъ» (577). Данный прием подействовал, и в состоянии аффекта Алексей Нилыч написал все, что Верховенский требовал. Петр Степанович оказывает психологическое воздействие не только языковыми средствами, но и использует жестовые, интонационные, различные несловесные приемы, решает конкретные коммуникативные задачи, ведет «игру», создавая предпосылки для ожидаемой реакции собеседника и побуждая на определенные действия.
Выбранные средства психологического воздействия представляют Петра Степановича лицом крайне безнравственным в понимании Достоевского, для которого главными чертами в человеке были «прямодушие, честность, сердечная веселость, чистота, великодушие, чувства, добрые желания» [Захаров, 2018: 4]. Но при этом Достоевский также наделяет своего персонажа «проницательностью и гениальностью» [Захаров, 2018: 4]: будучи деятельной и сведущей стороной в процессе психологического воздействия, Верховенский тонко чувствовал, когда подобное воздействие направлялось непосредственного на него, и не терпел подобного посягательства. Например, Ставрогину говорил: «…можете меня презирать сколько угодно, если вамъ такъ смешно, но <…> безъ личностей», — на что Николай Всеволодович не стал возражать: «Хорошо, я больше не буду» (219). В словах фон Лембке Верховенский уловил скрытый контроль: «Вы, Андрей Антоновичъ, меня, какъ вижу, экзаменуете?» (333); зайдя к «нашимъ» Петр Степанович «видъ имѣлъ злой, строгiй и высокомѣрный», так как «тотчасъ же замѣтилъ по лицамъ что "бунтуютъ"» (510). Верховенский ценил свою психологическую свободу.
Рассмотренный ряд средств психологического воздействия в романе «Бесы» во многом образует психологический рисунок произведения и раскрывает не только сущность Верховенского, для которого «нравственно все, что способствует торжеству революции»9, но и в целом проблематику романа. «Достоевский глубоко раскрыл механизм внутренней связи, на которой держится власть политического интриганта над душами людей, вовлеченных в его авантюру» [Щенников, 1987: 264]. Он осуществил это через технологию психологической манипуляции, цели которой — внедрение революционных идей, дестабилизация нравственных основ общества, создание всеобщего беспорядка и смуты.
К приемам психологического воздействия прибегают разные персонажи романа Достоевского, но в большинстве своем они действуют интуитивно и преследуют личные эгоистические цели, при этом не нарушая этических границ окружающих. Но Петр Степанович Верховенский акцентированно стремится к реализации кровавого плана не только своими силами, но и чужими руками. Не допуская психологическое воздействие в отношении себя, к окружающим Верховенский активно применяет различные средства психовлияния вплоть до самых грубых и низких. Манипуляционная тактика Петра Степановича во многом коррелирует с принципами С. Г. Нечаева, изложенными в его программном документе. По словам Б. Н. Тихомирова, «при ближайшем рассмотрении обнаруживается, что действует Петр Степанович в романе так, как будто последовательно, пункт за пунктом, осуществляет положения нечаевского "Катехизиса…"» [Тихомиров: 171].
Достоевский беспощадно развенчивает не просто нечаевцев, а целую революционную тенденцию: после публикации «Бесов», по мнению В. Н. Захарова, «все понимали, кого Достоевский нарек бесами» [Захаров, 2013: 353]. Исповедование революционного макиавеллизма, предполагающего полное отрицание христианской нравственности, беспринципные методы психологического воздействия, нарушающие этические границы личности, посягающие на его психологическую безопасность, несущие духовную угрозу человеку и государству, характеризуют вскрытую Достоевским бесовскую сущность революционного движения.