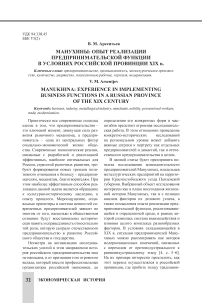Манухины: опыт реализации предпринимательской функции в условиях российской провинции XIX в
Автор: Арсентьев Виктор Михайлович
Журнал: Экономическая история @jurnal-econom-hist
Рубрика: Индустриальная история
Статья в выпуске: 4 (27), 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье предпринята попытка исследования жизнедеятельности предпринимателей Манухиных, владельцев металлургических предприятий на территории Краснослободского уезда Пензенской губернии. Выбранный объект исследования интересен как в плане воссоздания жизненной истории Манухиных, так и с позиции анализа факторов их делового успеха, а также осмысления опыта реализации предпринимательской функции, реализовывающейся в определенной среде, в рамках которой сложилась система взаимодействия и влияния целого комплекса разнообразных факторов. В условиях складывающейся в XIX веке ситуации предпринимателей Манухиных можно рассматривать как акторов модернизационных изменений, связанных с переходом от протоиндустриального к раннеиндустриальному этапу. На их примере интересно проследить, как этот переход осуществлялся в российской провинции, где пробить толщу традиционной экономики с доминирующим аграрным сектором было чрезвычайно трудно.
Предпринимательство, промышленность, металлургическое производство, купечество, дворянство, посессионные рабочие, торговля, модернизация
Короткий адрес: https://sciup.org/14723734
IDR: 14723734 | УДК: 94:338.45
Текст научной статьи Манухины: опыт реализации предпринимательской функции в условиях российской провинции XIX в
Практически все современные подходы едины в том, что предпринимательство – это ключевой момент, движущая сила развития рыночного механизма, а предприниматель – одна из центральных фигур социально-экономической жизни общества. Современные экономические реалии, связанные с разработкой и реализацией эффективных, наиболее оптимальных для России, стратегий рыночных развития, требуют формирования новых трендов позитивного отношения к бизнесу – предпринимателям, меценатам, благотворителям. При этом наиболее эффективным способом реализации данной задачи является обращение к культурно-историческому наследию, к опыту прошлого. Мироощущение, социальные ориентиры и система ценностей современных предпринимателей зависят во многом от того, насколько в общественном сознании будут восстановлены историческая память и справедливость относительно той роли, которую сыграло отечественного предпринимательство в развитие Российского общества и государства.
Несмотря на активизацию исследовательских усилий в этом направлении история российского предпринимательства еще не написана, и от признания того огромного вклада, который внесли профессиональные организаторы российской экономики, до определения его конкретных форм и масштабов предстоит огромная исследовательская работа. В этом отношении проведение конкретно-исторических исследований на региональном уровне может добавить важные штрихи к портрету как отдельных предпринимателей и династий, так и отечественного предпринимательства в целом.
В данной статье будет предпринята попытка исследования жизнедеятельности предпринимателей Манухиных, владельцев металлургических предприятий на территории Краснослободского уезда Пензенской губернии. Выбранный объект исследования интересен как в плане воссоздания жизненной истории Манухиных, так и с позиции анализа факторов их делового успеха, а также осмысления опыта реализации предпринимательской функции, реализовывающейся в определенной среде, в рамках которой сложилась система взаимодействия и влияния целого комплекса разнообразных факторов. В условиях складывающейся в XIX в. ситуации предпринимателей Манухиных можно рассматривать как акторов модернизационных изменений, связанных с переходом от протоиндустриального к раннеиндустриальному этапу [4, с. 5–6]. На их примере интересно проследить, как этот переход осуществлялся в российской провинции, где пробить толщу традицион- ной экономики с доминирующим аграрным сектором было чрезвычайно трудно.
История предпринимательского успеха Манухиных уходит своими корнями в XVIII в., а переход к промышленному предпринимательству был обусловлен целеустремленностью и энергичным проявлением частной инициативы отдельного представителя рода, переключившего бизнес с торговли на промышленную сферу и выступившего в роли конструктора и собирателя нового семейного дела. В качестве такого «пассионария» династии выступил кашинский купец Дмитрий Яковлевич Манухин.
В определенной степени его можно считать продолжателем дела другой известной династии Среднего Поволжья – Миляко-вых, которые в XVIII в. создали довольно развитое промышленное хозяйство. В 1750-х гг. оно состояло из трех металлургических заводов (Рябкинский и Авгурский чугуноплавильные и Сивиньский железоделательный заводы)* в Краснослободском уезде Пензенской губернии, парусной фабрики в с. Рябка того же уезда, а также Ши-рингушской полотняной фабрики в Спасском уезде Тамбовской губернии [3, с. 227].
К началу XIX в. значительная часть промышленного хозяйства Миляковых выпадает из родовых владений, что приводит к разрушению семейного дела и угасанию предпринимательской династии. Интересующие нас Авгорский и Сивиньский заводы, с которыми связана предпринимательская деятельность находящейся в нашем исследовательском фокусе династии Манухиных, находились в руках дочерей представителя другой семейной ветви рода Миляковых – Андрея Тарасовича, являвшегося двоюродным братом упомянутого выше Алексея Ивановича. Учитывая, что у Андрея Тарасовича так и не родились сыновья, все его наследство было разделено между дочерьми, состоявшими на тот момент уже в замужестве: Анисьей Чеканщиковой, Авдотьей
Артемовой, Фавотой Цыбышевой, Александрой Хилковой. Разделение заводского хозяйства на несколько владельческих долей создавало трудности в управлении заводами, поэтому на семейном совете было решено передать функции управления заводами Анисье Чеканщиковой, о чем можно судить по данным топографического описания, в котором содержательницей заводов называется «…московского купца Чекан-щикова жена, его вдова» [22, л. 43 об.].
Представители рода Манухиных, которые на момент их появления в новом бизнесе указываются в источниках как кашинские купцы, начинают участвовать в управлении Авгорским и Сивиньским заводами в начале XIX в. Это произошло благодаря женитьбе Дмитрия Яковлевича Манухина на дочери Анисьи Андреевны и Николая Андреевича Чеканщиковых [21, л. 9]. С этого времени начинается новый этап истории Сивиньского и Авгорского заводов. На протяжении первой четверти XIX в. Д. Я. Манухин планомерно скупил все «заводские доли», поделенные между наследниками. В частности, одна из таких долей была приобретена в 1819 г. у московского мещанина Алексея Николаевича Хил-кова за 70 тыс. руб. ассигнациями [33, л. 3]. Начатое Д. Я. Манухиным дело централизации владельческих прав и системы управления заводами продолжил его сын Николай Дмитриевич (24.12.1790 – 02.11.1857). Во второй половине 1820-х гг., выкупив оставшиеся наследственные «доли», он стал единоличным заводосодержателем [34, л. 1].
С именем Николая Дмитриевича Манухина связан весьма успешный период в деятельности Авгорского и Cивиньского заводов. Он был представителем предпринимателей-рационализаторов, стремящихся даже в тех не очень благоприятных условиях сделать свое производство прибыльным за счет, прежде всего, его эффективной экономической организации, а в некоторых случаях – за счет внедрения технико-технологических инноваций. Являясь владельцем целого заводского комплекса, который составляли Авгорский чугуноплавилиьный, Сивиньский железоделательный, а с конца 1840-х гг. и При-клонский минерально-купоросный заводы, а также д. Русское Маскино, где проживали купленные к заводам крепостные крестьяне, Н. Д. Манухин довольно успешно вел свою предпринимательскую деятельность. Он был одновременно и купцом, и заводо-владельцем, организовывая и контролируя не только производственный процесс, но и сбыт товара. Чтобы рационально управлять хозяйством, Манухин жил при заводе, имел хорошее имение с зимним садом и оранжереей [5, с. 53]. Как указывалось ранее, за заслуги в развитии промышленности он был назначен членом мануфактурного комитета по Пензенской губернии и носил звание мануфактур-советника. Это звание требовало от Николая Дмитриевича представлять пензенскую бизнес-элиту в Мануфактурном совете, регулярно участвуя в его заседаниях в в Санкт-Петербурге. При этом вместе с этим престижным званием ему вверялась обязанность разработки и принятия мер, содействовавших развитию промышленного производства Пензенской губернии, а также России в целом. Кроме того, Н. Д. Манухин являлся представителем высшего городского сословия – почетных потомственных граждан, а также был кавалером ордена Св. Станислава 1-й степени.
Н. Д. Манухин имел и другие отличия. По результатам мануфактурной выставки в Москве 1853 г. «за обширное производство чугунных чаш, кумпанов (кувшинов. – В. А. ), сковород и других изделий, сбываемых хивинцам, бухарцам, персиянам», он был награжден Малой золотой медалью [13, с. 38]. Причем в инструкциях по присуждению наград за участие во всероссийских выставках указывалось, что основанием для награждения является как качество товара, так и его стоимость.
Залогом такого успеха стала весьма успешная маркетинговая политика, прово- димая предпринимателем. Организуя промышленное производство, он старался повернуть его «лицом к рынку», учитывать потребительские особенности спроса не только на внутреннем, но и на внешнем рынке. Н. Д. Манухин старался изучать особенности местного быта и вкусовые пристрастия населения. Ассортимент производимых на его заводах изделий из железа и чугуна определялся с учетом потребительских предпочтений населения, благодаря чему продукция Авгорского и Сивиньского заводов пользовалась повышенным спросом. Выгодность торговли с азиатскими народами для заводовладельцев состояла в том, что она велась преимущественно на наличные деньги. Для восточных рынков Авгурским чугуноплавильным заводом в 1850 г. изготавливались «азиатские чаши, татарские кувшины, персидские сковороды, котлы, горшки, вьюшки и разные мелочные вещи» [25, л. 48 об.].
Ассортимент Сивиньского железоделательного завода составляло преимущественно «связное, веретенное и полосовое железо», поставляемое главным образом на внутренний рынок. Причем география торговых поставок металлургических заводов Н. Д. Манухина на внутренний рынок была достаточно широкой. Продукции заводов отправлялась на Нижегородскую, Карсун-скую, Пензенскую, Нижнеломовскую, Ростовскую, Урюпинскую и другие ярмарки [35, л. 17–20].
В ярмарочной торговле металлом с 1820-х гг. начала практиковаться новая система продажи путем заторжек, т. е. по письменным требованиям покупателей («по записям»). При этом Н. Д. Манухин активно пользовался этой системой, продавая товар не только на наличные деньги, но и «по записям». Специально для организации «отправки, приема и сдачи товара» содержал штат «комиссионеров» и «приказчиков», командируемых для торговли чугуном и железом на ярмарки в разные города [25, л. 50]. По сведениям самого Манухина, в 1828 г. выделываемое им железо было отправлено для продажи в Саратов на
6 000 руб., Елец – на 5 500, на Макарьев-скую ярмарку – на 1 500, Михайловскую – на 1 500 руб., (итого на 14 500 руб.), а «прочее» продано при заводе. Произведенной на Авгурском заводе посуды было продано в Саратове – на 8 000 руб., Оренбурге – на 10 000, на ярмарках: Нижегородской – на 30 000, Карсунской – на 1 800, Пензенской – на 1 000, Нижнеломовской – на 1 200, Ростовской – на 4 000, Урюпинской – на 5 000 и Михайловской – на 3 500 руб. Всего же в 1828 г. «на стороне» было продано продукции на 64 500 руб., а остальная часть реализовалась при заводе [5, с. 52–53].
Тем не менее производительность металлургических заводов Манухина не была стабильной. Причем за период с 1797 по 1864 г. для Авгорского завода наименьший показатель в весовом измерении был зафиксирован в 1830 г. (21 523 пуда чугуна), а наибольший – в 1864 г. (66 339 пудов чугуна). Для Сивиньского железоделательного завода это соотношение составило 1 800 пудов железа (1859 г.) и 15 232 пуда железа (1826 г.) соответственно [1, с. 211].
Еще одним фактором предпринимательского успеха Н. Д. Манухина можно считать модернизационные устремления заводовла-дельца, стремление к совершенствовании производства. Это касалось как технологии плавки и обработки металла, так и внедрения технических инноваций. В частности, в источнике, датированном 1857 г., указывается о наличии на Авгорском металлургическом заводе парового двигателя мощностью 12 л. с. Кроме этого, на заводе продолжала использоваться паровая энергия 4 водяных колес общей мощностью в 48 л. с. [29, л. 159].
Общую структуру заводского хозяйства и его технический уровень можно представить на основе описания Авгурско-Сивиньского производственного комплекса, составленного на рубеже 50–60 гг. ХIХ в. В нем упоминаются следующие сооружения и оборудование:
– плотина для действия водяных колес;
– каменный доменный корпус, при котором находился деревянный корпус воздуходувной машины, состоящей из четырех двудувных цилиндров и приводимой в движение энергией водяного колеса;
– двухэтажный каменный ваграночный корпус, в котором установлены вагран-ные (т. е. подвижные малые) печи и вертикальные цилиндрические воздуходувные машины, приводимые в движение паровым двигателем, мощностью 12 л. с.;
– каменный корпус для сушки опок, в котором были «устроены» углевыжигатель-ные печи;
– кузница деревянная (молотовая) с 4 кричными горнами;
– семь сараев для хранения угля, руды, флюса, опок и леса [1, с. 209].
Стремясь к расширению границ своей предпринимательской деятельности, Н. Д. Манухин испытывал недостаток капитала, что побудило его в середине 1850-х гг. обратиться с просьбой в Государственный заемный банк с целью получения денежной ссуды. 3 октября 1857 г. правление банка сообщило в Департамент горных соляных дел, что «мануфактур-советнику Николаю и жене его Варваре Манухиным с разрешения господина Министра финансов выдано из Государственного заемного банка в ссуду на 37 лет с 1855 г. января 18 – 73 320 руб. серебром под залог общего их горнозаводского имения в Пензенской губернии Краснослободского уезда на посессионном праве» [23, л. 1].
Как видим, промышленное хозяйство Н. Д. Манухина имело довольно высокую репутацию. Его состоятельность и доверие к нему в финансовых кругах позволили получить столь крупный кредит. Практическим подтверждением предпринимательских способностей Н. Д. Манухина было относительно стабильное функционирование его промышленного хозяйства на протяжении всей первой половины ХIХ в. Кроме того, Авгурский и Сивиньский заводы – единственные из всех посессионных металлургических предприятий на территории Среднего Поволжья, которые пережили реформу 1861 г. [1, с. 211].
Рассматривая Манухиных с точки зрения нематериальных составляющих их жизнедеятельности мы можем увидеть, как на протяжении первой половины XIX в. трансформируется их социокультурный облик. Прослеживается тенденция разрушения системы традиционных ценностей купечества. Один из факторов можно рассматривать влияние дворянской культуры. По мнению Н. С. Козловой уже в XVIII в. образ «совершенного купца» в России «причудливо сочетал в себе черты буржуазного, мещанского личностного образца, для которого богатство и польза являлись главными показателями достоинства человека с чертами, воспринятыми у дворянского, аристократического образца. Носителем последнего мог быть только человек благородного происхождения» [15, с. 54].
Как считает исследователь купечества XVIII – первой половины XIX в. А. И. Куприянов, купечество ощущало социальную ущемленность и неполноправность по сравнению с дворянством, что приводило к формированию у значительной его части двойного стандарта деловой этики, своеобразной «корпоративной морали» [18, с. 403–418].
В частности, распространение среди купечества дворянской культуры и образцов поведения проявилось в отношении к богатству. Это выражалось в стремлении к роскоши, проявлениях демонстративного расточительства. Хотя это явление было более свойственно для столиц, и в большей степени Петербурга, нежели Москвы, на отдельных представителей провинциального предпринимательства распространялось стремление жить по-барски, «на широкую ногу». Так, купец-горнозаводчик Н. Д. Манухин создает в своей резиденции при Сивиньском заводе подобие дворянской усадьбы, где мы находим роскошный господский дом с колоннами, весьма богатым интерьером, библиотекой, зимней оранжереей и т. д. [3, с. 229].
Проецирование на купечество дворянского отношения к богатству в некоторых случаях позитивно влияло на предпринимательскую культуру. В иерархии ценностей русского купечества богатство становилось не самоцелью, а средством жить независимо и вести свое дело, позволяя реализовать свои амбиции и воплотить в жизнь собственные идеи [17, с. 78].
В контексте проникновения в купечество дворянских ценностей и образцов поведения следует рассматривать и все более отчетливо проявляющееся среди прежде всего богатого купечества стремления к образованию. Купцы начинают заботиться о воспитании и обучении детей, приглашают учителей и гувернанток, в том числе и иностранных, направляют своих детей в престижные столичные учебные заведения. Например, дети Н. Д. Манухина, Александр и Николай, получили инженернотехническое образование в престижных учебных заведениях Санкт-Петербурга. Причем в выборе последних Николай Дмитриевич руководствовался стремлением привлечь сыновей к своему бизнесу и подготовить наследника фамильного дела. Оба сына Н. Д. Манухина в источниках 1850-х гг. указываются как горные инженеры. При этом Александр закончил Горный институт в Петербурге, на что прямо указывает упоминание Александра Манухина в списке выпускников этого учебного заведения от 1852 г. [28]. Николай Манухин был выпускником горной технической школы, состоящей при Санкт-Петербургском практическом технологическом институте, по результатам обучения в которой также присваивалась квалификация «горный инженер». Они относились к числу самых престижных учебных заведения инженерно-технического профиля, готовящих кадры для горнозаводской промышленности России, и приравнивались к высшим учебным заведениям. Выпускникам института присваивались чины прапорщика, подпоручика или поручика (последний соответствовал 10-му классу гражданских чинов [14, с. 211].
Стремление к образованию среди купечества было, с одной стороны, проявлением утилитаризма, необходимым условием осуществления своей профессиональной деятельности. С другой – обусловлено вли- янием дворянской культуры, стремлением приблизиться к благородному сословию.
Сословное неравноправие, и даже своего рода «ущербность» многих успешных купцов-предпринимателей, носившая не только правовой, но и социальнопсихологический и морально-нравственный характер, отрицательно сказывалась на их мироощущении. Поэтому многие из тех, кто не относился к господствующему сословию, утвердившись в деловом мире, всеми путями «домогались» чинов, званий и дворянского статуса. Манухины не были исключением. В источниках середины XIX в. Николай Дмитриевич Манухин именуется помещиком, что свидетельствует о его принадлежности к личному дворянству. Кроме того, фамилию Манухиных мы находим в списке дворянских родов, внесенных в Родословную книгу Дворянского Депутатского собрания Пензенской губернии. Причем фамилию Манухиных мы находим во 2-й части этой книги, где указано военное дворянство, приобретенное чином военной службы. В качестве даты получения дворянства указывается 1846 г. [27].
Быт и образ жизни Манухиных также напоминали помещичий. В частности, в резиденции Н. Д. Манухина при Сивиньском заводе располагался каменный двухэтажный господский дом с колоннами довольно внушительных размеров – длиной 36 м, шириной – 20 и высотой 10 м. К нему примыкали два каменных пристроя, в которых находились подсобные помещения. Кроме того, при Сивиньском заводе была построена каменная зимняя оранжерея размером 42,6 на 10,5 м. В ней круглый год выращивались экзотические растения и даже тропические фрукты, а для ее отопления действовало семь печей [31, л. 53, 55 об.]. Это было проявлением так называемого демонстративного расточительства, атрибутом состоятельности и аристократизма, принадлежности к благородному обществу, к чему стремились и успешные предприниматели-заводчики.
Важнейшей составляющей управления промышленным хозяйством можно считать и «социальный менеджмент». К сере- дине XIX в. в распоряжении Манухиных были сотни рабочих, находившихся как на посессионном, так и помещичьем праве. Например, в 1850 г. при Авгорском и Сивиньском металлургических заводах и д. Русское Маскино, купленной на посессионном праве еще Миляковыми в XVIII в., состояло 1 222 души м. п. [5, с. 206–210]. Естественно, для эффективной организации труда Манухиным приходилось поддерживать благоприятный социальный климат, культивировать образ «добрых хозяев» и даже благодетелей в глазах рабочих. Все это достигалось благодаря реализации политики социального патернализма, предусматривавшей проведение социальноориентированной политики.
К тому же, существовали предписания «Горного положения» относительно принятия заводовладельцами мер по поддержанию физического и нравственного здоровья рабочих посессионных предприятий, владельцам которых предписывалось содержать при заводах больницы, аптеки и школы. Хотя они и имели рекомендательный характер, тем не менее, Манухины считали необходимым их выполнять. Так вдовам, престарелым и сиротам выдавались пенсии, обычно в форме натурального довольствия ржаной мукой, в год до 400 пудов [5, с. 120].
Рабочим Авгурского и Сивиньского заводов Н. Д. Манухина предоставлялась возможность пользоваться баней, для престарелых и неимущих была построена богадельня, действовал госпиталь [35, с. 17–20].
Тем не менее иногда ситуация выходила из-под контроля. В частности, достаточно высокая плотность населения в заводских поселках, плохие условия жизни, отсутствие профилактических мероприятий приводили к частому возникновению и быстрому распространению эпидемий. Так, в феврале 1828 г. на Сивиньском заводе заболело горячкой 72 чел. На место немедленно был отправлен представитель врачебной управы. Весь лечебный процесс сводился к «окуриванию можжевельными ягодами и уксусом» и учреждению карантинов. Мало- эффективное лечение не смогло предотвратить трагических исходов, в результате 9 чел. умерло [12, л. 67 об. – 68].
Кроме того, источники свидетельствуют о сравнительно высоком уровне оплаты труда на заводах Манухина, что выгодно отличало их от других промышленных предприятий региона. Например, мастеровые Сивиньского завода, средний уровень заработной платы которых составлял 110 руб. в год, получали дополнительно от Н. Д. Манухина «в каждый месяц денежной выдачи от 700 до 1 000 руб.». Всего за 1823 г. им было выдано 11 тыс. руб., за неполный 1824 г. (на момент подачи сведений) – 8 тыс. руб. Кроме того, мастеровым завода были предоставлены «усадебные места» для посева конопли, льна, овощей. Имеющиеся в их распоряжении сенокосные луга давали возможность содержать скот, «от чего они не покупают нигде для своего употребления сукно, овчины, ничего касательно платья, но всегда от избытка продают в посторонние руки». Для постройки и ремонта домов мастеровым выделялся лес, а для перемола хлеба бесплатно предоставлялась находившаяся при заводе мельница. «Для исправления домашних нужд предоставлялось особое время на сенокошение, для запасения лыками, мочалами и берестами, для занятия пчеловодством [30, л. 86–88].
В фонде Горного правления Российского государственного исторического архива отложилось дело, в котором содержится просьба от имени мастеровых Авгорско-го чугуноплавильного завода Краснослободского уезда Пензенской губернии «…о изъявлении благодарности их подпоручику Н. Д. Манухину за продовольствие в неурожайный 1848 г.». В нем сообщалось, что, несмотря на дороговизну хлеба, он выдавал его за свой счет заводскому населению, проживавшему при Авгорском и Сивиньском заводах и в д. Русское Маскино. При этом рабочие осознали преимущества политики социального патернализма, проводимой за-водовладельцем, воочию увидев, в каком положении оказались жители окрестных сел и деревень, где крестьяне не получили такой помощи. Прошение было составлено в двух экземплярах, на имя берг-инспектора Департамента горных и соляных дел и пензенского губернатора, и вручено заводскому исправнику во время посещения им завода [24, л. 1–2].
Все это можно считать свидетельством существования своего рода «патриархальноотеческого строя», который характеризовался определенной мерой взаимовыгодности интересов и сотрудничества заводовладельца и рабочих ввиду довольно тесного взаимодействия на разных уровнях – производственнохозяйственном, социокультурном, фискальном и даже бытовом.
Тем не менее иногда на заводах Манухиных вспыхивали и социальные волнения, связанные с формированием у рабочих интересов и требований, не совпадавших с желаниями заводовладельцев. Одно из наиболее крупных протестных выступлений возникло в 1858 г. Группа заводских рабочих численностью около 200 чел. 4 января пришла к Манухину в расположенное на Сивиньском заводе господское имение с требованием о новом положении по задель-ной плате и возможности беспрепятственно рубить лес в заводских дачах. К движению присоединились находящиеся на посессионном праве крестьяне д. Русское Маскино. Они требовали увеличения поденной платы до 30 коп. серебром (им платили 30 коп. ассигнациями) и передачи в их распоряжение всех земель, находящихся в их пользовании и ранее им принадлежавших. Они заявляли, что земля – их собственность и они имеют право распоряжаться ею как хотят [5–11].
-
5 января 1858 г. мастеровые и приписные крестьяне отправились в Красносло-бодск для подачи жалобы предводителю уездного дворянства Дивлет-Кильдееву. Толпа имела некоторые элементы организованности, о чем говорят данная рабочими в виде присяги клятва не выдавать друг друга и установленные условные знаки для координации действий. Однако и эта акция ни к чему не привела. Дивлет-Кильдеев отказался рассмотреть их требования, заявив,
что их выполнение зависит только от воли Горного правления, и потребовал выдать самых «буйных» участников. Но рабочие остались верны клятве и через некоторое время направились обратно в д. Русское Маскино, отказавшись повиноваться.
По времени это выступление рабочих совпало со сменой владельца заводов, которые после смерти Н. Д. Манухина перешли к его сыну – А. Н. Манухину. Прежний владелец, не ослабляя строгого надзора за рабочими и не отличаясь излишней мягкостью, тем не менее умел находить общий язык с рабочими, дипломатично разрешая конфликтные ситуации и не допуская открытых массовых выступлений рабочих. Однако после его смерти дисциплина на заводе резко упала, а рабочие, почувствовав свободу, стали своевольничать: воровать чугун, заводские изделия, самовольно отлучаться с завода и т. д. [32, л. 71]. Вступивший в права заводосодержателя А. Н. Манухин, не сумев взять ситуацию под контроль, оказался в очень трудной ситуации. Требования рабочих были им практически проигнорированы. Заявив, что не прибавит платы, он сам предложил пойти им в Краснослободск жаловаться на него уездному начальству: «Ступайте, подайте на меня прошение, а я от вас откажусь или запродам вас и возьму за каждого по 60 целковых и стану торговать вином, мне сходней будет» [19, с. 264].
Дело дошло до того, что пензенским губернатором для усмирения крестьян были командированы старший чиновник особых поручений Караулов, обер-офицер корпуса жандармов и заводской исправник. Их увещевания не оказали воздействия на восставших, и тогда было решено направить в д. Русское Маскино 2-ю роту Углиц-кого пехотного полка, расположенную квартирами в Краснослободском уезде. В итоге противостояние сил закончилось рукопашной схваткой, свидетельства о которой напоминают военные сводки. В ответ на приказание прекратить сопротивление и явиться в заводскую контору крестьяне, имея при себе дубины, колья, топоры и ножи, бросились на фронт солдат, которые в ответ ударили крестьян «в приклады», не открывая при этом стрельбы, благодаря чему через 6 мин было достигнуто их «полное усмирение» [20, с. 810].
В результате проведенного следствия было выявлено 11 зачинщиков и самых активных участников сопротивления крестьян, которым в зависимости от степени виновности определили меру наказания: руководителей движения, бывших ратников ополчения Егора Михайлова и Логина Кондрашкина, «лишить всех прав состояния, прогнать сквозь строй каждого через сто человек по девяти раз и потом сослать на каторжную работу в рудниках на двадцать лет», восьмерых крестьян прогнать через строй вместо девяти семь раз, во всем остальном оставив наказание таким же. Отставной унтер-офицер Архип Власов был лишен «имеющихся у него знаков отличия за беспорочную выслугу 25 лет и всех прав состояния» и приговорен вместо каторжной работы к отправке в Сибирь на поселение ввиду преклонных лет и болезненного положения» [16, с. 81–82].
Однако и после этого взаимоотношения рабочих и заводской администрации не нормализовались, и еще несколько раз возникали конфликтные ситуации, заканчивавшиеся вмешательством солдат и довольно суровыми наказаниями. Волнения среди рабочих продолжались до 1860 г., когда их сопротивление было окончательно сломлено.
В 1857 г., после смерти Н. Д. Манухина, единоличным наследником промышленного хозяйства стал сын Александр. В 1852 г. он успешно окончил Институт корпуса горных инженеров в Санкт-Петербурге, получив специальность «горный инженер» и военный чин подпоручика [28, с. 752].
Передача владельческих и управленческих функций Александру* не было неожиданностью, так как с 1840-х гг. отец привлекал его к заводским делам, заранее подготавливая к роли продолжателя семейного дела. В последние годы жизни Николай Дмитриевич из-за болезни практически полностью отошел от дел, и все предпринимательские функции легли на плечи сыновей – Александра и Николая. Об этом свидетельствуют письма в Краснослободский уездный суд от остальных детей и вдовы Николая Дмитриевича. Они подтвердили свой отказ от причитающейся части наследства и выразили согласие на передачу промышленного хозяйства в руки Александра Николаевича.
Порядок единоличного наследования заводов устанавливался законодательством. Применительно к посессионным предприятиям, к числу которых относились Авгурский и Сивиньский заводы, действовал изданный еще в 1762 г. указ, предусматривавший выбирать из совладельцев одного, который бы осуществлял общее руководство имением. Роль остальных ограничивалась просмотром отчетной документации, составляемой для них по итогам заводского года, и получением доходов, соразмерно своей имущественной доле [3, с. 198–199].
В данном же случае наследники отказывались от своих долей в пользу Александра, получив при этом еще при жизни Николая Дмитриевича денежные компенсации. Все дочери Николая Дмитриевича к моменту его смерти уже вышли замуж и жили далеко за пределами имения. Наталья была замужем за штабс-капитаном Семеном Семеновичем Астафьевым и проживала с ним на территории Павловского кадетского корпуса (бывший Константиновский). Софья состояла в браке с надворным советником Павлом Аникеевичем Илличевским. Елизавета вышла замуж за отставного полковника Мичурина и жила в его имении в с. Покровском Кадниковского уезда Вологодской губернии. Мария – жена полковника лейб-гвардии казачьего полка Агаева – проживала в г. Тифлисе, Ольга – жена полковника Александра Николаевича Семе- нова – в Санкт-Петербурге, в доме дворян Глотовых по адресу: 1-й квартал Нарвской части, Обуховский проспект, д. 115/2 [31, л. 26–26 об., 28–28 об., 30–30 об.].
В качестве компенсации за отказ от части наследства дочери Николая получили денежное вознаграждение в виде приданого. В частности, Ольга приняла в качестве родительского свадебного подарка 14 285 руб. 72 коп. серебром, Наталья – 20 000 руб. сер. [32, л. 26–26 об., 149 об.].
Второй сын Николая Дмитриевича, Николай, к моменту смерти отца находился в звании поручика и имел квалификацию горного инженера. Получив вместо причитающейся ему доли заводского хозяйства денежное вознаграждение, Николай также отказался от претензий на наследство. Тем не менее он не был далек от заводских дел и в течение 1843–1852 гг. по доверенности отца даже непосредственно участвовал в управлении заводами, занимаясь преимущественно вопросами организации сбыта изделий из железа и чугуна. Кроме того, ввиду болезни отца он занимался сбором сведений по запросу Российского географического общества в рамках проводимого в 1852–1853 гг. масштабного проекта по подготовке к изданию обозрения внутренней торговли России. Одним из направлений этой работы являлось изучение состояния торговли чугуном и железом по частным горным заводам. Н. Н. Манухин показал себя весьма квалифицированным специалистом в этой области: он подготовил подробный отчет о сбыте производимой на Сивиньском и Авгорском заводах продукции, сделав при этом общие замечания о положении дел в данной области по России в целом, проанализировал проблемы и трудности на отечественном рынке черных металлов, а также предложил рекомендации по их решению [26, л. 25–25 об.].
Что же касается предпринимательских успехов нового владельца промышленного хозяйства Манухиных – Александра, то его период деятельности связан фактически с угасанием фамильного дела. Наблюдае- мый в 1870-е гг. в силу целого ряда причин спад производства привел А. Н. Манухина к решению о продаже Авгорского завода (Сивиньский завод к тому времени был уже упразднен и в источниках 1870-х гг. не упоминается). Свидетельством этого является ходатайство в Московское горное правление в 1877 г. в котором он просит дать ему возможность продать завод. Это прошение было удовлетворено, и после оформления и подписания «купчей» 20 марта 1878 г. завод перешел во владение купцам Ивану Дмитриевичу Голове и Николаю Алексеевичу Боженову. К началу XX в. единоличным владельцем завода становится И. Д. Голова, владевший, кроме этого, винокуренным заводом в с. Сивинь [2, с. 177].
Подытоживая историю предпринимательской династии Манухиных, мы видим, что жизненный цикл фамильного дела составил три поколения. Причем многие исследователи отмечают, что такого рода закономерность была характерна для подавляющего большинства предпринимательских династий России XVIII – первой половины XIX в.
В фамильном деле Манухиных переплелись две разные тенденции. С одной стороны, следование традициям, заложенных предками, опора на уже сложившийся уклад, позволявшие поддерживать стабильность функционирования промышленного хозяйства. Такого рода стратегия хозяйствования диктовалась существовавшей на протяжении XVIII – первой половине XIX в. экономической и социальнополитической ситуацией в стране. Реализуя свою предпринимательскую функцию в рамках посессионной формы организации промышленного производства, Манухины вынуждены были принимать правила игры, установленные свыше. Причем к середине XIX столетия эти правила игры во многом уже устарели. Чрезмерное государственное регулирование и регламентирование, а также сохранение традиционных форм организации труда и производства сковывали экономическую инициативу предпринимателей, а в некоторых случаях формировали в них потребительскую психологию. Даже полученный Н. Д. Манухиным в 1857 г. кредит лишь частично мог быть использован для модернизации производства. Существенная его часть шла на содержание госпиталя, выдачу пособий престарелым, вдовам и сиротам, выплату повинностей за приписанных к заводу рабочих и т. д.
Во многом в силу вышеназванных причин предпринимательская стратегия Манухиных носила преимущественно инерционный характер и не могла обеспечить своевременный и жизненно необходимый модернизационный рывок. Хотя попытки движения в этом направлении заводовла-дельцами все-таки предпринимались, о чем свидетельствуют приводимые выше факты.
К середине XIX в. мы наблюдаем и разрушение благоприятной социальной атмосферы на промышленных предприятиях по причине распространения среди посессионных рабочих протестных настроений, связанных с ростом недовольства своим зависимым положением, как в правовом, так и в экономическом плане. Формировавшийся десятилетиями «старый заводской порядок» начинает давать сбой. Своего рода приговором для семейного дела стали реформы начала 1860-х гг., ликвидировавшие посессионное состояние рабочих. Фактически это установило для Манухиных новую систему координат и заставило искать новые способы привлечения рабочих для обслуживания производства, главным из которых стал вольный найм. Добавили масла в огонь трудности с обеспечением завода сырьевыми и топливно-энергетическими ресурсами. Это произошло по причине истощения источников их пополнения и вынужденного перехода к рыночным способам их получения. Все это повышало себестоимость производства и делало его все менее рентабельным. С точки зрения конкурентного рынка модернизационный потенциал металлургических предприятий Манухиных не мог быть в полной мере реализован, что и предопределило угасание фамильного дела во второй половине XIX в.
Список литературы Манухины: опыт реализации предпринимательской функции в условиях российской провинции XIX в
- Арсентьев В. М. От протоиндустрии к фабрике: модели производственно-отраслевой специализации и механизм функционирования промышленности России в первой половине XIX века (по материалам Среднего Поволжья)/В. М. Арсентьев. -Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2004. -256 с.
- Арсентьев В. М. Промышленное развитие Мордовии в первой половине XIX века/В. М. Арсентьев. -Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2001. -296 с.
- Арсентьев В. М. Социальные аспекты организации промышленного производства провинциальной России в первой половине XIX в. (по материалам Среднего Поволжья)/В. М. Арсентьев. -Саранск: Изд. центр ИСИ МГУ им. Н. П. Огарева, 2009. -368 с.
- Арсентьев В. М. Экономическое развитие России в XIX -начале XX века: опыт применения модернизационной парадигмы/В. М. Арсентьев//Экономическая история. -№ 9. -2010. № 2. -С. 4-18.
- Арсентьев Н. М. Замосковный горный округ: заводовладельцы и рабочие: моногр./Н. М. Арсентьев. -Саранск: Тип. «Крас. Окт.», 1998. -604 с.
- Арсентьев Н. М. Инновации в промышленности России конца XVIII -начала XX в./Н. М. Арсентьев//Экономическая история. -2011. -№ 1. -С. 43-45.
- Арсентьев Н. М. Правовое положение рабочих Замосковного горного округа конца XVIII -первой половины XIX века в ретроспективе модернизационной парадигмы России/Н. М. Арсентьев//Экономическая история. -2013. -№ 2. -С. 8-17.
- Арсентьев Н. М. Предпринимательство и государство в исторической ретроспективе российских модернизаций/Н. М. Арсентьев//Экономическая история. -2010. -№ 1. -С. 18-21.
- Арсентьев Н. М. Промышленная Россия первой половины XIX века. Замосковный горный округ в планах и чертежах: моногр./Н. М. Арсентьев, A. M. Дубодел. -М.: Наука, 2004. -342 с.
- Арсентьев Н. М. Промышленное хозяйство Мальцовых XIX века в контексте теории анклавно-конгломератного развития/Н. М. Арсентьев, А. А. Макушев//Экономическая история. -2010. -№ 1. -С. 58-75.
- Арсентьев Н. М. Российские предприниматели Мальцовы: моногр./Н. М. Арсентьев, A. M. Макушев. -Саранск: Мордов. кн. изд-во, 2006. -268 с.
- ГАПО (Гос. арх. Пензенской области). -Ф. 5. -Оп. 1. -Д. 1387.
- Журнал мануфактур и торговли. -1855. ч. 3. -№ 7-9.
- Заблоцкий Е. М. К характеристике профессиональной общности (корпорации) горных инженеров дореволюционной России/Е. М. Заблоцкий//Социокультурные проблемы развития науки и техники: сб. тр. -М., 2006. -Вып. 4. -С. 210-226.
- Козлова Н. В. Некоторые черты личностного образца купца XVIII века (К вопросу о менталитете российского купечества)/Н. В. Козлова//Менталитет и культура предпринимателей России XVII-XIX вв. -М., 1996. -С. 43-57.
- Котков К. А. Движение рабочих Авгорского завода 1858 г./К. А. Котков//Записки МНИИЯЛИЭ. -№ 1. -1940. -С. 70-82.
- Крестовников Н. К. Семейная хроника Крестовниковых: в 3 кн. Кн. 1: Родословная Крестовниковых и родственных им фамилий/Н. К. Крестовников. -М.: Т-во скоропеч. А. А. Левенсон, 1903. -8, 112, XXVII с.
- Куприянов А. И. Городская культура русской провинции. Конец XVIII -пер. пол. XIX века/А. И. Куприянов. -М.: Новый хронограф, 2007. -480 с.
- Очерки истории Мордовской АССР: в 2 т. -Саранск: Мордов. кн. изд-во, 1955. -Т. 1. -24 с.
- Рабочее движение в России ХIХ веке: сб. док. и материалов. Т. 1. (1800-1860 гг.). Волнения крепостных и вольнонаемных рабочих. -М.; Л.: Госполитиздат, 1951. -1040 с.
- РГАДА (Рос. гос. арх. древ. актов). -Ф. 271. -Оп. 2. Кн. 543.
- РГВИА (Рос. гос. воен.-ист. архив). -Ф. ВУА, отд. 5. -Д. 18911.
- РГИА (Рос. гос. ист. архив). -Ф. 37. -Оп. 4. -Д. 160.
- РГИА. -Ф. 37. -Оп. 5. -Д. 1160.
- РГИА. -Ф. 37. -Оп. 5. -Д. 379.
- РГИА. -Ф. 37. -Оп. 5. -Д. 448.
- Список дворянских родов, внесенных в родословную книгу Пензенской губернии. -Пенза: Пенз. дворян. депут. собр., 1900. -35 с.
- Список лиц, окончивших курс в Горном институте с 1773 по 1923 год//Горн. журн. -1923. -№ 11. -С.747-763.
- ЦГА РМ (Центр. гос. арх. Республики Мордовия). -Ф. 24. -Оп. 1. -Д. 198.
- ЦГА РМ. -Ф. 24. -Оп. 1. -Д. 201.
- ЦГА РМ. -Ф. 24. -Оп. 1. -Д. 824.
- ЦГА РМ. -Ф. 24. -Оп. 1. -Д. 847.
- ЦИАМ (Центр. ист. арх. Москвы). -Ф. 2199. -Оп. 1. -Д. 121.
- ЦИАМ. -Ф. 2199. -Оп. 1. -Д. 180.
- ЦИАМ. -Ф. 2199. -Оп. 1. -Д. 271.