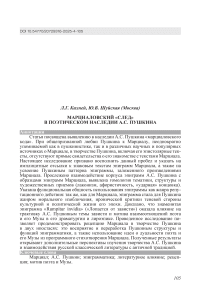Марциаловский «след» в поэтическом наследии А.С. Пушкина
Автор: Л.Г. Кихней, Ю.В. Шуйская
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература и литература народов России
Статья в выпуске: 4 (75), 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена выявлению в наследии А.С. Пушкина «марциаловского кода». При общепризнанной любви Пушкина к Марциалу, неоднократно упоминаемой как в пушкинистике, так и в различных научных и популярных источниках о Марциале, в творчестве Пушкина, включая его эпистолярные тексты, отсутствуют прямые свидетельства о его знакомстве с текстами Марциала. Настоящее исследование призвано восполнить данный пробел и указать на имплицитные отсылки к знаковым текстам эпиграмм Марциала, а также на усвоение Пушкиным паттерна эпиграммы, заложенного произведениями Марциала. Прослежено взаимодействие корпуса эпиграмм А.С. Пушкина с образцами эпиграмм Марциала, выявлена гомология тематики, структуры и художественных приемов (лаконизм, афористичность, «ударная» концовка). Указана функциональная общность использования эпиграммы как жанра репутационного действия: так же, как для Марциала, эпиграмма стала для Пушкина жанром морального изобличения, иронической критики теневой стороны культурной и политической жизни его эпохи. Доказано, что знаменитая эпиграмма «Rumpitur invidia» («Лопается от зависти») оказала влияние на трактовку А.С. Пушкиным темы зависти и мотива взаимоотношений поэта и его Музы в его драматургии и лироэпике. Проведенное исследование позволяет продемонстрировать рецепцию Марциала в творчестве Пушкина в двух ипостасях: это восприятие и переработка Пушкиным структуры и функций эпиграмматики, а также использование идеи о дуальности поэта и его Музы из программного стихотворения Марциала. Полученные результаты открывают дополнительные перспективы изучения творчества А.С. Пушкина и взаимодействия русской классической литературы с античной традицией.
Марциал, А.С. Пушкин, эпиграмматика, литературное влияние, рецеп- ция, мотив поэта и Музы
Короткий адрес: https://sciup.org/149150084
IDR: 149150084 | DOI: 10.54770/20729316-2025-4-105
Текст научной статьи Марциаловский «след» в поэтическом наследии А.С. Пушкина
Martial; A.S. Pushkin; epigrammar; literary influence; reception; motif of the poet and the Muse.
Любовь А.С. Пушкина к поэзии Марциала является неким общим местом отечественной пушкинистики, и обычно об отношении великого русского поэта к древнеримскому автору упоминается в порядке валидации творчества последнего. Так, В.С. Дуров в предисловии к изданию стихотворений Марциала отмечает, что «“Кипящий Марциал, дурачеств римских бич” (по определению поэта П.А. Вяземского) вызывал живейший интерес у А.С. Пушкина» [Дуров 1994, 14]. Помимо этого, сохранилось свидетельство о посещении Пушкиным переводчика Марциала С.С. Мальцева (Мальцова), которому Пушкин помог с переводом: «Сергею Сергеевичу Мальцеву, отлично знавшему по-латыни, Пушкин стал объяснять Марциала. Тот не мог надивиться верности и меткости его замечаний. Красоты Марциала ему были понятнее, чем Мальцеву, изучавшему поэта» [Бартенев 1925, 39]. Указанное событие относится к 26 августа 1833 г. [Орлов, Луговая].
Любовь Пушкина к Марциалу не имеет доказательной базы, кроме указанной истории о посещении переводчика Мальцева: Пушкин не упоминает о Марциале в письмах и стихах, не переводит его эпиграмм, и, если следовать версии Т.Г. Зенгера [Зенгер 1935, 22], в принципе знаком с ним только по французскому подстрочному переводу.
Тем не менее в творчестве Пушкина прослеживается отчетливый «марциаловский след», который проецируется на две сферы: непосредственно на пушкинскую эпиграмматику и стратегию взаимодействия поэта и его Музы. Трактовка этого мотива в стихах периода «Болдинской осени» свидетельствует о знакомстве Пушкина с программным текстом Марциала «Rumpitur invidia» («Лопается от зависти»), причем в оригинальном варианте.
Марциал считается «патриархом эпиграмматистов» и главным мастером этого жанра в античности. Он написал свыше 1500 эпиграмм, сгруппированных в 15 книг [Марциал 1968, 7]. В его творчестве жанр эпиграммы получил завершенное оформление и разнообразие тематики и формы.
Марциал не только утвердил сатирическую направленность эпиграммы, но и придал жанру характерные художественные черты. В творчестве Марциала окончательно закрепилось правило: эпиграмма должна содержать неожиданное смысловое завершение, переворачивающее первоначальный смысл. Именно эту модель эпиграммы – лаконичной, ироничной и с неожиданной концовкой – унаследовала европейская литература последующих эпох.
Так, например, в эпиграмме IV, 41:
Вслух собираясь читать, ты что ж себе кутаешь горло? Вата годится твоя больше для наших ушей!
[Марциал 1968, 124]
В первой строке этого двустишия некий персонаж укутывает горло, собираясь читать вслух стихи – тем самым создается ожидание , что он заботится о своем голосе. Однако во второй строке пуант резко меняет перспективу: оказывается, что ватой следовало бы заткнуть уши слушателям, что намекает на дурной голос или низкое качество стихотворений. Подобная неожиданная развязка заставляет читателя пересмотреть смысл первого утверждения и понять его в новом, комическом свете. Таким образом, двухчастная эпиграмма Марциала строится на антитезе между благопристойной видимостью и истинной сущностью явления и задействует комический эффект обманутого ожидания.
То же наблюдаем в эпиграмме Марциала XI, 62 [Марциал 1968, 331], где высмеивается корыстная куртизанка по имени Лесбия, причем в концовке выясняется противоположное тому, что можно было подумать сначала. Завязка здесь – клятва Лесбии в своей меркантильности (будто бы никто не получал ее ласки бесплатно). Но развязка-парадокс открывает истинное положение дел: Лесбия не берет плату, потому что сама платит мужчинам (намек на то, что она настолько неприглядна, что вынуждена сама покупать любовь). Подобные парадоксальные развязки – фирменный прием Марциала, соединяющий остроумие с сатирическим обличением.
Нередко эпиграммы Марциала весьма резки по тону – в них присутствует и тонкая ирония, и открытая сатира, и грубый сарказм. Диапазон модальностей широкий: от игриво-шутливого до зло-насмешливого. Поэт добивается того, что грубые слова и смелые эротические детали служат юмористическому эффекту, а не грубой похабности. Марциал не боялся называть вещи своими именами и писать на темы, которые считались непристойными, откровенно ругая своих адресатов, если того требовала сатира. Он сам заявлял, что пишет не для цензоров, подобных Катону [Дуров 1994, 13], – то есть для публики, способной оценить смелый юмор, а не для ханжей-моралистов. Таким образом, эротика, скатология, обсценная лексика стали неотъемлемой частью поэтики Марциала, естественно вплетенной в ткань его сатиры.
В эпиграммах А.С. Пушкина отчетливо прослеживается преемственность марциаловской традиции. Можно выделить несколько ключевых аспектов этого влияния. Но прежде следует сделать важную оговорку.
Марциаловский эпиграмматический опыт изначально был воспринят Пушкиным от французских классицистов, которые упрочили и канонизировали марциаловскую стратегию репутационного воздействия [Кихней 2025, 91–93] и формальные принципы [Васильев 1998, 17-18]. Пушкину эта рецепция была хорошо знакома, не случайно он сам переводил французские эпиграммы в марциаловском духе, в частности, К. Маро, П. Пеллисона, Ж.-Б. Руссо [см.: Всемирная эпиграмма 1998, 470, 547, 635]. Однако наш анализ показывает, что Пушкин, помимо эпиграмматической «памяти жанра», использованной французскими литераторами XVII–XVIII вв., апеллировал непосредственно к римской традиции и непосредственно к Марциалу.
Первая значимая черта пушкинских эпиграмм – использование античных имен и образов. Одно из внешних проявлений влияния античной поэзии на пушкинскую эпиграмму – это введение античных имен, героев мифологии или исторических персонажей в текст эпиграмм. Подобно тому как Марциал часто адресовал свои эпиграммы персонажам с греческими или римскими именами (некоторые из них реальные, другие аллегорические), Пушкин нередко прибегал к античной образности, чтобы замаскировать или оттенить современный сюжет . Это рассчитано на просвещенную аудиторию, знакомую с античными образами, и позволяет прочесть сарказм в двух парадигмах: сиюминутной и вечной.
Характерный пример – эпиграмма на генерала Орлова и балерину Авдотью Истомину (1817). В этом коротком стихотворении Пушкин, описывая пикантную ситуацию, называет балерину Истомину именем прославленной греческой гетеры Лаисы:
Не думав милого обидеть, Взяла Лаиса микроскоп <…> [Пушкин 1994–1997, II (1), 35]
Этот прием одновременно придает эпиграмме классический флер и служит иронической характеристикой: балерина уподобляется легендарной куртизанке. Марциал тоже нередко «переименовывал» реальных лиц в своих эпиграммах, давая им говорящие античные имена. Пользуясь этим приемом, Пушкин демонстрирует знание традиции: античное имя становится маской, через которую современнику понятен намек.
Кроме того, античные параллели у Пушкина выполняют сатирическую функцию. Когда в эпиграмме «Полу-милорд, полу-купец…» [Пушкин 1994–1997, II (1), 284] он высмеивает графа Воронцова, то в самом выборе формулы «полу-… полу-…» можно усмотреть отзвук латинских насмешек (Марциал также обыгрывал противопоставление титулов и сущности). Использованная структура сравнения (наполовину тот, наполовину этот) восходит к риторическим приемам римской традиции. Таким образом, Пушкин унаследовал от древних умение говорить о современном, используя языково-образный код классики.
В целом, обилие культурных аллюзий на античность – примета пушкинских эпиграмм. Иногда они проявляются лишь в эпиграфе или намеке, но часто – прямо в тексте. Это роднит его сатиру с марциаловской, где римский быт постоянно переосмысляется через призму мифологии и истории. Для образованного пушкинского окружения такие намеки были понятны и добавляли остроумия. Можно сказать, Пушкин как эпиграмматист говорил с современниками на «двух языках» – современном и античном, продолжая традицию Марциала, писавшего для утонченной публики, знавшей мифы.
Кроме того, тематика пушкинских эпиграмм во многом перекликается с тематикой эпиграмм Марциала. Оба поэта черпают вдохновение в окружающей действительности, высмеивая человеческие слабости и недостатки. У Марциала мы находим сатиру на самые разные пороки: жадность, трусость, хвастовство, разврат, лицемерие, графоманство и т. д. Тот же спектр тем мы видим и у Пушкина, только применительно к реалиям его времени.
Например, в эпиграмме «На князя А.Н. Голицына» Пушкин саркастически бичует карьеризм и холопство министра просвещения:
Вот Хвостовой покровитель,
Вот холопская душа,
Просвещения губитель,
Покровитель Бантыша!
[Пушкин 1994–1997, II (1), 117]
Здесь в четырех строках сконцентрировано несколько пороков сразу: князь А.Н. Голицын выведен как враг просвещения, покровитель гомосексуалистов (а именно, В.Н. Бантыша-Каменского) и мистиков (а именно А.П. Хвостовой).
Марциал точно так же в своих эпиграммах мог одним коротким стихом заклеймить человека сразу по нескольким статьям – например, и глупец, и развратник, и невежда одновременно. В приведенных пушкинских строках чувствуется марциаловский дух язвительного портрета: субъект эпиграммы выставлен на всеобщее осмеяние с указанием и на его моральные пороки: лизоблюдство («холопская душа»), протекционизм («покровитель» недостойных личностей), и на его противоестественные наклонности.
Важный раздел эпиграмматики как у Марциала, так и у Пушкина – эпиграммы о литераторах, направленные против бездарных поэтов, плохих стихов, дурного вкуса. Марциал посвящал язвительные двустишия графоманам своего времени; Пушкин же прославился эпиграммами на графомана Д.И. Хвостова, чьи вирши были притчей во языцех.
Таким образом, темы пушкинских эпиграмм – пороки общества (лицемерие, чинопочитание, взяточничество, распущенность), смешные чудачества (глупости, странные привычки, курьезы), эстетические промахи (бездарность в поэзии, вульгарность вкуса) – почти полностью совпадают с тематическим спектром эпиграмм Марциала, только перенесенным на русский материал. Разумеется, есть и оригинальные мотивы, рожденные эпохой (например, политические намеки, эпиграммы на царя), но ядро остается марциаловским: эпиграмма – жанр, призванный обличать и высмеивать. В этом Пушкин выступает прямым наследником римского поэта.
В художественном исполнении пушкинские эпиграммы явно следуют классическим композиционным принципам, унаследованным от Марциала. Прежде всего, они почти всегда лаконичны – часто это четверостишия (катрены), реже двустишия или шестистишия. Такая краткость – сознательный выбор поэта, идущего в русле традиции.
Большинство эпиграмм Пушкина построено по принципу завязка + неожиданная развязка . В начальных строках задается ситуация или характеристика, а последняя строка содержит остроумный пуант, меняющий или резко обобщающий смысл. Например, в уже упомянутой эпиграмме Пушкина на графа М.С. Воронцова [Пушкин 1994–1997, II (1), 284] градация «полу-… полу-…» создает комический эффект неполноценности персонажа. Однако решающий удар наносит последняя строка, которая внезапно отменяет правило «наполовину» и заявляет, что есть надежда увидеть его полным – очевидно, полным подлецом. Это и есть неожиданная развязка-парадокс: вместо очередного «полу-» – обещание целостности, причем в самом негативном качестве. Эпиграмма мгновенно «схлопывается» в едкий итог, заставляя читателя пересмотреть предыдущие полу-комплименты как чистую иронию. Данная композиция совершенно марциаловская: сравним, например, прием Марциала с противопоставлением внешнего кажущегося и скрытой сути. Пушкин своей четверостишием буквально реализует рецепт, который Дуров формулировал для эпиграмм Марциала: «При двухчастной структуре комический эффект достигается смысловой антитезой двух предложений: в первом – содержится описание, во втором – заключение, но не само собой разумеющееся, а имеющее, вопреки ожиданию, неожиданное разрешение» [Дуров 1994, 11]. Мы видим, что пуант у Пушкина – столь же необходимый элемент эпиграммы, как и у римского мастера.
Пушкинские эпиграммы по стилю изобилуют приемами антитезы, контраста, парадокса – что опять-таки роднит их с марциаловскими. В приведенном примере с «полу-милордом» весь прием построен на антитезах (милорд vs купец, мудрец vs невежда). Подобно этому, многие эпиграммы строятся на противопоставлении: например, эпиграмма «Краев чужих неопытный любитель…» противопоставляет ненависть к родине и примирение с ней , благодаря одной детали:
Отечество почти я ненавидел – Но я вчера Голицына увидел И примирен с отечеством моим. [Пушкин 1994–1997, II (1), 41]
Здесь иронический парадокс: увидев жалкого министра (Голицына), лирический герой вдруг перестает ненавидеть свою родину – по сути, потому что понял, что бывают куда более достойные объекты ненависти. Этот неожиданный поворот и составляет остроумие эпиграммы. Композиционно она двухчастна: до тире – тезис (ненависть к отчизне), после тире – антитезис (примирение, но вызванное комичной причиной). Такой парадоксальный вывод типичен и для эпиграмм Марциала, высмеивавшего нелогичность жизни через подобные перевертыши.
Как и Марциал, Пушкин пишет эпиграммы предельно емким, четким языком. Слова отбираются самые простые и точные; нередко используется разговорная лексика или меткое народное словцо для усиления эффекта. Пушкин умел вложить в одно короткое слово целую характеристику. Игра слов заменяет длинное пояснение.
Стиль пушкинских эпиграмм колеблется между легкой иронией и злым сарказмом, в зависимости от объекта насмешки. Эта модальность также восходит к Марциалу, у которого одни эпиграммы шуточно-игривые, а другие предельно язвительны. У Пушкина, к примеру, есть легкие шутливые эпиграммы на друзей (мягкая ирония без обиды), а есть беспощадные на врагов. Но даже самые острые из них, благодаря блестящей форме, воспринимаются как остроумная насмешка, а не прямое оскорбление. Современники вспоминали, что Пушкин мог уничтожить человека одной меткой строкой – в этом он весь Марциал. При этом его сарказм нередко прикрыт формальной вежливостью. Например, обращение «милый друг» в эпиграмме часто означает противоположное – скрытую издевку. Такой прием ложной похвалы тоже встречается у Марциала.
В итоге по композиционно-стилистическим параметрам – краткости, двучленному построению, антитетичности, парадоксальности и обязательному пуанту – эпиграммы Пушкина выглядят прямым продолжением модели Марциала, лишь адаптированной к стихотворному языку XIX в. Можно утверждать, что Пушкин виртуозно перенял технику классической эпиграммы : недаром его лучшие эпиграмматические экспромты вошли в сокровищницу русского афористического слова наравне с античными.
Вместе с тем Пушкин развил жанр дальше: его эпиграммы приобрели острейшую злободневную направленность, превратившись в средство общественного и политического высказывания. Он не побоялся привнести в эпиграмму русский колорит, назвать конкретные имена современников, включая высокопоставленных, и даже использовать крепкое народное словцо – и все это сочеталось у него с истинно марциаловским блеском и изяществом формы. Можно сказать, что Пушкин обновил эпиграмму, но сделал это «в свете» традиции Марциала , оставаясь верным духу жанра.
***
Помимо эпиграмматики, Марциал оказал значительное влияние на ключевые мотивы творчества А.С. Пушкина 1830-х гг. Представляется, что именно в период 1-й «Болдинской осени» в 1830 г., во время самостоятельного изучения латинского языка [Зенгер 1935, 22], Пушкин знакомится с одним из важнейших текстов Марциала в оригинале и перенимает из него один из ключевых мотивов. Речь идет о знаменитой эпиграмме «Rumpitur invidia» (97 эпиграмма из IX книги стихов) [Марциал 1968, 276]. Следует отметить, что текст этой эпиграммы достаточно прост в грамматическом отношении, в связи с чем он традиционно изучается на ранних этапах знакомства с латинским языком.
Эпиграмма построена по принципу рондо: в каждом двустишии первые и последние слова «rumpitur invidia» («лопается от зависти»), между которыми Марциал раскрывает сам предмет зависти.
Ключевое словосочетание эпиграммы стоит в форме пассивного залога настоящего времени индикатива: некий неназванный недоброжелатель («quidam» – «некто, кто-то, кто-нибудь» [Дворецкий 1996, 644]) «лопается» от зависти. Автор использует глагол «rumpere», означающий, в соответствии со словарем И.Х. Дворецкого, «рвать, разрывать, разрубать, разрезать» [Дворецкий 1996, 677] и пр., в русском переводе Марциала традиционно передающийся как «лопаться» в силу наличия устойчивой метафоры – «лопнуть от зависти».
Марциал, повторяя выражение «rumpitur invidia» в начале и в конце каждого двустишия, обозначает в середине строк следующие позиции, которые вызывают зависть недоброжелателя (перевод наш – Л.К., Ю.Ш. ):
|
me Roma legit |
«меня читает Рим» |
|
turba semper in omni / Monstramur digito |
«во всякой толпе на нас указывают пальцем» (использована пассивная форма настоящего времени изъявительного наклонения, в первом лице множественного числа – «мы есть указываемы») |
|
tribuit quod Caesar uterque / Ius mihi natorum |
«наделили меня оба Цезаря правом рождения (троих детей – Л.К., Ю.Ш.)»1 |
|
rus mihi dulce sub urbe est / Parvaque in urbe domus |
«у меня есть милый дом в деревне и небольшой дом в городе» |
|
sum iucundus amicis, / Quod conviva frequens |
«я веселюсь со своими друзьями и часто являюсь гостем» |
|
amamur quodque probamur |
«мы любимы и одобряемы» (автор снова прибегает к первому лицу именно множественного числа) |
1«Ius mihi natorum» – это дарованное императорами Титом (ум. в 81 г.) и здравствующим Домицианом (время правления: 81–96 гг.) право рождения троих детей, которое давало юридические и социальные привилегии некоторым гражданам. В контексте 90-х годов I в., когда писалась IX книга эпиграмм, упоминание совместного «мнения» «обоих Цезарей» – высший авторитет.
Интересным представляется тот факт, что во втором и в последнем двустишии Марциал употребляет форму пассивного залога первого лица множественного числа – «monstramur», «amamur» и «probamur», имея в виду не себя одного, но себя вместе с кем-то еще. В остальных случаях он использует местоимения первого лица единственного числа «me» «меня», «mihi» «мне» и глагол «быть» также в форме первого лица единственного числа «sum». Все четыре переводчика текста этой эпиграммы на русский язык идентифицировали множественное число как единственное, что привело к своеобразной унификации текста и элиминации импликатуры оригинального текста:
…пальцем из каждой / Кажут толпы на меня… / что любим, что мне рукоплещут (перевод А.А. Фета);
…во всякой толпе постоянно / Пальцами кажут меня … / и любят и хвалят поэта (перевод Н.А. Шатерникова);
…во всякой толпе непременно / Пальцем укажут меня… / что и любят меня, да и хвалят... (перевод Ф.А. Петровского);
…во всякой толпе непременно / пальцем покажут меня… / читают и любят поэта... (перевод Г.М. Севера)
[Марциал. Переводы и материалы].
Все тексты нивелируют грамматическое несовпадение: поэт говорит только о себе («меня любят… меня хвалят… меня укажут», «любят / хвалят поэта», «мне рукоплещут»). Между тем у Марциала присутствует отчетливое грамматическое разграничение: в тех строках, где он говорит о себе как о предмете зависти, активный залог сопровождается единственным числом, пассивный – множественным.
Форма на «мы» в данном случае вряд ли может быть считана как «мы» в инклюзивном смысле. М.А. Даниэль указывает на разграничение двух различных «мы» в ряде языков: «такое ‘мы’, которое включает адресата (‘мы’-инклюзивное) и такое ‘мы’, которое исключает адресата (‘мы’-эксклюзивное)» [Даниэль 2002]. «Мы» в инклюзивном смысле формально должно предполагать «я + мой адресат» (в контексте стихотворения – Юлий, друг поэта, «старый военный трибун, принимавший участие в конфликте Гальбы с Отоном» [Марциал. Переводы и материалы]), в эксклюзивном – «я + кто-либо еще» (не адресат). Формально в тексте адресатом обозначен Юлий, фактически эпиграмма адресована всем читателям Марциала, к которым не может относиться мысль «на нас показывают пальцем» и «нас любят и одобряют». В связи с этим разумным представляется предположение, что «мы» использовано в эксклюзивном смысле – поэт имеет в виду себя и кого-то еще.
В выяснении вопроса, кто именно объединен с поэтом в «мы», к которым отнесены глаголы пассивного залога, следует отметить тот факт, что один из переводчиков текста «Rumpitur invidia», Г.М. Север, возводит текст эпиграммы к горацианской традиции, находя в нем прямые заимствования из знаменитой оды к Мельпомене («Памятника»), а также к другим произведениям, в которых Гораций обращается к той же Музе. Так, в оде III, книга од IV, Гораций пишет, обращаясь к Мельпомене:
totum muneris hoc tui est, quod monstror digito praetereuntium [Horatuis]
«Только твоя в том вина, / что на меня показывают пальцами прохожие» (перевод наш. – Л.К., Ю.Ш. ).
В знаменитом же «Памятнике», обращаясь к Музе, Гораций говорит:
sume superbiam quaesitam meritis et mihi Delphica lauro cinge volens, Melpomene, comam [Horatuis]
О, Мельпомена, свей
Заслуге гордой в честь сама венец дельфийский И лавром увенчай руно моих кудрей.
(перевод А.А. Фета) [Гораций 1970, 412]
У Марциала в эпиграммах также присутствует обращение к Музе – так, текст эпиграммы III из книги VIII представляет собой диалог с музой:
Quinque satis fuerant: nam sex septemve libelli Est nimium: quid adhuc ludere, Musa, iuvat? [Марциал. Переводы и материалы]
Пять книг довольно бы было; шесть или семь – это слишком; все еще, Муза, шутить разве приятно тебе?
(перевод В. Каплинского) [Каплинский 1915, 43]
Паттерн «диалога с Музой», а также соседство мотива «показывания пальцем» с образом Музы у Горация позволяет предположить, что в «Rumpitur invidia» в пассивную форму первого лица множественного числа поэт вкладывает идею «я и моя муза»: это на них вместе показывают пальцем, их одобряют и любят. В этом случае вполне объяснимо, что материальные блага (дом в городе и дом в деревне, право отца семейства, друзья и возможность ходить к ним в гости) принадлежат именно самому поэту, а нематериальные – узнаваемость, любовь и одобрение – поэту вместе с музой. «Читает» Рим именно самого Марциала, то есть продукт его поэтического дара, а любовь и уважение толпы с ним разделяет муза. В предшествующей «Rumpitur invidia» по времени написания эпиграмме III из книги VIII Марциал прямо утверждает, что именно муза – виновница его поэтического вдохновения, именно она провоцирует его на написание беспрецедентного количества книг.
В издании 1842 г. “Toutes les epigrammes de Martial, en latin et en francais, dis-tribuées dans un nouvel ordre” (подзаголовок которого позволяет предположить, что это переиздание предыдущего текста, так как «эпиграммы расположены в новом порядке»), в переводе на французский «мы» нивелировано так же, как у отечественных переводчиков:
Переводчик считывает «мы» как «я»: «на меня везде и всегда указывают пальцем… меня одобряют и меня обожают» (перевод наш. – Л.К., Ю.Ш. ). С большой долей вероятности можно утверждать, что Пушкину мог быть доступен тот же самый перевод, но в более раннем издании. Однако использование «мы эксклюзивного» в значении «я и моя муза» присутствует у Марциала именно в оригинальном тексте, и использование этого мотива может быть связано именно со знакомством Пушкина с оригинальным текстом. Следует отметить, что в классической латыни это не могло быть дешифровано в категориях «мы, Николай I», характерных для узуса XIX в.: латынь еще не знала использования множественного числа в функции единственного в вежливой и/или уважительной форме.
Т.Г. Зенгер, ссылаясь на слова Ксенофонта Полевого, критика и журналиста, упоминает о том, что Пушкин занимался латинским языком во время Болдинской осени, в 1830 г. Тогда же Пушкин пишет текст VIII главы «Евгения Онегина», один из мотивов которой, как представляется, непосредственно взят поэтом из Марциала и унаследован из корпуса эпиграмм римского поэта. Это мотив объединения себя и музы в «мы» в эксклюзивном смысле («мы с музой» в противопоставлении остальным):
И свет ее с улыбкой встретил;
Успех нас первый окрылил;
Старик Державин нас заметил И в гроб сходя, благословил. [Пушкин 1994–1997, VI, 165]
В первой строфе А.С. Пушкин разделяет себя и музу: она является поэту, она открывает ему «пир младых затей» и пр. Описывая важный в становлении поэта момент – экзамен в Царском Селе, на котором присутствовал Г.Р. Державин, А.С. Пушкин употребляет слово «нас», имея в виду себя и свою музу, упомянутую в первой строфе.
Далее вплоть до VI строфы, в которой упомянут уже Евгений Онегин, Пушкин снова разделяет себя и свою музу:
Я музу резвую привел…
Она несла свои дары…
А я гордился меж друзей
Подругой ветреной моей…
Но я отстал от их союза
И вдаль бежал... Она за мной [Пушкин 1994–1997, VI, 166]
В черновых редакциях VIII главы, созданных именно в 1830 г., строка «Старик Державин нас заметил» присутствует в неизменном виде, есть вариации предшествующей строки – «а. Успех нас окрылил / б. Нас первый окрылил успех» [Пушкин 1994–1997, VI, 621], в которых также имеется местоимение «мы».
В первоначальном варианте строфа II главы VIII располагалась в начале IX главы и имела продолжение: «И Дмитрев не был наш хулитель <…> / Скрижаль оставя, нам внимал» [Пушкин 1994–1997, VI, 621].
Паттерн описания музы через «мы»-эксклюзивное продолжается – «наш хулитель», «нам внимал». О.Ю. Шокина отмечает: «…он как бы прячется за маской Музы, выдвигая творческую часть своей личности на первый план, о чем свидетельствует переработка текста восьмой главы в сторону усложнения» [Шокина 2000, 188].
Среди произведений, написанных в период «болдинской осени», также есть «маленькая трагедия» «Моцарт и Сальери», в черновиках поэта носившая название «Зависть». В монологе, открывающем текст трагедии, Сальери прямо признается в том, что завидует Моцарту:
А ныне – сам скажу – я ныне
Завистник. Я завидую; глубоко,
Мучительно завидую.
[Пушкин 1994–1997, VII, 124]
Предметом зависти становится не только исключительная гениальность Моцарта, но и его узнаваемость. Моцарт демонстрирует Сальери, как слепой старик-скрипач исполняет его произведения в трактире, что свидетельствует о народной славе, любви к Моцарту толпы, о которой и говорил Марциал. Ранее Пушкин практически не обращался к теме зависти, только в стихотворном послании «Дельвигу» 1817 г. он указывает, что является объектом зависти:
Как рано зависти привлек я взор кровавый
И злобной клеветы невидимый кинжал!
[Пушкин 1994–1997, II (1), 25]
Тема зависти в «Моцарте и Сальери» неразрывно связана с темой узнаваемости, народной любви («monstramur digito»). Любопытно, что и в свою версию «Памятника», созданную после версии Г.Р. Державина, Пушкин вносит мысль, которая отсутствует в оригинальном тексте Горация: «<…> не зарастет к нему народная тропа». В оригинальном тексте Гораций говорит лишь о крепости памятника и его долговечности, Державин в первой строфе практически дословно переводит Горация:
Я памятник себе воздвиг чудесный, вечный,
Металлов тверже он и выше пирамид;
Ни вихрь его, ни гром не сломит быстротечный, И времени полет его не сокрушит.
[Державин 1984, 123]
Новации относительно себя как поэта Державин начинает вносить со второй строфы, а Пушкин – с первой: отсылая к «Александрийскому столпу» вместо пирамид, далее он упоминает о «народной тропе». В этом сквозь канву Горация проглядывает отсылка к «коду Марциала» и мотиву народной любви к поэту.
Подводя итоги «марциаловского следа» в текстах Пушкина, следует отметить, что тематика поэта и его музы воспринималась Пушкиным, безусловно, в горацианском ключе, но элемент слияния музы и поэта в единое «мы» – это, несомненно, марциаловская краска. Развивая мысль о популярности поэта и его востребованности в обществе, впервые высказанную Горацием, Марциал имплицитно указывает на неразрывное соединение поэта с музой в области творчества и разъединение в области материальных благ и социального статуса.
Ознакомившись с наследием Марциала, А.С. Пушкин усвоил и творчески интерпретировал его композицию эпиграмм и сатирические приемы, использование оптики античности, через которую рассматриваются пороки современников. Помимо этого, один из значимых текстов Марциала повлиял на трактовку важнейшего для творческого наследия Пушкина мотива поэта и его музы.