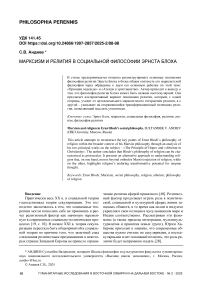Марксизм и религия в социальной философии Эрнста Блоха
Автор: Андиев С.В.
Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv
Рубрика: Philosophia perennis
Статья в выпуске: 2 (72), 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье предпринимается попытка реконструировать основные положения философии религии Эрнста Блоха в более общем контексте его марксистской философии через обращение к двум его основным работам по этой теме: «Принцип надежды» и «Атеизм в христианстве». Автор приходит к выводу о том, что философия религии Блоха может быть названа постсекулярной. Она предлагает альтернативный вариант понимания религии, который, с одной стороны, уходит от ортодоксального марксистского отторжения религии, а с другой – указывает на сохраняющийся трансформационный потенциал религии, позволяющий мыслить утопически.
Эрнст Блох, марксизм, социальная философия, религия, атеизм, философия религии
Короткий адрес: https://sciup.org/170209479
IDR: 170209479 | УДК: 141.45 | DOI: 10.24866/1997-2857/2025-2/88-98
Текст научной статьи Марксизм и религия в социальной философии Эрнста Блоха
Практически весь ХХ в. в социальной теории господствовала теория секуляризации. Это господство заключалось в том, что социальные теоретики могли позволить себе не принимать в расчет религиозный фактор как значимую переменную в современных социально-политических процессах [19, c. 10]. В начале XXI в. теория секуляризации перестала быть общепринятой в социальной теории по причине того, что заметный спад следования религиозным предписаниям в некоторых странах Западной Европы не привел к ограни- чению религии сферой приватного [40]. Религиозный фактор продолжает играть роль в политической, социальной и культурной сферах жизни западных обществ, в то время как ислам и индуизм укрепляют свои позиции в мусульманском мире и Индии соответственно. Рассматривая эти феномены (а также пределы интеграции, мультикультурализма и принятия новых групп), Юрген Хабермас приходит к мнению, что современные общества нужно считать не секулярными, а постсекулярными и нет оснований полагать, что роль религии будет непременно падать [28].
Социальная теория марксизма практически с момента зарождения и в течение долгого времени находилась на острие процесса секуляризации. Логично было бы ожидать, что среди марксистов теория секуляризации в ее классическом изводе должна была найти своих самых рьяных сторонников и защитников. Но вместо этого в последние десятилетия мы обнаруживаем, что такие значительные (пост)марксист-ские теоретики, как Ален Бадью, Славой Жижек и Терри Иглтон обращаются к христианскому учению и реактуализируют его [29]. Они защищают его как от нападок со стороны «новых атеистов», так и от присвоения со стороны ультраправых фундаменталистов в США и Европе. Однако было бы неправильным считать, что обращение марксистов к религии – лишь следствие общего разворота общества в эту сторону, произошедшего в последние десятилетия. Уже в XX в. марксисты, среди которых – Эрнст Блох (1885–1977), предпринимали попытки пересмотреть стандартный марксистcкий секулярно-атеистический взгляд на природу религии.
Цель данной статьи – реконструировать основные положения философии религии Эрнста Блоха в более общем контексте его марксистской философии через обращение к двум его основным работам по этой теме: «Принцип надежды» и «Атеизм в христианстве». Для достижения этой цели в первой части статьи мы кратко охарактеризуем общий контекст классической марксисткой трактовки религии, чтобы лучше понять, насколько важным оказалось введение религии Блохом в неомарксизм. После этого мы непосредственно реконструируем отношение Блоха к религии, а также укажем на взаимосвязь религии и утопии в его философии. Затем будет показано, как Блох видит проявление атеизма в религии на примере его интерпретации иудео-христианской религии посредством Библии.
Количество исследовательской литературы по философии Э. Блоха в России нельзя считать большим. Некоторые авторы косвенно затрагивают философию религии Блоха, но в целом этот пласт рецепции можно назвать, скорее, компаративистским и направленным на сопоставление Блоха с христианскими богословами или же другими современными философами, которые высказывались на тему религии. Далеко не все работы Блоха переведены даже на английский. На русском доступен малый фрагмент из «Принципа надежды» в антологии «Утопия и утопическое мышление» [5] и курс лекций «Тюбингемское введение в философию» [6]. За последние несколько лет профессором С.Е. Вершининым были переведены и прокомментированы фрагменты из сборника социально-философских статей «Наследство нашего времени» [3; 4; 9; 10] и отрывок предисловия «Принципа надежды» [7; 11], что расширило круг доступных текстов и снабдило их историко-философским контекстом, однако такие работы, как «Атеизм в христианстве» и бо́льшая часть «Принципа надежды» все еще не переведены.
Маркс и Энгельс о религии
Из тандема основателей марксизма гораздо больше внимания исследованию религии уделил Фридрих Энгельс. Тем не менее определенная религиозная проблематика прослеживается и в наследии Карла Маркса, начиная с самого раннего периода его творчества1. Это вызвано как связью Маркса с младогегельянцам, которым был присущ критический взгляд на религию, так и с общественно-политическими событиям внутри Пруссии того времени. Статья Маркса в «Rheinische Zeitung» в 1842 г. стала его первым серьезным заявлением, касающимся роли религии в современном обществе. В своей публикации Маркс защищал свободу печати (а точнее – свободу обсуждения вопроса религии) от цензуры и подчеркивал светский и рациональный характер современного государства, которое в своей деятельности должно было ориентироваться не на религиозные предписания (которые являются чем-то внешним по отношению к государству), а на выведенные из собственной природы законы и правила. Это становится возможным благодаря философии, которая, по мысли Маркса, освобождает политику от теологии и тем самым производит научный переворот, подобный переворотам в физике, математике, медицине или любой другой науке, становясь впервые «плодотворной» областью деятельности людей.
В истории философии общеизвестно скорое признание Марксом недостаточности критики религии как способа изменения мира. В своем письме от 30 ноября 1842 г. Арнольду Руге относительно политики публикаций в «Rheinische Zeitung» Маркс сообщает о требовании, которое он предъявляет для новых публикаций в газете: «Я выдвинул, далее, требование, чтобы религию критиковали больше в связи с критикой политических порядков, чем политические порядки – в связи с религией, ибо это более соответствует основным задачам газеты и уровню читающей публики; ведь религия сама по себе лишена содержания, ее истоки находятся не на небе, а на земле, и с уничтожением той извращенной реальности, теорией которой она является, она гибнет сама собой» [17, c. 252]. В этом заявлении Маркс порывает с более старой просвещенческой позицией отношения к религии как простому заблуждению или незнанию, которое проходит после «просвещения», и видит в самом существовании религии результат противоречий и искажений внутри общества. С устранением этого «извращения» на земле религия отпадет сама собой [41, p. 8].
Как уже было сказано, Фридрих Энгельс уделял религии значительно больше внимания. Это нашло выражении в т.ч. в серии работ Энгельса, посвященных древнему христианству и религиозным движениям Средних веков. Как отмечает марксистский философ и социолог Михаэль Леви, важнейшей заслугой Энгельса в этом отношении можно назвать изучение связи религии с классовой борьбой: Энгельс изучает классовую базу как раннего христианства, так и религиозных движений недавнего прошлого. Хотя иногда Энгельс и воспроизводит крайне утилитарное отношение к религии как к простому отражению классовых интересов определенных групп, в целом он все же указывает на двойственный характер религии как феномена, который способен как поддерживать существующий порядок вещей, так и стремиться изменить его. Именно вторая функция религии интересует Энгельса больше всего [32, p. 81].
В контексте цели нашего исследования важно сказать, что Энгельс является родоначальником одной из двух традиций понимания роли Томаса Мюнцера в Крестьянской войне 1524–1525 гг. в Германии. В то время как «официальная» церковная версия видела в Мюнцере главным образом воплощение Дьявола, который стремился к хаосу и разрушению [38, p. 340–341], Энгельс считал его протокоммунистическим революционером, выразившим интересы наиболее угнетенных групп населения своего времени. Забегая вперед, мы можем упомянуть и вклад Эрнста Блоха в марксистскую историографию Мюнцера. Блох утверждает, что у Мюнцера невозможно отделить политику от религии, нет радикализации вне христианской религии. Таким образом, религия для Мюнцера не была лишь ширмой для выражения классовых интересов крестьянских масс, и представить себе Мюнцера-революционера без Мюнцера-теолога не получится. Его политика была выражением его эсхатологии, и она указывает на утопический и революционный потенциал религии. Отсюда и название книги Блоха – «Томас Мюнцер как теолог революции» [38, p. 342].
Вопрос о роли религии в современности затрагивается Энгельсом в относящейся к раннему периоду его творчества работе «Положение рабочего класса в Англии» (1845), где он констатирует, что современные рабочие в большинстве своем безразличны к религии и клерикалы не пользуются среди них уважением. Таким образом, Энгельс не видит в современной ему (христианской) религии возможную прогрессивную силу. Это выражается и в его негативном отношении к попыткам некоторых коммунистов и социалистов соединить в своей пропаганде рабочее движение с первоначальным христианством. Энгельс указывает на ошибочность и запоздалость таких попы- ток. Через несколько десятилетий, анализируя состояние коммунистического движения, Энгельс с радостью отметил его «нерелигиозный» характер и посчитал, что нет никакого смысла в позиционировании его как атеистического, т.к. в своем практическом сознании рабочие уже закрыли вопросы о Боге. Но при этом, когда Энгельсу все же приходилось писать о современных религиозных движениях, он не мог не отметить некоторый революционный потенциал их риторики и действий.
При этом история религиозных учений и практик оставалось предметом изучения среди марксистов, что ярче всего выразилось в таких работах теоретика немецкой социал-демократии Карла Ка- утского, как «Предшественники новейшего социализма» (1895), «Происхождения христианства» (1908) и «Античный мир, иудейство и христианство» (1908). Вызвано это было не столько непосредственным интересом к самой теме религии, сколько продолжающей борьбой с религиозными версиями социализма, которые все еще имели хождение среди рабочего класса [20, с. 9–10].
Таким образом, к моменту начала Первой мировой войны и разложения Второго Интернационала марксистская теория религии оформилась в своем ортодоксальном виде.
Эрнст Блох: религия и утопия
Первая мировая война, раскол социалистического движения и Октябрьская революция в России оказали огромное влияние на зарождение такого философского направления, как западный марксизм. Если придерживаться нарратива об истории западного марксизма, который предлагает британский историк Перри Андерсон, то необходимо выделить два поколение внутри этого направления: те, чье интеллектуальное формирование как марксистов пришлось непосредственно на время Первой мировой войны и Октябрьской революции, и тех, кто пришел к марксизму уже во время подъема фашизма и последующей Второй мировой войны [1, с. 49–51]. Андерсон не упоминает в своей работе Э. Блоха, но биография последнего позволяет отнести его к первому поколению западных марксистов. Если до войны Блох тяготел к неокантианству, то еще довоенное увлечение экспрессионизмом, радикальная пацифистская позиция во время войны и поддержка социалистических революций в Европе привела Блоха к марксистской самоидентификации, которая осталось с ним до конца жизни2.
В последнее время отмечается возрастающий интерес к фигуре Эрнста Блоха [27]. Михаэль Леви в своем кратком очерке о взаимоотношениях религии и марксизма указывает именно на Блоха как на первого среди неомарксистов, кто совершил кардинальную смену взглядов на религию, при этом не отбросив революционный запал и философское наследие марксизма [33]. Если говорить об осмыслении проблем теологии и философии религии, то Блох, возможно, представляет собой самого авторитетного из марксистов в этом направлении мысли, который оказал влияние как на немецкоязычных протестантских и католических теологов в 1960-е гг., так и на теологию освобождения в Латинской Америке [30, p. 192]3.
В рамках данной статьи нас интересует пересечение идеи утопии Блоха с религией. Утопия играет ключевую роль в философии Блоха, и именно он вводит утопию в западный марксизм как концепт, который получает развитие у целого ряда авторов (см.: [18]). Стоит отметить, что вопрос религии и ее взаимоотношений с утопией заботил Блоха практически с самого начала его философского пути: в своей первой книге «Дух утопии» (1918) он поднимает тему утопического в религии, а его вторая книга «Томас Мюнцер: теолог революции» (1924), уже упоминавшаяся выше, полностью посвящена этому вопросу. Как было сказано, Томас Мюнцер представлял собой важную фигуру в работах Энгельса. Энгельс часто рассматривал религиозный язык как метод скрытого выражения определенных классовых интересов. Блох не отрицал связь религии с классовым конфликтом, но религия у него обретала большую автономность, чем допускал классический марксизм. Согласно его видению, религия, возможно, первая в истории человечества, открыла доступ в Еще-Не (Noch-Nicht), дала человеку горизонт ожидания, фактически став первым утопическим импульсом человеческого мышления. Следует подробнее остановиться на содержании некоторых понятий, связанных с онтологией и антропологией Блоха.
Еще-Не – одна из центральных категорий в философии Блоха, которая заключается в признании того, что наш мир не представляет из себя нечто завершенное и навсегда данное. В нем имеют место динамические изменения, которые касаются как материи, так и самого человека [30, p. 89–90]. Такой взгляд на мир как на нечто незавершенное, обладающее возможностью реализовывать сокрытые в нем потенциальности находит отражение в человеческом сознании как Еще-Не-Осознанное (Noch-Nicht-Bewusste). Еще-Не-Осознанное выражается в предсознанательном как то, что может при определенных условиях стать полностью осознанным самим индивидом. Ярким выразителем Еще-Не-Осо-занного, по Блоху, являются наши дневные мечтания. Конечно, не все дневные мечтания одинаковы, и часть из них не выйдет за пределы головы мечтателя, но все они при этом обусловлены главным образом надеждой на лучший мир. Блох сознательно противопоставляет концепт Еще-Не-Осознанного бессознательному у Фрейда и Юнга. Блох считает, что концепт бессознательного обречен на то, чтобы смотреть только назад, искать в прошлом причину неврозов индивида, избегать войти в сферу сознания (через репрессию) и не нести в себе ничего, что можно было бы назвать действительно новым (отсюда другое название для фрейдовского бессознательного – Уже-Не-Осознанное). Случай Юнга для Блоха еще более скандален и показателен, т.к. бес- сознательное Юнга основано на вечных, доисторических архетипах, что полностью ликвидирует хоть какой-либо горизонт ожидания и изменения (за это Блох удостаивает Юнга звания «фашистского психоаналитика»). Если выразителями Еще-Не-Осознанного все-таки являются дневные мечтания, которым мы предаемся добровольно, то бессознательное находит свое выражение в ночных снах, которые находятся вне нашего контроля и во многом являются ответом на невроз или травму.
Более позитивное по сравнению с основателями марксизма отношение Блоха к религии трудно вывести непосредственно из текстов самих Маркса и Энгельса. Поэтому можно считать истинным источником представлений Блоха о религии современника раннего Маркса, который оказал на него большое влияние, младогегельянца Людвига Фейербаха и, в частности, его «Сущность христианства» [25, p. 591]. Magnum opus Фейербаха делится на две части, каждая из которых формирует собственный нарратив о религии: антропологический (или истинный) смысл религии и теологический (или ложный) смысл религии. Традиционно большее внимание в этом делении уделялось критическому аспекту философии религии Фейербаха (именно этот аспект развивает в дальнейшем Маркс), т.е. подчеркивалась теологическая сущность религии. Однако если рассматривать обе части книги, то картина выглядит куда более амбивалентной.
Фейербах рассматривает религию как способ говорения человека о самом себе. В этом отношении Бог человека никогда не превосходит уровень развития самого человека, отражением которого он и является. Человек придумывает Бога, но не знает об этом, и поэтому совершает инверсию, в которой творение становится творцом. В этой инверсии творца и творения проявляет себя теологический аспект религии: человек ищет ответы и решения у Бога, а не в реальном мире, тем самым все больше опустошая свой мир в угоду миру божественному. Данный концепт религиозного сознания оказал большое влияние на Маркса, который затем применил ту же самую инверсию к идеологическому сознанию, для которого сознание религиозное выступает как первое его приложение.
После прихода нацистов к власти в Германии в 1933 г. Блоха объявляют в розыск, и он с женой вынужден покинуть страну. В 1938 г., после серии переездов между европейскими странами, они эмигрируют в США, где принимается за написание «Принципа надежды». Невладение Блоха английским языком и отказ директора Института социальных исследований (располагался в США с 1935 до начала 1950-х гг.) Макса Хоркхаймера взять его на работу по причине «слишком коммунистических» взглядов ограничили его круг общения немецкоязычными эмигрантам. В 1949 г. Блох получает предложение возглавить факультет философии Лейпцигского университета в ГДР. Он принимает это предложение и покидает США. Появление Блоха в Лейпциге было принято холодно как консервативной профессурой, которая доминировала в университете еще со временем нацизма, так и новым коммунистическим поколением немецких академиков, которые придерживались официальной партийной трактовки марксизма. Тем не менее какое-то время это не мешало Блоху плодотворно заниматься преподаванием и публикацией своих работ.
Однако после серии критических высказываний Блоха в адрес правящей в ГДР Социалистической единой партии Германии по поводу подавления гражданских протестов в 1953 г. и отказа от демократических реформ внутри страны после развенчания культа личности Сталина на XX съезде КПСС в 1956 г. сам Блох попадает в опалу и лишается в 1957 г. практически всех своих должностей, выпадая из общественной жизни ГДР. Также параллельно с этим в философских кругах разворачивается кампания по критике его философии как «иде-алистической»4. Правда, прямого запрета на публикацию работ Блоха не последовало, и он также мог продолжать путешествовать за пределы ГДР. В августе 1961 г. Блох с женой и сыном был на отдыхе в Баварии. Узнав о начале строительства Берлинской стены, Блох принял решение не возвращаться назад (подробнее об этом см.: [24]).
После переезда в 1961 г. в ФРГ и получения профессорской должности в Тюбингенском университете Блох вступает в дискуссию с теологами Юргеном Мольтманном и Иоганнам Мецем. Эта дискуссия послужила толчком к распространению его идей в теологической среде, и уже к концу 1960-х гг. выходит в свет целый ряд работ, написанных как непосредственными участниками этой дискуссии, так и теологами из других стран [35, p. 28]. При этом надо отметить, что свои основные (зрелые) положения о религии Блох высказал ранее, уже в третьем томе «Принципа надежды», опубликованном в конце 1950-х гг. Затем последовало раскрытие и развитие этих идей в книге «Атеизм в христианстве». Объем статьи не позволяет рассмотреть всю широту интересов Блоха в области религии (от роли метафоры змея в Библии и до религиозного движения немецких крестьян), поэтому мы сфокусируем внимание на тех элементах, которые наиболее полно отображают утопический дух религии и религиозного сознания, а также взаимосвязь религии и утопии в неомарксизме.
Блох отмечает, что в своем анализе религии Маркс идет дальше просвещенческой идеи религии как заговора и обмана церковников и указывает на объективные причины ее существования в виде классового общества и поддерживающей его идеологии [22, p. 48]. Блох также разбирает аналогию между опиумом и религией у Маркса (« Религиозное убожество есть в одно и то же время выражение действительного убожества и протест против этого действительного убожества. Религия – это вздох угнетенной твари, сердце бессердечного мира, подобно тому как она – дух бездушных порядков. Религия есть опиум народа» [16, с. 415]). Для Блоха ортодоксальная марксистская трактовка этого высказывания о религии только как реакционном и вредном дурмане, мешающем рабочему классу в его борьбе (именно так его понимает, например, В.И. Ленин [14, с. 416]), выглядит как упрощение природы религии. Это не только «вздох», но и «протест» против всего того, что угнетает человека. Блох считает «вульгарным» такой марксизм, который не учитывает это обстоятельство в своем анализе религии [22, p. 50]. Можно даже заключить, что религия – это вполне здоровая и нормальная область человеческой жизни и активность, которая будет существовать до тех пор, пока остается не до конца реализованным хоть какой-то утопический потенциал [30, p. 184]. Такой взгляд на религию является выражением другого важного общего принципа философии Блоха – критики гипостазирования. Гипо-стазирование как концепт у Блоха схож с овеществлением и представляет собой тенденцию рассматривать наши желания, взаимоотношения и нужды как нечто навсегда фиксированное и данное, выраженное в богах или вещах. Вместо этого Блох, сообразно принципу незавершенности мира, утверждает об изменчивости наших стремлений и надежд в процессе изменения условий существования. В обществе всегда будет оставаться утопический «избыток», нечто такое, что не может быть осуществлено в нынешнем состоянии мира. Именно подобный «избыток» должен не позволить обществу в какой-то момент решить, что конечная цель достигнута и дальнейшие изменения не несут в себе ничего нового [35, p. 45–46].
Блох рассматривает религию как первый выразитель утопических стремлений человечества. Именно эта характеристика позволила сыграть религии столь большую роль в культуре человечества. Блох исследует религиозный опыт во всех его проявлениях и географических рамках: от древнейших религий первых цивилизаций до еретических учений Средних веков. Тем не менее основным предметом его рассмотрения можно считать именно иудео-христианскую религию в целом, которую он, как и Фейербах, видит как «высшую» среди всех религий [21, p. 1201].
Прочтение Библии Блохом
Как было сказано, Эрнст Блох уходит от свойственной эпохе Просвещения критики религии как обмана. Однако это не означает, что сама по себе религия не имеет в т.ч. и угнетающей стороны или не может быть подчинена реакционным силами. Так, например, Блох видел в немецком нацизме идеологическую кражу и инверсию древней христианской традиции хилиазма. Нацисты использовали давнюю мечту о «Третьем царстве», но полностью изменили ее суть и поставили на службу своему режиму5. Это же касается и Библии, которую Блох предлагает рассматривать во всей ее противоречивости и многослойности, обусловленной множеством факторов – от длительного процесса формирования и закрепления книг до классовых интересов различных групп. В любом случае Блох выступает против попыток свести трактовку и значение Библии к рамкам истории официальной Церкви со всеми ее несправедливостями и недостатками. Блох согласен, что какие-то части Библии использовались для оправдания гнета со стороны правящих классов, но в целом Библия несет в себе и освободительный потенциал, что выражается во множестве восстаний под библейскими лозунгами против угнетения. Иными словами, как пишет Блох, «ответный удар против угнетателя тоже библейский», и именно благодаря своему освободительному потенциалу Библия получила столь широкое распространение [22, p. 13].
Блох уделяет большое внимание трансформации фигуры Бога. Западная религиозная традиция, по Блоху, характеризуется тем, что в своем развитии она все больше смещает центр внимания на человека. Блох пользуется аналогией с восстанием Прометея против богов Олимпа, когда описывает этот процесс преображения религии. Прометей, хотя и не основал новую религию, дал пример «восстания» против воли богов, попытки спустить рай на землю. Первое подобное «восстание» Блох усматривает в образе Моисея, который становится первым «человечным» основателем религии в западной традиции. В отличие от основателей других религий Моисей предстает перед нами не мифической фигурой, а историческим человеком, который не растворяется в божестве [21, p. 1191]. Блох выступает против попыток представить Моисея не как реально существовавшего человека, обозначая такие попытки как антисемитские [26, p. 130]. «Прыжок в религиозном сознании», как выражается Блох, происходит благодаря тому, что в основание новой религии ложится акт, который ранее был наиболее враждебен к религиям – акт восстания. Моисей –основатель
«религии противостояния». Это отличает религию Моисея от иных современных и знакомых ему религий, которые получают у Блоха название «астрально-мифических».
В астрально-мифической картине мира все существует циклично и по неизменным законам, а человеку отводится роль не активного субъекта, а игрушки в руках судьбы, которая будет наказана, если посмеет выйти за пределы своей роли в этом уже изначально гармоничном мироустройстве (подобное же различение проводит Славой Жижек, когда говорит о христианстве и язычестве [12, с. 127–128]). Моисей восстает против рабства и страданий, которые его народ терпит в Египте, и верит, что иное положение дел возможно [21, p. 1232]. Бог Моисея – это в первую очередь дух самого Исхода. Возможно, сам Яхве как божество был позаимствован у местного кенейского населения, но в этом заимствовании он был преобразован Моисеем таким образом, который и делает его непохожим на религии иных народов. Это выражается также и в Десяти заповедях Моисея, которые, конечно, имели в себе заимствования и более поздние вставки, но чья уникальность заключается в заповеди «возлюби ближнего своего как себя самого». Также происходит смена темпорально-стей цели, которая теперь находится в будущем, а не здесь и сейчас. На место видимого языческого бога природы приходит незримый бог праведности и царство праведности [21, p. 1223–1224].
Следующим этапом в становлении Бога является «восстание» Иова против Яхве, которое описано в Книге Иова. Блох видит в истории Иова критику теодицеи. Не всякое страдание в мире имеет смысл и оправдание. Более того, такой взгляд не совместим с надеждой на справедливость [39, p. 72]. Иов мерит Яхве его же собственными идеалами праведности и справедливости. Иова не устраивают ответы его друзей относительно тех несчастий, что выпали ему. Он выступает против Яхве и утверждает, что Бог, достойный звания Бога, должен исправлять незаслуженные несправедливости. Если в большинстве интерпретаций концовки книги Иова считается, что Иов принял слова Бога и укрепил свою веру в него, то Блох занимает иную позицию и считает, что подлинность говорящего с Иовом Бога поставлена под сомнение [39, p. 73]. Иов совершает Исход от Яхве. Яхве, отвечая на протест Иова, представляется совершенно иным Богом, более напоминающим языческих богов-демонов природы, т.к. в своем ответе заменяет моральную составляющую возражений Иова на демонстрацию своего физического могущества, которое никак не связано с человеком и не направлено на его благо. Иов говорит об Искупителе («Но я знаю: Искупитель мой жив, и в конце Он встанет над землей; и когда моя кожа с меня спадет, я все же во плоти моей увижу Бога», Книга Иова, 19:25), имея в виду другого Бога, чем тот, кто отвечает на его жалобу. Блох утверждает, что Иов доверяет себя не этому Бог-Творцу неизменного порядка, а Богу Исхода, который несет в себе надежду на преобразование мира [22, p. 100–101].
Своего максимального очеловечивания религия достигает в Иисусе Христе. Предварительно следует отметить, что Блох открыто выступает как против попытки избавиться от эсхатологии и свести деятельность Христа к чистой моральной проповеди, так и против интерпретации эсхатологии и Царства Будущего как чего-то потустороннего и сверхъестественного, выхолащивания ее материалистического и политического содержания [22, p. 113–114]. Иисус действительно верит в крушение старого мира и рождение на его руинах нового, именно в этом контексте надо понимать его слова о том, что его Царство не от мира сего или что необходимо отдать кесарю кесарево [22, p. 119–120]. Любовь к ближнему имеет смысл только в перспективе грядущего Исхода и Пришествия, когда возникнет новое Царство, которое уже близко. Вне его Христос, наоборот, проповедует борьбу, и именно поэтому римские власти усмотрели в нем революционера, который разрушает тот порядок, на котором покоится этот мир, чтобы совершить последний эсхатологический Исход от Бога к человеку [22, p. 122–123]. Иисус называет себя «Сыном Человеческим», а не «Сыном Божьим», тем самым не ассоциируя себя с Яхве-творцом и даже противопоставляя себя ему. Блох указывает на связь этого понятия с Адамом Кадмоном («первоначальным человеком»), который сначала становится вровень с Богом, а затем полностью заменяет его самим собой [21, p. 1265]. Иисус возлагает ответственность за построение Царства на все сообщество верующих, тем самым полностью перенося божественное как что-то внешнее и высшее по отношению к человеку непосредственно в само человечество [35, p. 29].
Таким образом, Блох рассматривает атеизм как завершение внутренней логики иудео-христианской религии. «Только атеист может быть хорошим христианином, только христианин может быть хорошим атеистом», – пишет Блох в эпиграфе к «Атеизму и христианству» [22]. Но что собой представляет хороший атеизм? Конечно, Блох не имеет в виду любой и тем более вульгарный или сциентистский атеизм. Подобные версии атеизма вряд ли можно одобрить с позиции Блоха в принципе, т.к. они просто стремятся устранить религию вместе со всем тем утопическим потенциалом и верой в то, что мир, каким мы его знаем, может быть изменен. В этом отношении они скорее представляют собой регресс по сравнению c рели- гиозным сознанием. Хороший атеизм более не нуждается в фигуре Бога как некого внешнего по отношению к человечеству верховного существа, переносит всю надежду на само человечество и при этом сохраняет открытость к бесконечным изменениям, которые ожидают человечество на его пути. Хороший атеист может считать, что религия уже не нужна, но он никогда бы не подумал, что она была не нужна всегда.
Заключение
Марксистская философия религии Эрнста Блоха, которая оформилась в 1950-е – 1960-е гг., указывает на утопический элемент в основании религии и выводит практически неисчерпаемый потенциал для преобразования мира из этого источника. Это идет вразрез с традиционным пониманием религии в классическом марксизме, но в рамках постсекулярного поворота представляет собой еще один из возможных инструментов анализа взаимоотношения политики и религии. В рамках реконструкции отношения Блоха к религии были также затронуты и более общие положения философского проекта Блоха, такие как Еще-Не, Еще-Не-Осознанное, которые отражают влияние религиозного сознания и критики Блохом конкурирующих теорий в лице психоанализа.
Важным тезисом Блоха становится указание на наличие атеистического элемента внутри религии. Это одновременно позволяет Блоху сохранять марксистское положение об атеизме (пускай и в очень своеобразной форме) и провести прямую связь между марксизмом и религией как двумя выразителями утопических стремлений человечества. Эти стремления, исходя из картины мира, где не существует навсегда фиксированных и неизменных условий человеческого существования, также находятся в постоянном движении и изменении. То, что казалось невозможным вчера, может оказаться посильным в измененных условиях уже завтра. Это в свою очередь повлечет за собой целый ряд новых условий, которые опять же будут определять возможные будущие изменения в обществе. Поэтому не приходится говорить о том, что по достижению какого-либо этапа в развитии общества утопический запал обязательно сойдет на нет и общество гипостазируется в определенном положении. Марксизм и религию в понимании Блоха можно сблизить по тому признаку, что они обладают всем необходимым, чтобы продолжать процесс изменения общества.
Представление марксизма как некоего подобия религии – явление далеко не новое и обычно ставится оппонентами марксизма ему в упрек. Но, как заметил Фредерик Джеймисон, подобное сравнение работает в обе стороны [31, p. 275], по- этому можно говорить не только о том, что в марксизме есть что-то от религии, но и о том, что в религии есть что-то от марксизма. Учитывая возрастающий постсекулярный характер современности, такое сходство имеет большой потенциал для социально-философского анализа.