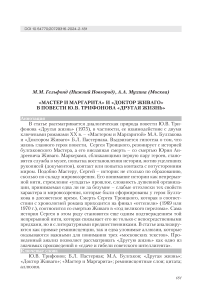"Мастер и Маргарита" и "Доктор Живаго" в повести Ю.В. Трифонова "Другая жизнь"
Автор: Гельфонд М.М., Мухина А.А.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература и литература народов России
Статья в выпуске: 2 (69), 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается диалогическая природа повести Ю.В. Трифонова «Другая жизнь» (1975), в частности, ее взаимодействие с двумя ключевыми романами ХХ в. - «Мастером и Маргаритой» М.А. Булгакова и «Доктором Живаго» Б.Л. Пастернака. Выдвигается гипотеза о том, что жизнь главного героя повести, Сергея Троицкого, резонирует с историей булгаковского Мастера, а его внезапная смерть - со смертью Юрия Андреевича Живаго. Маркерами, сближающими первую пару героев, становятся служба в музее, попытка восстановления истории, мотив уцелевших рукописей (документов), контакт или попытка контакта с потусторонним миром. Подобно Мастеру, Сергей - историк не столько по образованию, сколько по складу мировоззрения. Его понимание истории как непрерывной нити, стремление «угадать» прошлое, сложность душевной организации, принимаемая едва ли не за безумие - слабые отголоски тех свойств характера и мировоззрения, которые были сформированы у героя Булгакова в досоветское время. Смерть Сергея Троицкого, которая в соответствии с хронологией романа приходится на финал «оттепели» (1969 или 1970 г.), соотносится со смертью Живаго в «год великого перелома». Сама история Сергея в этом ряду становится еще одним подтверждением той непрерывной нити, которая связывает его не только с непосредственными предками, но и с литературными предшественниками. В статье анализируются как прямые реминисценции, так и едва уловимые аллюзии, которые оказываются важными для понимания трех «московских текстов». Проведенный анализ позволяет рассматривать «Другую жизнь» как одно из значимых произведений о «сдаче и гибели советского интеллигента».
Ю.в. трифонов, б.л. пастернак, м.а. булгаков, «другая жизнь», «доктор живаго», «мастер и маргарита», реминисцентные слои, цитата, аллюзия
Короткий адрес: https://sciup.org/149146222
IDR: 149146222 | DOI: 10.54770/20729316-2024-2-181
Текст научной статьи "Мастер и Маргарита" и "Доктор Живаго" в повести Ю.В. Трифонова "Другая жизнь"
Сложность прозы Юрия Трифонова обусловлена разными причинами – и особой плотностью письма, благодаря которой в рамках одного абзаца умещается история жизни героя, а иногда нескольких десятилетий жизни страны, и «эзоповым языком», выработанным для разговора о советской реальности, и расчетом на вдумчивого читателя, способного воспринять этот язык. На этом фоне реминисцентные слои кажутся отнюдь не главным свойством трифоновской поэтики. Не главным, но определяющим многое: мерцание названных и неназванных текстов нередко проясняет то, что не сказано напрямую, а лишь намечено писателем. Это относится и к «Другой жизни» – последней из повестей «московского цикла», перекликающейся то с Чеховым [Ярко 2016], то с Фетом, а через него – с Буниным [Владимиров 2021], то с Булгаковым и Пастернаком.
Цепь ассоциаций, связанных с главным романом Булгакова, задана в «Другой жизни» прямым упоминанием «Мастера и Маргариты». Вспоминая об автокатастрофе, в которой погиб лучший друг главного героя, Сергея Троицкого, Федя Праскухин, и о том, как быстро занял место погибшего его спутник в последней поездке Гена Климук, вдова Сергея, Ольга Васильевна, думает: «Гена впрыгнул в кресло ученого секретаря так быстро и с такой готовностью, что можно было подумать, будто он, подобно булгаковскому Воланду, подстроил катастрофу нарочно» [Трифонов 1986, 277]. По всей вероятности, эта ассоциация возникает у Ольги Васильевны задним числом: гибель Феди, согласно внутренней хронологии повести, приходится на первую половину шестидесятых (ориентировочно на 1962–1963), а роман Булгакова был опубликован на рубеже 1966–1967 гг. (впрочем, восхождение Гены на пост ученого секретаря тоже могло занять какое-то время). Вместе с тем беглое упоминание «Мастера и Маргариты» соединяет автора, героев и читателей «Другой жизни» как тех, кто способен перекликаться цитатами из опубликованного на самом излете «оттепели» и быстро ставшего культовым булгаковского романа. Более того – оно возникает у Трифонова уже тогда, когда внимательный читатель и сам наметил некоторые точки схождения «Другой жизни» и «Мастера и Маргариты», хотя, возможно и не придал им должного значения.
Первая точка пересечения намечается в эпизоде знакомства Ольги Васильевны с Сергеем, когда происходит, говоря булгаковскими словами, «явление героя»: «Новый знакомый Влада был историк, недавно окончивший, работал в каком-то невидном учрежденьице не по своей специальности» [Трифонов 1986, 227]. Чуть позже мы узнаем о том, что герой семь лет проработал в музее, где «было тихо, безденежно и безнадежно» [Трифонов 1986, 259]. Этот штрих напоминает о булгаковском Мастере – «историке по образованию, который еще два года тому назад работал в одном из московских музеев» [Булгаков 1990, 135]. За внешним параллелизмом профессий и рода занятий скрывается внутренняя близость героев. Сергей, подобно своему предшественнику, – историк не столько по образованию, сколько по складу характера, мышления, мировоззрения; он не просто не вписывается в требования, предъявляемые к его профессии советской идеологией, но и – будучи абсолютно лояльным по отношению к советской власти человеком – как будто не осознает самой их сути. Свою задачу историка он видит вовсе не в утверждении той «исторической целесообразности», торжество которой декларирует сделавший немалую карьеру Гена Климук, а в том, чтобы восстановить утраченное прошлое, отыскать «нить, соединяющую поколения» [Трифонов 1986, 302]. На первый взгляд кажется, что сфера профессиональных интересов Сергея Троицкого – история царской охранки накануне февральской революции – бесконечно далека от того, чем занимается оставивший работу в музее Мастер, но ведь одним из героев «романа о Понтии Пилате» тоже является глава римской «тайной полиции», своего рода «царской охранки», Афраний.
И все же двух историков сближает не столько тема исследования, сколько его метод, который Сергей Афанасьевич Троицкий полушутя называет «разрыванием могил» [Трифонов 1986, 300]. Его «кропотливейшая работа» – составление списков секретных сотрудников «с обозначением всех их служебных “подвигов“ и “заслуг“ перед отечеством» [Трифонов 1986, 308] – направлена на то, чтобы отыскать некие нити, соединяющие прошлое и настоящее, вероятно, с возможностью выхода в будущее. В поисках этих материалов Сергею чудом удается найти «списки секретных сотрудников московской охранки за десятые годы, вплоть до февраля семнадцатого» – «материалы ценнейшие, потому что архивы охранки были уничтожены, сожжены» [Трифонов 1986, 308]. Эти списки добыты им не совсем законным путем: «Нашел какого-то человека, то ли пропойцу, то ли жулика, то ли просто опустившегося, несчастного босяка, <…> звали его странно, Селифан или Селиван, что-то в таком роде, – который списки продал Сереже за тридцать рублей. Кажется, его дед был связан с охранкой, был там мелким чиновником и сохранил списки, чтобы шантажировать людей и вымогать у них деньги» [Трифонов 1986, 316]. Коллеги по институту не верят Сергею и говорят, «что Селифан его надул, что списки поддельные, кто-то сфабриковал их если не теперь, то в двадцатые годы, и, может быть, даже, с их помощью кого-то шантажировали» [Трифонов 1986, 313]. В споре с коллегами, и в особенности с горячо возражавшим профессором Вяткиным, Сергей Троицкий решает поехать в подмосковное село Городец, чтобы попробовать отыскать там хоть какие-то следы одного из числящихся в этих списках – «Кошелькова Евгения Алексеевича, имевшего в московской охранке клички Тамара и Филипчук», хотя бы «просто запись в местной церкви о рождении и крещении» [Трифонов 1986, 316]. Шансы на это ничтожно малы – и тем не менее к концу дня Сергею удается найти «старика, очень румяного, крепкого на вид, ходившего мелкими-мелкими медленными шажками в черных валенках: в прошлом году случился удар, думал, что помирает, но выжил. Старик говорил, улыбаясь красивым белозубым ртом: “– Бабья лета нынче удалась”. Это был сам Кошельков Евгений Алексеевич» [Трифонов 1986, 316]. Эпизод – как собственно и вся повесть – дан через призму восприятия вдовы Сергея Ольги Васильевны, и поэтому мы не знаем точной реакции Сергея на произошедшее. Но композиционный разрыв между двумя частями эпизода (в него успевает уместиться возвращение Ольги Васильевны из командировки, ее ссора со свекровью, непростой разговор с дочерью) словно бы маркирует ошеломление героев от произошедшего: Сергей – хоть и не в той, конечно, мере, что булгаковский Мастер – угадал, что было в прошлом.
Еще один сильный булгаковский след в романе – скорее мнимое, чем подлинное безумие главного героя. Той же ночью, когда Сергей решает поехать в Городец, он говорит Ольге Сергеевне: «Потому что нити, которые тянутся из прошлого... ты понимаешь? – они чреваты... Они весьма чреваты… Ты понимаешь? Она не понимала. – Чем? – Ну как чем! – Он засмеялся» [Трифонов 1986, 313]. Предположение о безумии – как и в «Мастере и Маргарите» – возникает ночью и вызывает у женщины, любящей героя, слезы ужаса: «Она смотрела на него, похолодев от ужаса. Безумие! То, чего она страшилась, зная неустойчивость его нервной организации.
Она обняла его голой рукой, прижала его голову к своей груди и гладила его волосы. Он тихонько фыркнул, вновь она содрогнулась от этого смеха. – Ты, наверно, думаешь, что я рехнулся? Чепуха, я здоров. Но ты ведь знаешь мою идею: нить, проходящая сквозь поколения... Если можно раскапывать все более вглубь и назад, то можно попытаться отыскать нить, уходящую вперед... Это не было безумием. Впрочем, какою-то долею это было, возможно, безумие, какою-то долею шутка и частично всерьез. Безумие и всерьез – это было одно» [Трифонов 1986, 314]. Важно, что в «Другой жизни» воспоминание Ольги Васильевны о поездке в Городец и предшествовавшей ей ночи рождается, когда она перебирает рукописи Сергея, точнее – добытые и сохраненные им списки: «Совсем недавно она отрыла папку с розовыми тесемками, погребенную под ворохом других папок на нижней полке большого книжного шкафа. Папка из глянцевитого желто-мраморного картона, который был в моде в десятых годах» [Трифонов 1986, 314]. Рукописи в соответствии с воландовско-булгаковской фразой не горят, а спокойно пылятся в шкафу. Но перебирая их, Ольга Васильевна осознает, что утрачено главное – та часть существа Сергея, которая была вложена в собирание этих папок, архивные выписки, разрозненные заметки: «Она читала, плохо понимая, буквы прыгали перед глазами, потому что думалось с горечью о том, что жизнь состоит из непоправимостей. Какая огромная часть его существа осталась неизведанной! А ведь ей казалось, что она достаточно, сверхдостаточно знает о нем. Нет, ей казалось, что все это бесконечно неинтересно. Ничего поправить нельзя. Она переворачивала хрупкие, пахнувшие тленом странички, старалась вдумываться в смысл и с отчаяньем понимала, что смысл от нее отлетает: пустой и безжизненный, он мог лететь, лететь» [Трифонов 1986, 315].
При всей своей любви к Сергею Ольга Васильевна – отнюдь не булгаковская Маргарита. Впрочем, она и нисколько не претендует на эту роль, отводя себе другую – заботиться, поучать, вести за руку. Но может быть именно неосознанное (впрочем, действительно ли неосознанное? У нас нет никаких сомнений в том, как жадно и внимательно должен был читать Сергей булгаковский роман на рубеже 1966–1967 гг.) сходство с Мастером становится причиной того, что Сергей в последние годы жизни – по внутренней хронологии романа это как раз 1968–1969 гг. – тянется к Дарье Мамедовне, женщине совсем иного типа: «экзотическая личность: она и дворянка, и восточная женщина, и медиум, и профессор» [Трифонов 1986, 334]. Именно Дарья Мамедовна вводит Сергея в мир мистического и потустороннего, хотя и в чрезвычайно упрощенный, профанированный: спиритические сеансы, «медиумы, планшетки, низшие духи, высшие духи, загробные голоса» [Трифонов 1986, 342]. При этом Дарья Мамедовна так же равнодушна к историческим разысканиям Сергея, как и Ольга Васильевна – и обе женщины оказываются по-своему виновными в его гибели. Мучимая ревностью Ольга Васильевна рассказывает о том, что Сергей посещает спиритические сеансы, своей подруге Фаине, та – жене Климука, возвысившегося к тому времени до места директора института (булгаковский «квартирный вопрос» отчасти отзовется в том, как он «вечно что-то перестраивал, ремонтировал или же менял квартиры, неуклонно расширяя площадь и переезжая во все более фешенебельные районы» [Трифонов 1986, 278]) – и это становится одной из причин грядущего увольнения Сергея и сердечного приступа, от которого он умирает в возрасте сорока двух лет (булгаковскому мастеру тридцать восемь).
Если жизнь Сергея Троицкого в какой-то мере резонирует с жизнью булгаковского Мастера, то внезапная смерть трифоновского героя – скорее со смертью Юрия Андреевича Живаго. Оба умирают от сердечного приступа относительно молодыми – Живаго нет и сорока, Сергею Троицкому чуть больше. В «Другой жизни» не назван год смерти главного героя, но он достаточно легко вычисляется по разного рода «маячкам»: знакомство героев происходит весной 1953 г. после неназванной смерти Сталина, сближение – после ареста Берии, дочь Иринка рождается осенью 1954 г., через несколько месяцев после смерти отца Иринка идет в «Современник» на «Вкус черешни», поставленный в 1969 г. По всей вероятности, Сергей умирает в ноябре 1969 или 1970 г. – в ту пору, когда «оттепель» окончательно захлебывается. Вспоминая этот период в «Записках соседа», Юрий Трифонов писал о нем как о «времени роковых событий и смертельных исходов» [Трифонов 1989, 42]. Юрий Андреевич Живаго умирает от сердечного приступа в «год великого перелома» – летом 1929 г. [Поливанов 2015, 186–191]. Между двумя этими «переломами» – декларативно «великим» и не так заметным внешне, но чрезвычайно болезненно воспринятым думающими людьми – проходит около сорока лет. В преждевременной и ничем, казалось бы, не мотивированной смерти Сергея («Все было ничего, анализы, сердце, давление» [Трифонов 1986, 226]) по-своему отзывается смерть его предшественника от «отсутствия воздуха» (о физической «невозможности дышать» в это время Трифонов пишет в «Записках соседа») [Трифонов 1989].
Разумеется, ни о каком упоминании «Доктора Живаго» в «Другой жизни» не могло быть и речи. Но если роман Пастернака естественным образом попадает в зону подцензурного умолчания, то стихи Пастернака (и вообще стихи) Трифонов цитирует в повестях «московского цикла» не раз. Татьяна Бек глубоко и точно охарактеризовала прозу Трифонова как «инобытие поэзии» [Бек 1999]. Способность или напротив неспособность воспринимать стихи – важнейшее свойство его героев. Так глух и равнодушен к стихам, которые читает Таня, главный герой «Обмена» Виктор Дмитриев» [Иванова 1984, 110]: «Таня знала множество стихов и любила читать их тихим голосом, почти шептать. Он поражался ее памяти. Сам он не помнил, пожалуй, ни одного стихотворения наизусть – так, отдельные четверостишия. “Ты жива еще, моя старушка, жив и я, привет тебе, привет”. А Таня могла читать часами. У нее было штук двадцать тетрадей, еще со студенческих времен, где крупным и ясным почерком отличницы были переписаны стихи Марины Цветаевой, Пастернака, Мандельштама, Блока. И вот в минуты отдыха или когда не о чем было говорить и становилось грустно, она начинала шептать. “О господи, как совершенны дела твои, думал больной…”. Или еще “Сними ладонь с моей груди, мы провода под током”» [Трифонов 1986, 28–29]. Слушая Таню, Дмитриев устает «от однообразного шелестения губ», перебивает ее чтение вопросами, явно задаваемыми не к месту: «А почему этот ваш Хижняк с Варварой Алексеевной не здоровается?» [Трифонов 1986, 29], но в минуту отчаяния, когда он осознает неизбежность близкой смерти матери и душевную глухоту жены, он вспоминает именно пастернаковские строки: «О господи, как совершенны / Дела твои, думал больной» [Трифонов 1986, 12].
Сергей Троицкий стихи знает, любит, подобно Тане из «Обмена», читает их вслух – правда, не Пастернака, а Фета и Бунина. Пастернаковские строки в «Другой жизни» возникают совершенно иначе – когда Ольга Васильевна с Сергеем приходят на спиритический сеанс: «В коридорчике висел плакат: “Тишина – ты лучшее из всего, что слышал”. Стоял сладковатый, как в церкви, запах свечного дымка и горячего воска. Все разговаривали едва слышно, бросали как попало пальто и шубы в коридоре на сундуки» [Трифонов 1986, 345]. Раннее пастернаковское стихотворение «Звезды летом», цитата из которого парадоксально и нелепо вынесена на самодельный плакат, с одной стороны, становится ключом к эпизоду: «Рассказали страшное, / Дали точный адрес. / Отпирают, спрашивают, / Движутся, как в театре» [Пастернак 2003–2005, I, 130], а с другой, свидетельствует об абсолютном непонимании поэзии новыми знакомыми Сергея и вслед за ним – о нелепости всего происходящего. По словам Татьяны Бек, «пастернаковская строка – как в пародии, когда неожиданно сталкиваются два несовместимых плана, – безо всякого авторского нажима выносит пошлости и фальши происходящего бесповоротный приговор» [Бек 1999]. При всей внешней заинтересованности Дарьей Мамедовной, спиритизмом, старинной книгой под названием «Чаромутие» Сергей Троицкий так же чужд сторонникам тайного знания, как и своим институтским коллегам. Его взгляды лежат в иной плоскости и по отношению к «исторической целесообразности», и по отношению к интеллигентскому мистицизму. Ближе всего они к мыслям Юрия Живаго о бессмертии: «Ему казалось, что нить, соединяющая поколения, должна быть наподобие сосуда, по которому переливаются неисчезающие элементы. Это больше относилось к биологии, чем к истории» [Трифонов 1986, 302] («Другая жизнь») – «И что же? В других вы были, в других и останетесь. И какая вам разница, что потом это будет называться памятью. Это будете вы, вошедшая в состав будущего» [Пастернак 2003–2005, IV, 69] («Доктор Живаго»).
Написанная двадцатью годами позже «Доктора Живаго» и почти сорока годами позже «Мастера и Маргариты» «Другая жизнь» Трифонова неслучайно оказывается в том же ряду, что и два великих романа. Это – еще одна история «сдачи и гибели» [Белинков 1976] интеллигента, в данном случае уже без всяких оговорок советского. Его понимание истории как непрерывной нити, стремление «угадать» прошлое и найти своим догадкам буквальное подтверждение, сложность душевной организации, принимаемая даже самыми близкими едва ли не за безумие – слабые отголоски тех свойств характера и мировоззрения, которые были сформированы у героев Булгакова и Пастернака в досоветское время. Сама история
Сергея в этом ряду становится еще одним подтверждением той непрерывной нити, которая связывает его с не только с непосредственными предками – «пензенским попом-расстригой» или «учителем в туринской болотной глуши», но и с литературными предшественниками.
Близость главных героев – отнюдь не единственное свойство, которым «Другая жизнь» перекликается с «Мастером и Маргаритой» и «Доктором Живаго». И повесть Трифонова, и романы Булгакова и Пастернака – московские тексты [Селеменева 2008]. И дело тут не только во множестве топонимических упоминаний, конкретизирующих жизнь героев. Москва, как сказано в пастернаковском романе, становится «не местом этих происшествий, но главною героиней длинной повести, к концу которой они подошли с тетрадью в руках в этот вечер» [Пастернак 2005, IV, 514]. В финале «Другой жизни» – как и в предпоследних главах «Мастера и Маргариты», как и в финале «Доктора Живаго» – Москва увидена после смерти главного героя в вечернем сумраке, с высоты, «внизу и вдали» [Пастернак 2003–2005, IV, 514], глазами близких герою людей: в булгаковском романе – Маргариты, в «Докторе Живаго» – Гордона и Дудорова, в «Другой жизни» – Ольги Васильевны:
«Однажды взобрались на колокольню спасско-лыковской церкви. Взбираться было тяжело, он раза два останавливался на каменной лестнице, отдыхал, а когда взошли на самую верхнюю площадку, под колокол, сильно стучало сердце, и они оба приняли валидол. Но они увидели: Москва уходила в сумрак, светились и пропадали башни, исчезали огни, все там синело, сливалось, как в памяти, но если напрячь зрение, она могла разглядеть высотную пластину Гидропроекта недалеко от своего дома, а он мог отыскать туманный колпак небоскреба на площади Восстания, рядом с которым жил. Наверху был ветер, вдруг ударило резким порывом. Она потянулась к нему, чтоб заслонить, спасти, он ее обнял. И она подумала, что вины ее нет. Вины ее нет, потому что другая жизнь была вокруг, была неисчерпаема, как этот холодный простор, как этот город без края, меркнущий в ожидании вечера» [Трифонов 1986, 360]. Этот образ огромного, увиденного с высокой точки города, в котором словно бы растворяется душа героя, является еще одной значимой точкой схождения трех романов о судьбе московского героя-интеллигента.
Список литературы "Мастер и Маргарита" и "Доктор Живаго" в повести Ю.В. Трифонова "Другая жизнь"
- Бек Т.А. Проза Трифонова как инобытие поэзии // Юрий Трифонов: долгое прощание или новая встреча? // Знамя. 1999. № 8. URL: https://znamlit.ru/ publication.php?id=884 (дата обращения: 14.08.2023).
- Белинков А.В. Сдача и гибель советского интеллигента. Юрий Олеша. Мадрид: [Б. и.], 1976. 686 с.
- Булгаков М.А. Полное собрание сочинений: в 5 т. Т. 5. М.: Художественная литература, 1990. 747 с.
- Владимиров О.Н. «Бунинские сюжеты в повести «Другая жизнь» Юрия Трифонова» // Филология и человек. 2021. № 2. С. 50-62.
- Иванова Н.Б. Проза Юрия Трифонова. М.: Советский писатель, 1984. 293 с.
- Пастернак Б.Л. Полное собрание сочинений: в 11 т. М.: Слово, 2003-2005.
- Поливанов К.М. «Доктор Живаго» как исторический роман: дис. ... д. филос. Тарту, 2015. 262 с.
- Селеменева М.В. Поэтика «Московского текста» Ю.В. Трифонова // Вестник ЛГУ им. А.С. Пушкина. 2008. № 2(12). С. 131-148.
- Трифонов Ю.В. Записки соседа // Дружба народов. 1989. № 10. URL: http://дружбанародов.сот/authors/trifonov-yuriy (дата обращения: 13.08.2023).
- Трифонов Ю.В. Полное собрание сочинений: в 4 т. Т. 2. М.: Художественная литература, 1986. 498 с.
- Ярко А.Н. Чеховские традиции в повести Юрия Трифонова «Другая жизнь» // Вестник РГГУ. Серия: Литературоведение. Языкознание. Культурология. 2016. № 5(14). С. 96-102.