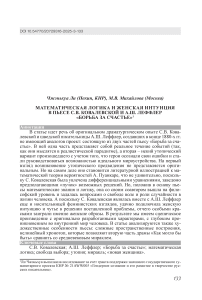Математическая логика и женская интуиция в пьесе С.В. Ковалевской и А.Ш. Леффлер «Борьба за счастье»
Автор: Чжэньхуа Ли, М.В. Михайлова
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература и литература народов России
Статья в выпуске: 3 (74), 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье идет речь об оригинальном драматургическом опыте С.В. Ковалевской и шведской писательницы А.Ш. Леффлер, создавших в конце 1880-х гг. не имеющий аналогов проект: состоящую из двух частей пьесу «Борьба за счастье». В ней одна часть представляет собой реальное течение событий (так, как они мыслятся в реалистической парадигме), а вторая – некий утопический вариант произошедшего с учетом того, что герои осознали свои ошибки и стали руководствоваться возможностью идеального мироустройства. На первый взгляд возникновение утопического предвидения не представляется оригинальным. Но на самом деле оно становится литературной иллюстрацией к математической теории вероятностей А. Пуанкаре, что не удивительно, поскольку С. Ковалевская была увлечена дифференциальными уравнениями, заведомо предполагающими «пучок» возможных решений. Но, положив в основу пьесы математические знания и логику, она со своим соавтором вышла на философский уровень и задалась вопросами о свободе воле и роли случайности в жизни человека. А поскольку С. Ковалевская являлась вместе с А.Ш. Леффлер еще и носительницей феминистских взглядов, удачно подключила женскую интуицию и чутье в решении поставленной проблемы, отчего особыми красками заиграли именно женские образы. В результате мы имеем сценическое произведение с оригинально разработанными характерами, с глубоким проникновением во внутренний мир человека. В статье анализируются также художественные особенности пьесы: сложные пространственные построения, нелинейный хронотоп, которые позволяют вторую часть драмы «Как могло бы быть» сравнить со средневековым мираклем.
С.В. Ковалевская, А.Ш. Леффлер, «Борьба за счастье», математическая логика, свобода выбора, утопия, миракль, «новая женщина»
Короткий адрес: https://sciup.org/149149383
IDR: 149149383 | DOI: 10.54770/20729316-2025-3-133
Текст научной статьи Математическая логика и женская интуиция в пьесе С.В. Ковалевской и А.Ш. Леффлер «Борьба за счастье»
Sofya V. Kovalevskaya; Anne Charlotte Leffler; “The Struggle for Happiness”; mathematical logic; philosophy of choice; utopia; miracle; “new woman”.
О связи между точными науками и литературой написано много. Доказано, что эта связь заключается не только в непосредственном проявлении темы науки в художественных произведениях, но и в том, что развитие естественных наук влияет на мировоззрение человека и, следовательно, на способ представления мира в литературе. Европейские средневековые тексты базируются на космологии Аристотеля – геоцентризме, то есть противопоставлении Земли и Неба и т.д. «Принцип геоцентризма» соответствовал «антропоцентрическим представлениям», а «конечность мира в пространстве» в итоге «выявляла космическую функцию Христа» [Соколов 1984, 141]. Поэтому, например, в древнерусской литературе превалировала религиозно-моралистическая категория географического пространства (подробнее см.: [Успенский 1996, 381–432]). Потом коперниковская революция в астрономии и учение о бесконечных мирах Дж. Бруно «превратили землю в какую-то ничтожную песчинку мироздания, а вместе с тем и человек оказался несравнимым, несоизмеримым с бесконечным пространством» [Лосев 1978, 559].
В целом классическая научная картина мира, основанная на гелиоцентризме и классической механике, просуществовала до конца XIX в. Под ее влиянием в большинстве литературных произведений мир представал как ие-рархичный, упорядоченный, гармоничный, стабильный, в котором все предметы и тела движутся в определенном порядке в абсолютном пространстве и необратимом линейном времени. В эпоху классической науки будущее считалось предсказуемым, определенным в силу несомненного движения по пути прогресса, а процессы в обществе постепенными и непрерывными.
Теория относительности А. Эйнштейна и квантовая механика сильно поколебали эту устойчивость. Возникло «ощущение, что времен окончательных, надежных, раз навсегда установленных не бывает» [Ортега-и-Гассет 2002, 16]. В результате произошла «переориентация культуры на идею нелинейности» [Мариевская 2006, 4]. Это, безусловно, сыграло определенную роль в возникновении модернизма в литературе, в которой восторжествовали «дискретность, непознаваемость мира, иррациональность, перверсивность и болезненность» [Добренко 2020, 11].
Конечно, изменения в литературе происходили постепенно, накапливаясь. Они стали особенно заметны в русской литературе на рубеже XIX–XX вв. Однако признаки трансформаций наблюдались и раньше. К таким творческим прорывам можно отнести пьесу двух женщин – математика С.В. Ковалевской (1850–1891) и шведской писательницы Анны Шарлотты Леффлер (1849–1892) «Борьба за счастье» (1887), в которой действительность уже была представлена как нелинейный, динамический и непредсказуемый процесс. Конечно, во многом это связано с тем, что пьеса вызревала в контексте европейской культуры и во многом была ориентирована на европейские образцы. И все же прозорливость авторов в большей степени определялась иными моментами.
История создания пьесы довольно запутана. Известно, что она была издана по-шведски впервые в Стокгольме в 1887 г., причем в предисловии, которое было впоследствии воспроизведено и в русском издании 1892 г. (см.: [Ковалевская, Леффлер 1892]), уточнялось, что писала драму «коллективная личность», которая обработала все произведение «сцена за сценою», обдумала «каждое положение, каждый характер» и «мысленно» пережила «все то, что изложено» [Ковалевская, Леффлер 1892, I] в ней. Позже А.Ш. Леффлер в своей книге «Воспоминания» опубликовала «Предисловие к драме», которое было написано Ковалевской в надежде, что оно будет опубликовано вместе с драмой. Но так не произошло. Пьеса была издана без этого предисловия, хотя оно во многом объясняет замысел произведения и раскрывает импульс, послуживший к его возникновению.
В основу пьесы была положена идея, открывшаяся Ковалевской при знакомстве с дифференциальными уравнениями и теорией катастроф. Идея такова: жизнь человека в кризисный момент можно уподобить дифференциальному уравнению, которое в точке бифуркации предполагает разветвление, что увеличивает неопределенность дальнейшего развития событий. Сегодня эта идея расшифровывается следующим образом: Софье Ковалевской, воспользовавшейся идеей Пуанкаре, «дифференциальное уравнение представляется в виде кривой линии, от которой в разных местах отходят “ветви”; в каком месте они отходят – вычислить можно, а по какой траектории пойдут – предсказать нельзя», и это позволило ей придумать «совсем новаторскую форму пьесы…» [Фортунатов 2009, 364]. Иными словами, то, в каком направлении будет развиваться явление, зависит от множества случайностей: мельчайшая подробность, деталь, особенность происходящего, его восприятие участниками могут изменить вектор жизненного пути.
Пьеса писалась по-шведски, на чем, видимо, настояла Ковалевская, которая, хотя и прекрасно владела языком, все же посчитала, что, не являясь носительницей языка, не справится с задачей: диалоги лучше выйдут у подруги. По свидетельству друзей, она очень страдала от того, что не всегда на чужом языке может выразить «тонкие оттенки мыслей», «принуждена или довольствоваться первым пришедшим <…> на ум словом, или говорить обиняками» [Воронцова 1959, 260]. В итоге, как подчеркивала Леффлер, «две пары рук» оказали «друг другу взаимную помощь для возведения одного и того же здания» [Ковалевская 1974, 549].
Подробно обстоятельства создания произведения разъяснила переводчица драмы на русский язык М. Лучицкая. Опираясь на высказывания Леффлер, зафиксированные тою в «Воспоминаниях», отрывок из которых носил название «Из моей совместной жизни в Стокгольме с Софьей Ковалевской» (см.: [Киевский сборник… 1892]), она поведала, что в героине, Алисе, Ковалевская «обрисовала самое себя», что «многие из произносимых Алисою фраз, <…> выражений были взяты из ее «собственных уст» [Ковалевская, Леффлер 1892, II–III], что в драме вообще заключено множество «ее собственных чувств и мыслей» [Ковалевская, Леффлер 1892, II]. Вначале задумывался роман, но потом решено было написать драму. Это предложение исходило от Леффлер, которая к моменту знакомства была известным драматургом, вполне владеющим искусством сцены. Она наравне со Стриндбергом и Ибсеном считалась «одной из скандинавских основоположниц» [Sigfridsson 2014, 137] «новой драмы». По мнению современного филолога, драматические произведения Леффлер относятся к «гендерно окрашенным пьесам шведских женщин-драматургов 1880х гг.», которые «оставляют в тени» даже «“Кукольный дом” Генрика Ибсена» [Estelle 2022, 103]. К моменту начала совместной работы в ее арсенале были пьесы «Актриса» (1873), «Ангел-спаситель» (1883), «Настоящие женщины» (1883), в которых ярко проявились эмансипаторские идеи. Леффлер была весьма радикальна в вопросах «сексуальной морали и роли условностей в быстро меняющемся социальном мире» [Wilkinson 2004, 49]. И это явно привлекло к ней Ковалевскую, которая тоже относилась к разряду женщин, стремящихся заявить о своих правах.
Но и Ковалевская была не новичком в литературе. У нее тоже имелся солидный запас произведений, публикация которых, однако, была осуществлена уже после ее смерти (при жизни свет увидели только «Воспоминания детства», которые сразу же получили несколько восторженных отзывов современников, и еще несколько литературно-критических и публицистических текстов). Но начинала она как раз с театральных рецензий, публиковавшихся в газете «Новое время» в конце 1870-х гг. (было опубликовано 10 рецензий на спектакли Александринского театра: 1876, 8 июня, 12 и 22 сент., 7, 17, 24 нояб., 14 и 19 дек.; 1877, 9 и 30 янв. (см.: [Русские писатели… 1989, 575]) и поражающих остротой взгляда, глубоким пониманием законов драматургии. Но особенно интересен выбранный ею угол зрения. В отличие от обычных довольно поверхностных отчетов о постановке и исполнителях здесь возникает «психологический разворот»: Ковалевская много и тонко рассуждает о внутреннем мире героев, о том, как это воспроизведено на сцене, на чем сделали акцент актеры. И при этом она неизменно держит в поле зрения именно женские фигуры, разбирает успех и неудачи актрис. Причем нередко оказывается исключительно проницательна в этом отношении. Так, комментируя драму «Чья правда?», она уделяет особое внимание женской идентичности автора и влиянию возраста на творчество: «Автор драмы женщина, и мне сильно сдается, что она должна быть еще очень молодой женщиной...». Такой вывод она сделала на основании того, что в качестве главных действующих лиц избраны женщины, и «на них вертится все действие» («Женская точка зрения» во многом организует и ее прозу, она очень сильно сказалась в ее биографическом очерке, посвященном писательнице Джорж Элиот, что позволило выявить неожиданные повороты судьбы и высказать даже шокирующие предположения о благодатной роли смерти при определенных обстоятельствах, что на взгляд Ковалевской опровергает версию о фальшивости часто возникающих в литературных произведениях роковых финалов) [С. К-на 1876, 3].
Но «женский угол зрения» корректировался у Ковалевской математической логикой. Этот момент выделяла Леффлер, указавшая, что той была присуща потребность «объяснять все явления жизни научным образом» [Леффлер 1893, 230]. Именно это, совершенно необычное сочетание и позволило представить автору действительность в пьесе «Борьба за счастье» не как процесс, имеющий причинно-следственное основание, а как непредвиденный и алогичный.
В итоге родилась пьеса «Борьба за счастье», в которой характеры были разработаны Ковалевской, ею же были намечены эпизоды, обрисованы сцены, а критической точкой, от которой отходят линии судеб действующих лиц в частях «Как было» и «Как могло бы быть», стал пролог (предыстория). Несомненно, на новаторскую форму повлияла и общая атмосфера времени. Как справедливо заметил В.В. Полонский, конец XIX в. был «отмечен утверждением в общеевропейском и шире – мировом – литературном пантеоне писателей из России, Скандинавии, стран Востока»; влияние культур, которым «прежде был предписан <…> периферийный статус», стало неоспоримым [Полонский 2024, 12]. И союз двух писательниц – шведки и россиянки – стал тому подтверждением.
***
Сюжет пьесы «Борьба за счастье» разворачивается в родовом имении Герргамре, которое находится далеко от России. Иностранные имена – Алиса, Карл, Яльмар, Паула и т.п., обращение «фру», «фрекен» ясно говорят, что действие происходит в скандинавской стране. Возможно, перенос событий «за границу» повлиял на то, что к концу работы Ковалевская охладела к создаваемому произведению, что следует из ее слов: «…написать лучше я не в состоянии» [Ковалевская 1974, 548].
Противоречия между владельцами завода и коллективом рабочих по ставлены в центр пьесы «Как могло бы быть». Трагизм из личной сферы переходит в общественную. Тут больше размышлений о необходимости улучшить быт и условия труда рабочих, чему призвана помочь создаваемая Карлом машина, использующая электричество для приведения в движение станков. Но рабочие боятся, что машина заменит их, и они будут уволены, поэтому готовы сломать изобретение. Сопротивление рабочих грозит перерасти в бунт. Производственный конфликт и тема технического прогресса дают возможность указать на своеобразное предвидение авторами пьесы сюжета драмы Ибсена «Строитель Сольнес» (1892). Драма норвежского драматурга тоже затрагивала вопросы соотношения технической (и шире – жизненной) мечты и цены, которую нужно заплатить за ее осуществление, а также борьбы поколений и несчастливого брака. У Ибсена конфликту старого фабриканта и барона с молодым Карлом соответствует столкновение старшего поколения с молодым чертежником Рагнаром, а несчастливое супружество Алины и Сольнеса дублирует трагический брак Алисы с Яльмаром. Оба героя гибнут в конце. Эти совпадения вполне объяснимы: Ковалевская была знакома с Ибсеном, встречалась с ним у знакомых и вполне вероятно могла делиться с ним замыслом.
Во второй пьесе герои делают правильный выбор, усилием воли освобождаются от давления внешних обстоятельств и собственных недостатков. Они исправляют прежние ошибки, при выборе решения руководствуются собственными чувствами. Алиса бросает мужа и, ни минуты не колеблясь, отдает Карлу причитающиеся ей по наследству деньги (Авторы прибегли, как видим, к маленькой уловке: отец Алисы вовремя умер, сделав ее богатой наследницей. Но, конечно, то, как она распорядилась деньгами, – это шаг ее доброй воли…), чтобы тот мог совершенствовать свое изобретение. Она ведет себя героически, загораживая своим телом вход в помещение, куда хотят проникнуть рабочие, чтобы сломать машину. Это действует отрезвляюще и облагораживающее на всех: Карл принимает предложенный капитал, Яльмар отказывается от доставшегося ему имения (наконец-то он может свободно гастролировать и музицировать), рабочие удовлетворяются обещаниями и верят, что машина не причинит им вреда, а сам завод будет передан рабочей ассоциации.
Посыл драмы был таков: зрителю надо было дать почувствовать, что устремленность людей к добру может вершить чудеса, что осознанный выбор верного пути обеспечит счастье человечества. Не обошлось здесь, конечно, без влияния идеи «разумного эгоизма» Н.Г. Чернышевского, к которому Ковалевская испытывала глубокое почтение, что и выразилось в ее незаконченной повести о нем «Нигилист». Там герой Михаил Гаврилович Чернов тоже, как и Алиса, мечтает о распространении своих гуманистических идей. И тогда «постепенно все начнут думать его мыслями», наступит конец «насилию, бедности, несправедливости и угнетению» [Ковалевская 1974, 522].
Пьесу Ковалевской и Леффлер можно отнести к категории «новой драмы», которая «радикально» перестраивала драму «традиционную» [Адмони 1989, 140]. Это, вероятно, стало причиной отказа в постановке на сцене Стокгольмского драматического театра (Негативный отзыв на печатное издание появился в газете «Стокгольмдагблад», см.: [Воронцова 1959, 252]). Это же привело к тому, что и в русском репертуаре «драма не загостилась». Как писал один из театральных деятелей начала ХХ в., произошло это потому, что «характер ее был слишком необычен, не прошел еще русский зритель через школу ибсеновской драматургии» [Эфрос 1916, 2]. Смело можно утверждать: в первой части речь идет «о трагедии в жизни», во второй содержится попытка эту «трагедию жизни» [Зингерман 1979, 19] преодолеть.
Противоположность двух частей во многом предопределена внутренним дисбалансом, который мучил Ковалевскую на протяжении всей жизни. С одной стороны, она верила в предустановленность всех событий, в чем сама признавалась. «Ты знаешь, до какой степени я фаталистка...» [Леффлер 1893, 241]; «…чем больше я живу, тем сильнее подчиняюсь чувству фатализма или скорее предопределения. Сознание свободы воли, которая считается прирожденной людям, все более и более утрачивается мною...» [Леффлер 1893, 272], – писала она Леффлер. Эти настроения усилились у нее после самоубийства мужа, Владимира Ковалевского, совершенного в минуту отчаяния. Видимо, она постоянно возвращалась к мысли, что стоило ей «в ту или иную прошлую минуту напрячь несколько больше свои силы, больше вдуматься в положение дела, действовать более энергически, быть в ином расположении духа», то жизнь пошла бы «по совершенно другому пути» [Ковалевская 1974, 378]. Следовательно, она верила, что человек может изменить предначертанное свыше, если предпримет для этого необходимые усилия…
Это позволяет считать, что первая часть создана Ковалевской-фаталисткой, и потому герои неизбежно приходят к трагическому финалу. А во второй части счастье оказывается делом их рук. И здесь опять можно напомнить о влиянии математики на замысел произведения. В своей диссертации («К теории дифференциальных уравнений в частных производных», 1874, см.: [Ковалевская 1948, 7–50]) Ковалевская представила доказательство одной теоремы, из которого следует, что при определенных условиях может быть найдено единственное локальное решение одной из математических задач (сегодня эта теорема носит имя Коши-Ковалевской). Если перевести это на общеупотре- бительный язык, то это означает, что можно вычислить свою судьбу, угадать истинное предназначение среди хаоса случайностей.
Балансирование между миром абстракций и полнокровным миром живой жизни составляло особенность личности Ковалевской и избранного ею творческого метода. Ей было «невыразимо приятно сознание, что существует целый мир (мир математики – Ч.Л., М.М .), в котором “я” совершенно отсутствует» [Воронцова 1959, 251], ибо она болезненно и трагически воспринимала все, что было связано с действительной жизнью. Сама она считала свою натуру «рассудочно-страстной» [Колтоновская 2020, 211], и на этом самоопределении критик Е.А. Колтоновская выстроила целую концепцию ее научной и литературной деятельности. Колтоновская увидела в Алисе буквально «дублера» автора, поскольку в героине тоже уживалась «мужская “строптивость”, деспотическая требовательность и свободолюбие» с «женской покорной кротостью и стремлением раствориться в интеллектуальном мире любимого мужчины» [Колтоновская 2020, 208]. В подтверждение своего предположения она привела обращенные к мужу слова Алисы:
…я так искренно, так страстно желала, чтобы ты хоть немножко заинтересовался мною. <…> об одном только и мечтала всю жизнь – быть первою для другого человека <…> Дай мне показать тебе, какою я могу быть, когда меня искренно любят [Ковалевская 1974, 427].
Это признание действительно выражает жажду любви, которая владела Ковалевской всю жизнь, но которую сама она не способна была проявить. Вот почему об Алисе из второй части можно говорить как об идеализированной модели, в своем поведении реализующей то, о чем мечталось ее создательнице. Алиса жертвует ради Карла всем: именем, богатством, положением. Она побеждает обстоятельства, успокаивает рабочих, буквально за руку ведет Карла к его мечте. За нею остается последнее слово, которое она произносит, буквально возвысившись над остальными («Карл помогает ей подняться на возвышение и оставляет ее там» [Ковалевская 1974, 482]. И любопытно, что ибсеновский Сольнес погибает по пути на вершину, а Алиса остается жить).
Проявление в образе символических черт идеальной любви и жертвенного величия в свою очередь подтверждает наличие в пьесе еще одного признака «новой драмы»: «конфликтное противостояние бытового и бытийного», выражающееся в «столкновении сущностей, а не героев и событий» [Михайлова, Сушилина 2024, 63]. Недаром датский писатель Герман Банг прочитал пьесу исключительно как гимн любовному чувству: автор «с математическою точностью доказывает всемогущую силу любви, доказывает, что только она одна и составляет все в жизни, что только она придает жизни энергию или заставляет преждевременно блекнуть» [Воронцова 1959, 248]. «Поблекшие» герои действуют в пьесе «Как это было». Там все следуют «предначертанию», ложно понятому чувству долга, а не зову сердца, полного «наивной верой, которая не спрашивает, не рассуждает» [Ковалевская 1974, 433]. А во второй части, полагаясь на свою волю и подчиняясь сердечному велению, герои перестают быть игрушкой в руках судьбы, внешних сил.
Но в отношениях воссоединившихся влюбленных присутствует не только любовь. Алису и Карла сближает общая цель: желание с помощью изобретенной машины облегчить труд рабочих, создать рабочую ассоциацию, открыть в своем доме классы и читальню. Полноценно и соединение Паулы с Яльмаром:
они вместе будут заканчивать симфонию о водопаде, который символизирует народный гнев. «Исправляется» даже Марта: она начинает думать не только об уютном гнездышке с Эрнстом, но и о строительстве Дворца для тружеников и школе рукоделия для девочек. Отзвуки народничества и толстовства явственно ощутимы в этой части, что шло, конечно, от Ковалевской. А вот буржуазные способы разрешения общественных противоречий в духе филантропических порывов привнесла Леффлер.
Итак, в двух частях драмы одни и те же персонажи приходят к разным финалам только потому, что в какой-то момент они начинают действовать вопреки установленным правилам. В пьесе «Борьба за счастье» поднимается и решается вопрос, в какой степени герои могут изменить свою судьбу, «как меняется поведение системы при вмешательстве мыслящего и чувствующего существа» [Мариевская 2006, 113], то есть при участии воли человека. «Даже незначительный поступок героя <…> в мгновения неустойчивости» (это тот самый «пучок», от которого отходят «ветви») вызывает «необратимые изменения глобального характера» [Мариевская 2006, 113]. Это придает второй части несколько умозрительный характер, но эта же морализаторская установка обусловила философское звучание пьесы.
Вышеуказанные изменения в поведении героев отразились в первую на их выборе. Вопрос о выборе, случайности, предрешенности и свободе воли – один из самых животрепещущих в философии. Остро звучит он у родоначальника экзистенциализма С. Кьеркегора, который считал, что «выбор сам по себе имеет решающее значение для внутреннего содержания личности <…> если же она не выбирает, то чахнет и гибнет» [Киркегор 1994, 234]. Датский философ приравнивал выбор своей сущности ко второму рождению человека. Когда Карл отказался быть соучастником в нечестной конкурентной борьбе, когда он ощутил, сколь важно улавливать чувства других людей, когда осознал, как важно продолжить дело отца, когда Алиса перестала отталкивать от себя близких и отказалась искать любви и внимания у тех, кто ее не любит, когда Паула осознала свою самоценность, они обретают себя, обретают «свободу от непосредственного отношения к действительности, а тем самым от меланхолии и связанного с нею отчаяния» [Гайденко 1970, 153]. Мы бы сказали, что герои приподнимаются над действительностью, становятся как бы «над» обстоятельствами, обретают душевное равновесие. Через акт выбора, они на самом деле выбрали себя, нашли себя, и определили «свой принцип веры», то есть отнеслись «всерьез к собственным поступкам» [Гайденко 1970, 153].
Ковалевская, опираясь на математические данные, близко подошла к экзистенциальной трактовке понятия свободы выбора. Ведь, как справедливо пишет современный исследователь, «экзистенциальная философия много старше экзистенциализма, заявившего о себе, как мы знаем, в 20-х – 30-х гг. ХХ в. Экзистенциализм – это публично предъявленная экзистенциальная философия, откликающаяся на предельно напряженную социально-политическую ситуацию; она ищет публицистических выражений и через них становится направлением (течением) философской и общественной мысли» [Соловьев 2022, 271]. Но она явно нащупала некоторые положения, которые будут развернуты философами-экзистенциалистами. Ее герои во второй части устремлены «к будущему», проецируют «себя в будущее» [Сартр 1990, 323], а значит, творят себя. В них не происходит никаких изменений, «все особенности» их «психического склада, темперамента, все <…> индивидуальные черты остаются теми же» [Гайденко 1970, 158], но, тем не менее, они становятся другими, достига- ют возрождения самим актом выбора. Н.А. Бердяев напрямую связывал обретение свободы с переходом в область созидания: «Освобождение наступает, когда выбор сделан и когда я иду творческим путем» [Бердяев 1991, 61]. Итак, нащупав единственную возможность («ветвь») среди бесконечного числа возможностей («ветвей», отходящих от «кривой линии»), герои данной драмы ощутили свою личность, то есть такую, которая «сама создает свою судьбу, она не принимает ее как бы из рук провидения, она сама есть свое провидение…» [Гайденко 1970, 152].
Кьеркегор был убежден в необходимости «истинного отчаяния» для постижения «истинной сущности жизни, как бы прекрасна и радостна ни была его собственная» [Киркегор 1994, 289]. Переживая «истинное отчаяние», человек развивает в себе бесконечное стремление к созиданию, изменению и искуплению. В первой части главные герои предались «истинному отчаянию». Они добились умения видеть «абсолютное различие добра и зла» [Гайденко 1970, 162] в финале второй. Алиса и Карл реализуют то, что Ковалевская считала идеалом в супружеских отношениях и в отношениях между рабочими и хозяевами. Она рисует общество, где люди могли бы друг друга понимать, уважать и ценить. Именно такое стремление к абсолюту и совершенствованию связывает пьесу Ковалевской с экзистенциальной философией и традицией утопии в литературе.
В конце XIX – начале XX в. наступил «период панутопизма, обусловленного как затяжным социально-экономическим кризисом, катастрофически “разрешившимся” в трех революциях, так и крушением религиозной веры, спровоцировавшим расцвет оккультизма и мистики» [Павлова 2006, 3]. Возникновение неклассической науки (а Ковалевская явно причастна к этому), изменение парадигмы познания также активизировали интерес к утопии. И в драме «Как могло бы быть» можно усмотреть черты этого жанра, что опять-таки связано со стремлением Ковалевской заглянуть в будущее, предвосхитить его, приблизить… В последнем акте этой пьесы символичным становится движение под воздействием водопада колеса созданной Карлом машины. Оно «начинает двигаться, сначала медленно, потом все быстрее и быстрее и, наконец, полным ходом» [Ковалевская 1974, 478]. Почти на глазах зрителя рождается новый мир – земной рай, где все равны, где нет разницы между богатыми и бедными, у каждого есть работа, на всех хватает продуктов. А дом-дворец, отданный в распоряжение рабочих, очень напоминает четвертый сон Веры Павловны из «Что делать?», где также фигурируют дома из стекла и железа. Так наглядно продемонстрировано в пьесе ускорение хода истории.
Но «утопия» двух писательниц оказывается гораздо радикальнее той, что предлагалась Чернышевским. Она даже приобретает религиозно-мистические оттенки. В Карле можно прозреть христианского святого и даже самого Иисуса, тем более что он оказывается близок к смерти, когда злобная толпа рабочих готовится буквально растерзать его. Он же хочет привести людей к новому небу и новой земле. В пьесе впрямую возникают имена бога и дьявола. Работяги уверены, что Алиса и Карл «навлекли божье наказание на себя» [Ковалевская 1974, 473]. А Карлу приходится «призвать на помощь самого дьявола» [Ковалевская 1974, 477], чтобы спастись от их гнева. Так, под пером писательниц история Алисы и Карла обретает черты жития святых. А их деяния напоминают чудеса. Большое колесо, двигаемое силой электричества, символизирует рождение чуда. Ранее оно двигалось силой водопада, и это вдохновило Яльмара на создание симфонии, которую он хочет озаглавить «Водопад». В центре ее будет поток, который сольется с другими, и их «мощное многоголосье» будет слышно «отовсюду, со всех концов земли» [Ковалевская 1974, 428]. Можно усмотреть в этом отсылку к партесному пению, разрабатываемому в православной церковной музыке. А поскольку звук водопада покроет звучание оркестра «своим высоким серебристым тоном» [Ковалевская 1974, 428], то естественно возникает: «Не голос ли это Бога?».
Вообще, думается, что обращение к символике водопада не выглядит случайным. Напомним, что в Псалме 41: 8 говорится: «Бездна бездну призывает голосом водопадов Твоих; все воды Твои и волны Твои прошли надо мною». Тогда символический эпизод можно интерпретировать как предвидение земного рая, где мощные воды всех водопадов земли сольются воедино. А в конце, когда Яльмар и Паула решают совместно завершить создание симфонической поэмы «Водопад», возникает предвидение духовного возрождения героев.
В плане преображения и перерождения человека только в средневековом религиозном театре в «мираклях» встречалось подобное построение. Миракль заимствовал свои сюжеты из легенд о святых, и – что показательно – не чуждался быта. Быт «был вполне законным элементом представления», «святые “совершали чудеса” в обычной житейской обстановке» [История западноевропейского театра 1956, 42]. Такое «внедрение» чуда в бытовую жизнь обнаруживается и в этой пьесе. Чудесной является своевременная смерть отца Алисы, чудесно объявление ее наследницей, чудесен отказ Яльмара от владения доставшимся имением. Только в мираклях к чуду причастны небесные силы, а в пьесе герои сами актом выбора преображают себя. Следует напомнить, что Алиса в этой пьесе ждет ребенка. А вот это уже прямая обращенность к будущему.
Смешение различных пространств и нелинейный хронотоп также являются общими чертами миракля и пьесы Ковалевской. В мираклях, пишет исследовательница этого жанра, «быт настойчиво вторгался в таинство, обмирщляя его», и поэтому «смешение “земного” и “небесного”, а иногда и “адского”, порождает новое пространство», которое «обладает всеми признаками реальности» [Романова 2000, 14]. Хотя «хронотоп миракля» на самом деле «ближе хронотопу иконы, чем собственному реальному времени» [Романова 2000, 15], но в исторической перспективе и на иконе постепенно все более тщательно прописываются детали происходящего.
Точно так же происходит и в пьесе «Борьба за счастье». Время там не движется в одном направлении, а раздваивается в определенной точке – конце пролога. С этого момента оно течет как бы в двух параллельных мирах – реальном и альтернативном. Но на самом деле события в обеих частях друг с другом тесно связаны, они образуют сеть, а не параллельные линии, что и происходит в теории Пуанкаре о дифференциальных уравнениях (и подтверждается экспериментом «Кот Шрёдингера» в рамках квантовой механики, где система «решает», в каком состоянии окажется в конце концов кот). Но автор «оформляет» математический посыл художественно: поэтому в первой пьесе реалистичный трагический финал выдвинут на передний план, а во второй гипотетический идеальный отнесен все же в будущее, и электродвигатель машины находится за сценой.
Указав на эти моменты, смело можно утверждать, что Ковалевская создала новаторскую драматическую форму. Ведь гипотетическое развитие событий в театре не практиковалась. Такие новации предсказали технологические новшества современных кинематографических и театральных произведений.
Сегодняшние технологии дали бы возможность поставить обе пьесы или одновременно, или перемежая их действия. А еще лучше было бы использовать полиэкран. Ковалевская же в конце XIX в. уже попыталась дать в театре гипотетический мир и динамические процессы, которые начинают осознаваться гораздо позже. А с точки зрения погружения зрителя в происходящее, ставя его как бы перед выбором, она предсказала появление, например, иммерсивного театра, компьютерных ролевых игр, для которых характерно стирание граней между субъектом, «Я» зрителя или игрока, и объектом – то есть театром или игрой. Следя за разнонаправленными действиями в двух пьесах, зритель как бы сам вынужден выбрать один из двух финалов.
Сложный эмоциональный пласт пьесы также может быть сопоставлен с мираклем – «Чудо о Теофиле» (написан около 1261 г.; русский перевод А.А. Блока под названием «Действо о Теофиле» появился в 1907 г.):
Главной темой этого произведения являются искушение и борьба с ним. <…> автора занимает проблема раскаяния грешника, его бесконечные терзания и переживания, которые приравнивают обычного клирика к пророкам и святым, прошедшим тот же путь [Романова 2000, 17].
Идея раскаяния и переживаний организует и анализируемое произведение. Она во многом инициирована экзистенциальным содержанием пьесы, ибо раскаяние у Кьеркегора сопутствует осуществлению выбора «в качестве основного настроения» [Гайденко 1970, 152]: раскаиваясь, «человек мысленно перебирает все свое прошлое <…> и наконец доходит до первоисточника, до самого Бога, и тут-то и обретает и самого себя» [Киркегор 1994, 299] и, следовательно, начинает ощущать огромную ответственность. Но была еще и личная причина: Ковалевская явно испытывала чувство раскаяния, когда приступала к работе над пьесой – ведь недавно произошла трагедия с ее мужем. «Кому не приходилось в жизни раскаиваться в важном, необдуманном шаге, и кто не раз желал начать жизнь сызнова!» [Леффлер 1893, 215], – признавалась она подруге.
Если бы обе части пьесы были поставлены, то перед зрителем представала бы полная история чуда о грешнике, который не может устоять перед искушением и грешит, затем раскаивается и в конце концов чудесным образом возрождается и искупает свою вину. Герои «Борьбы за счастье» проходят тот же путь, что и святые и пророки в мираклях.
Как видим, математический импульс, подтолкнувший к созданию пьесы, все время корректировался писательской интуицией Ковалевской, в которой огромную роль сыграл ее собственный женский опыт. Пьеса была рождена болью женщины, стоявшей перед дилеммой: что выбрать – карьерный рост или женское счастье. Неутоленная жажда любви, неудачи в личной жизни, серьезная болезнь сестры, Анны Васильевны Корвин-Круковской (см.: [Леффлер 1893, 214–215]), к которой была очень привязана и которая страдала от невнимания мужа, подвигает Ковалевскую к осознанию того, что женщине трудно состояться в условиях патриархатного общества, почти невозможно реализовать свой творческий потенциал. Иными словами, в ней рано пробудилась «новая женщина», которая «вечно волновалась, кипела, добивалась чего-нибудь и искала» [Колтоновская 2020, 205] и постоянно «страдала от выпавшего на ее долю одиночества» [Колтоновская 2020, 206], которое даже усугубила при- шедшая к ней довольно поздно любовь к яркому ученому М.М. Ковалевскому, отношения с которым складывались очень непросто. Идеального союза, о котором она мечтала, не получилось. К тому же, Ковалевский не верил в ее литературный талант, что не могло ее не ранить. Поэтому в пьесе выражена надежда Ковалевской осуществиться в иной ипостаси: ее Алиса не только любима Карлом, но и вдохновляет его, и сама совершает подвиг. Леффлер была уверена, что та нарисовала Алису, «какой она сама представляла себя, какой мечтала быть в том случае, если бы ей встретилось в действительной жизни так пылко желаемое ею счастье, и если бы ей предоставлено было сделать тот или иной выбор» [Леффлер 1893, 229]. Но и Паула, и Марта начинают по-новому осознавать себя, выбирая себе таких спутников жизни, которые смогут ценить их самостоятельность и индивидуальные черты: Паула добивается, чтобы Яльмар начал давать публичные концерты и стал бы зарабатывать себе на жизнь, а Марта соединяется не просто с любимым, а с тем, кто тоже оказался причастен к научному открытию. Поэтому не только Алису можно назвать «новой женщиной», которая находит пути к разрешению конфликтов (она явно благотворно влияет на Карла, которому свойственны жесткость и строптивость, смягчает его нрав), но и они тоже «в большей или меньшей степени иные, “ненормальные”, исключения из правил», они по-своему пытаются утверждать «ценность и значимость собственного женского Я» [Савкина 2007, 401].
Ковалевская совместно с Леффлер предложили новое видение фемининности, при которой не утрачиваются «жизненные инстинкты» и сохраняется «все “женское”» [Михайлова, Назарова 2023, 276]. Именно поэтому пьеса заканчивается публичным выступлением перед рабочими ждущей ребенка, буквально спасшей мужа Алисы, что символизирует обретение женщиной власти и права. Ее мышление и поступки оказываются более прогрессивными, чем поведение мужчин. И в этом явно заключен пророческий посыл пьесы «Как могло бы быть».
Все сказанное выше доказывает, что обе части пьесы существуют как единое целое. Без первой части пьеса «Как могло бы быть» выглядит искусственной и дидактичной. Без второй части драма «Как было» неотличима от многочисленных пьес, толкующих о семейных неурядицах. Без первой части остается неуловима тонкая математическая логика и пророческая женская интуиция автора. Без второй части пьеса тонет в бытовых подробностях.
Неудивительно, что именно вторая часть была выбрана для постановки на русской сцене в 1893 г. Она просто идеально вписывалась в общее направление социальной драмы, которая все более приобретала популярность («Ткачи» Г. Гауптмана появились за год до этого) и отвечала ожиданиям изголодавшейся публики хотя бы на сцене увидеть чаемые перемены в общественной жизни. Поэтому молодая Лидия Яворская для своего бенефиса в театре Корша (подробнее см.: [Щепкина-Куперник 1951, 133–154]), куда только что поступила, выбрала именно ее. И неважно, что авторский замысел был нарушен (как помним, желание авторов было твердо: обе пьесы должны были даваться в два вечера, одна за другой), что пропала философская составляющая сочинения. Успех был обеспечен, театр заполнила революционная молодежь, галерка неистовствовала.
О постановке как о ярчайшем событии вспоминала Т.Л. Щепкина-Купер-ник. Пролог был сохранен. Декорации воспроизводили праздник накануне ночи под Ивана Купалу. Встретившиеся после учебы подруги – Алиса, Паула, Марта – в белых платьях символизировали надежды юности. Звуки музыки, горящие вдалеке костры подчеркивали романтическое настроение. Но оно быстро заканчивалось, так как суровая реальность в лице аристократа-барона разрушала идиллию молодых сердец. Такие простолюдины, как Карл и Эрнст не должны быть вхожи в аристократическое семейство. Поэтому становилось сыро и холодно, манящие огни гасли…
В основной части постановки было усилено противостояние рабочих и хозяев. Алиса и Карл вызывают у них недоверие, капиталисты конкуренты подпитывают это чувство, возводя клевету на Карла. И все это, выглядящее наивным, рождало, по признанию Щепкиной-Куперник, необыкновенный отклик у зрителей, сопровождавших взрывали аплодисментов фразы о сплочении рабочих в союз или устранении ложных приличий. «Пьеса имела будирующее значение», под ее текст зрители подставляли «собственные ощущения и мысли» [Щепкина-Куперник 1951, 142]. Она воспринималась как призыв «освободиться от нравственной трусости и не приносить ей себя в жертву» [Щепкина-Куперник 1951, 137]. Но это означало, что новаторство пьесы не было уловлено постановщиком, что она была возвращена в лоно романтического театра наравне с «Рюи Блазом» Гюго и «Овечьим источником» Лопе де Веги. Это еще раз доказывает, что в жизни неудачи встречаются намного чаще, как и было показано в драме «Как было», а «борьба за счастье» далеко не всегда увенчивается победой.