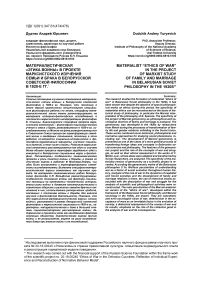Материалистическая "этика войны" в проекте марксистского изучения семьи и брака в белорусской советской философии в 1920-е гг
Автор: Дудчик Андрей Юрьевич
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 12, 2020 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена изучению становления материалистической «этики войны» в белорусской советской философии в 1920-е гг. Показано, что, поскольку в этот период практически отсутствуют специальные философские работы по этике, специфику материалистической этики можно реконструировать на материале историко-философских исследований, в частности марксистской интерпретации философии Б. Спинозы. Анализируется специфика проекта марксистской генеономии - философско-социологического учения о семье и браке, развивавшегося в 1920-е гг. исследователями из Минска на фоне разворачивающихся в Советском Союзе процессов трансформации семейной жизни и гендерных отношений, поскольку в этих работах сочетаются социально-исторический и философско-нормативный варианты изучения социальных явлений, в том числе и войны. Развитие марксистской генеономии рассматривается как один из случаев более общего процесса трансфера зарубежных идей и концепций в белорусские социальные науки и философию. Рассмотрены особенности генеономического проекта и роль понятий войны и борьбы, а также их этическая оценка в работах Ф. Мюллера-Лайера, чьи идеи были восприняты и трансформированы советскими исследователями. Выявлена специфика материалистической версии генеономии как научного проекта. На материале генеономических работ белорусского философа С.Я. Вольфсона реконструированы: особенности понимания войны как фактора социальной эволюции на протяжении человеческой истории; анализ роли войны в динамике капиталистического и советского обществ и развитии семейно-брачных отношений в них; использование риторических средств, связанных с описанием войны и борьбы для анализа научной и философской деятельности. Показано, что для марксистско-материалистической версии «этики войны», развиваемой в рамках белорусской советской философии и марксистской социологии в 1920-е гг., характерны: натуралистическое и даже в большей степени социологизаторское рассмотрение войны; детерминизм в принятии войн как неизбежного фактора эволюции общества; диалектическая оценка причин войны и ее результатов; акцент на роли коллективного блага при анализе войны и ее последствий.
С.я. вольфсон, с.з. каценбоген, ф. мюллер-лайер, генеономия, марксистская социология, социология семьи, материалистическая этика, этика войны, борьба
Короткий адрес: https://sciup.org/149134745
IDR: 149134745 | УДК: 1(091):347.61(474/476) | DOI: 10.24158/fik.2020.12.3
Текст научной статьи Материалистическая "этика войны" в проекте марксистского изучения семьи и брака в белорусской советской философии в 1920-е гг
Данная статья является составной частью исследования репрезентации войны в белорусской культурной традиции ХХ в. с целью выделить ключевые понятия и идеи, характеризующие «этику войны» в белорусской культуре. События, связанные с военными действиями во время Первой мировой войны и Гражданской войны, оказали существенное влияние на социальные, политические, культурные процессы на белорусских территориях, в частности П.А. Рудлинг отмечает существенную роль фактора войны и наличия фронтовой линии в успешном становлении белорусского национального движения [1]. Период 1920–30-х гг. в советской Белоруссии предоставляет достаточно обширный материал для изучения темы войны: художественная литература, периодические издания, посвященные военной тематике, находящаяся в процессе становления традиция советской марксистской философской и гуманитарной мысли. В последней особое внимание было уделено проекту социологического изучения вопросов семьи и брака (генео-номии), поскольку в этих текстах сочетаются социально-исторический и философско-нормативный варианты анализа социальных явлений, в том числе и войны. Достаточно подробное обращение к теме войны в рамках марксистского анализа семьи и брака, на первый взгляд, является неожиданным, но вместе с тем позволяет сделать предположение о значимости этой темы для белорусской советской интеллектуальной культуры 1920-х гг. Поскольку в советской философии 1920-х гг. вопросы этики обсуждались преимущественно в рамках общефилософских дискуссий [2, с. 180], то можно предположить, что рассуждения о войне в рамках марксистской генеономии являются одним из наиболее теоретически проработанных и философски нагруженных вариантов концептуализации «этики войны» в рамках белорусской советской философии. Для решения основной цели – реконструкции «этики войны» в белорусской советской философии 1920-х гг. – в статье будут последовательно рассмотрены: общефилософские представления об этике в белорусской советской философии; специфика проекта марксистской генеономии как варианта материалистического изучения этики семьи и брака; реконструкция этических представлений о войне на материале советской генеономии в работах С.Я. Вольфсона.
Период 1920-х гг. – время становления новых социальных наук и марксисткой философии в Советском Союзе. Именно тогда начинает возникать дисциплинарное деление в рамках советской философии и разрабатывается содержание учебных курсов по марксистской философии. Вместе с тем целый ряд направлений исследований, популярных в 1920-е гг., в дальнейшем в силу разных причин не вписались в формирующийся канон советской науки. К подобным направлениям относится и проект марксистской генеономии – социологического изучения проблем семьи и брака. Он активно развивался группой ученых в Минске в 1920-е гг. на фоне разворачивающихся в Советском Союзе процессов трансформации семейной жизни и гендерных отношений [3], которые некоторые исследователи характеризуют как советский вариант «сексуальной революции» [4]. Несмотря на его популярность в 1920-е гг., марксистский генеономический подход, как, впрочем, и зарубежный вариант генеономии, не получил дальнейшего развития, даже сам термин не использовался для обозначения области советской науки. Так, в «Философском словаре» 1963 г. просто сообщается: «Генеономия (греч. – род и закон) – раздел буржуазной социологии, посвященный вопросам семьи и брака» [5]. Тем не менее работы по данной тематике сегодня рассматриваются как важный этап становления социологических исследований семьи и брака в белорусской и советской науке [6, с. 316–322]. В целом генеономию можно охарактеризовать как часть советской марксистской социологии, которая достаточно бурно развивалась в 1920-е гг., но в дальнейшем оказалась под запретом и была фактически замещена историческим материализмом, институционально возродившись в 1950–60-е гг.
Марксистская социология в Советском Союзе развивалась в тесной связи с марксистской философией и часто социологи-генеономисты были одновременно известны и как философы-марксисты, например, Семен Яковлевич Вольфсон (1894–1941), автор одного из первых курсов философии диалектического материализма [7]. Как показали предыдущие исследования, белорусские марксистские философы и социологи испытывали значительное влияние зарубежных идей, и существенным фактором развития белорусской советской философии и социологии являлся процесс трансфера зарубежных идей и концепций [8]. Не является исключением и рассматриваемый случай марксистской генеономии.
Для лучшего осмысления концепции «этики войны» в проекте генеономии следует обратиться к общему пониманию этики в работах С.Я. Вольфсона. Как правило, в 1920-е гг. этическая проблематика в Советском Союзе рассматривалась в рамках более общих социально-философских концепций, основой для которых выступала марксистская философия - диалектический материализм и марксистская социология (позднее замененная историческим материализмом). И хотя у Вольфсона, как и у большинства советских философов рассматриваемого периода, нет специальных работ по этике, но достаточно полное представление о его взглядах дает работа «Этическое миросозерцание Спинозы», в которой он не просто описывает основные черты философских представлений об этике, но, подчеркивая их значимость для современности, фактически с ними солидаризируется. К этим чертам он относит: натурализацию социальных отношений и этических норм (разрушение «антропоцентрической фикции»); утверждение принципа детерминизма с признанием необходимого в качестве централь-ной категории; приоритет сущего над должным; отказ от представления об абсолютных целях; дефетишизацию морали и ее происхождения и, как следствие, дефетишизацию самой этики, что делает ее подлинно научной («…для нас дефетишизированная этика есть единственно научная и единственно возможная» [9, с. 9]); представление о том, что «стремление к сохранению своей сущности, борьба за существование… является безапелляционным правом человека, опирающимся на верховный и всеобщий закон природы» [10, с. 8], а самосохранение представляется основным стимулом поведения человека, детерминирующим «все наши представления о счастье и несчастье, добре и зле» [11, с. 8]; диалектический подход к проблемам нравственности, за который Спинозу несправедливо, по мнению Вольфсона, обвиняли в этическом релятивизме; социальное (трансформация эгоистических инстинктов в социальные) и «земное» понимание этики; эвдемонистический характер этического учения, акцент на стремлении человека к счастью; активную позицию человека как субъекта этической деятельности.
Сам термин «генеономия» (вероятно, впервые введенный в научный оборот естествоиспытателем и философом Э.Г. Геккелем) активно использовал немецкий социолог Франц Карл Мюллер-Лайер (вариант написания, принятый в изданиях 1910-20-х гг., - Мюллер-Лиэр). Поскольку в русскоязычных источниках мало информации об этом ученом, то имеет смысл привести краткие сведения о нём. Ф. Мюллер-Лайер (1857-1916) родился в г. Баден-Баден, изучал медицину в Страсбурге, Бонне и Лейпциге, психологию и социологию - в Берлине, Вене, Париже и Лондоне. В качестве врача работал с Э.Г. Дюбуа-Реймоном и Ж.М. Шарко. Сегодня он известен как открыватель оптического эффекта, возникающего при наблюдении обрамленных стрелками отрезков и носящего его имя («иллюзия Мюллера-Лайера»). Но значительно меньше известны его весьма популярные среди современников социологические работы, в которых исследователь разрабатывал научную эволюционистскую концепцию культуры, опираясь на идеи позитивизма, марксизма и теории эволюции. Тем не менее в 2019 г. крупным британским научным издательством «Routledge» в серии «Routledge Revivals», посвященной малоизвестным сегодня классическим работам прошлого, бы-ла переиздана его работа «Семья», переведенная на английский в 1931 г. Будучи в целом приверженцем социалистических воззрений, Мюллер-Лайер рассматривал со-циализм на основе идей «социального индивидуализма» как реально достижимую цель эволюции общественных отношений, как способ удовлетворения стремления человека к счастью и совершенству («принцип эйфории» или «эйфористической философии») [12]. И хотя сегодня имя Мюллера-Лайера известно лишь узким специалистом, в свое время его работы были весьма популярны и авторитетны, так, например, исследователи отмечают влияние идей Мюллера-Лай-ера на известного немецкого архитектора и теоретика искусства, одного из основателей «школы Баухаус» Вальтера Гропиуса [13, р. 50]. В 1920-е гг. работы Мюллера-Лайера издавались на русском языке [14], а еще до революции вышли переводы книг «Формы брака, семьи и родства» и «Фазы любви» [15], входящих в его трехтомное исследование проблем семьи и брака. В «Формах брака, семьи и родства» содержатся основные идеи его проекта социологической генеономии.
Генеономические идеи Мюллера-Лайера были достаточно хорошо известны исследователям в Белорусской Советской Социалистической Республике и в 1920-е гг. активно использовались и развивались при анализе семейно-брачных отношений. Вероятно, одно из первых упоминаний генеономии в рамках советского проекта марксистской социологии встречается в статье Соломона Захаровича Каценбогена (1889–1946) «Спорные вопросы генеономии». Каценбоген, как и Мюллер-Лайер, рассматривает генеономию как область социологии, которая, по его мнению, находится в несомненном кризисе, связанным с ее спекулятивным характером («…внутрен-ним недугом, разъедающим современную социологию, является чрезвычайное ее пристрастие к отвлеченным дедукциям и метафизической схоластике» [16, с. 282]), что проявляется в «социологическом вербализме» и «болтологии». Выход из этой кризисной ситуации он видит в ориен- тации социологии на эмпирические исследования с использованием методов и результатов истории, археологии и этнографии и общей ориентации на материалистическую методологию. Не претендуя на исчерпывающее рассмотрение и решение этих вопросов, Каценбоген дает критику ряда современных работ и настаивает, что проблемы семьи и брака должны пониматься прежде всего как социально, а не биологически обусловленные. В более поздних работах термин «генеономия» и его производные, как правило, используются без дополнительных пояснений, как прочно вошедшие в научный оборот, например, в статье сотрудника Белорусского государственного университета Бернарда Эммануиловича Быховского (1901–1980) «Генеономические воззрения Фрейда», в которой автор критикует взгляды Фрейда за биологизаторство, «сексуоморфизм» и недооценку роли социальных факторов [17, с. 194].
Как уже отмечалось, в работах по генеономии советского периода достаточно подробно рассматривается проблематика войны, что, впрочем, характерно и для Мюллера-Лайера. В его текстах часто встречаются два понятия: «борьба» (der Kampf) и «война» (der Krieg), кроме того, хотя и значительно реже, встречается термин «вражда» (die Feindschaft). Борьба рассматривается как фундаментальный фактор эволюции человека. Так, Мюллер-Лайер отмечает, что человек постоянно ведет борьбу за существование (der Kampf ums Dasein), а это, в свою очередь, приводит к развитию индивидуального начала: «…человек ведет борьбу с природой как социальное существо, борьбу с обществом, с другой стороны - как индивид, который жаждет освободиться от племенных уз и связей; это стремление мы называем индивидуализмом» [18, s. 314]. Как следствие специфического варианта межполовой борьбы («всемирно-исторической борьбы между мужчиной и женщиной» [19, s. 93]) рассматривает Мюллер-Лайер и становление семейнобрачных отношений. Он пишет: «…эта борьба происходит ежедневно во всем мире, в ней участвуют миллионы борцов обоих полов (von Millionen von Streitern und Streiterinnen), вероятно, она закончится только с достижением равенства полов» [20, s. 93]. Достижение этого равенства и возможность реализации индивидуального начала и предполагал его социальный проект, включавший в том числе и реформирование семейных отношений. В целом можно отметить, что Мюл-лер-Лайер рассматривает войну как проявление особенной естественно-исторической склонности человека, усиленной в рамках процесса эволюции человеческих сообществ. С морально-этической точки зрения он оценивает войну негативно - как ограничение для человеческого счастья и свободы. По его мнению, в процессе нравственной эволюции и эмансипации общество будет способно сначала минимизировать, а в дальнейшем и отказаться от ведения военных действий.
Обратимся к пониманию войны и ее роли в эволюции человеческого общества в работах советских социологов на примере книги С.Я. Вольфсона «Социология брака и семьи» как наиболее объемного и систематического источника. Если обратиться к понятию борьбы, то оно используется Вольфсоном достаточно часто и в разных значениях. Во-первых, он регулярно ссылается на других исследователей, которые пишут о борьбе как факторе эволюции человеческого общества в целом и семейно-брачных отношений в частности: неоднократно упоминающегося в книге российского историка и социолога М.М. Ковалевского (борьба с дикими зверями и другими людьми), З. Фрейда (борьба сыновей с отцом), Г. Эйльдермана (борьба за существование и за расширение источников питания), Дж. Дж. Фрейзера (коллективная борьба за существование). Во-вторых, Вольфсон рассматривает борьбу за существование как определяющий фактор развития полового инстинкта в целом у человека и других живых существ и становления семейнобрачных отношений: «Инстинкт сохранения вида вырабатывается в процессе приспособления каждого животного вида к окружающим его в борьбе за существование условиям» [21, с. 40], «...животный мир на ступенях, неизмеримо далеко отстоящих от человека, создал уже семейнобрачную организацию, причем характер этой организации у каждого животного вида изменяется в зависимости от того естественного окружения, от тех условий борьбы за существование, в которых данный животный вид находится» [22, с. 31]. В-третьих, при рассмотрении положения семьи в феодальном и капиталистическом обществах наблюдаются различные формы социальной борьбы: борьба с падением нравов, борьба женщин за свои права и т. д. Однако эти формы борьбы, как пишет Вольфсон, не затрагивают социально-экономической основы явлений, с которыми они борются, и поэтому с неизбежностью обладают половинчатым, недостаточным характером: «…после лицемерных попыток борьбы с общественной безнравственностью и противным духу истинного христианства развратом феодальное государство начинает самым бесцеремонным образом использовывать (здесь и далее сохранена орфография оригинала. - А.Д.) проституцию, как эксплоатируемый государством промысел и важный источник фискального обогащения» [23, с. 226], «…борьба за женские права, всякая борьба с проституцией в условиях капитализма - это поединок с ветряными мельницами» [24, с. 300]. В-четвертых, это борьба между «старыми» и «новыми» формами человеческого общежития, в том числе и в семейной сфере, о чем Вольфсон пишет со ссылкой на работы Г.В. Плеханова. В-пятых, это революционная борьба с капитализмом, которая затрагивает и половую сферу: «…капитализм сексуализировал искусство, пропитал элементами сексуальности всю общественную жизнь. Он прибегает к наркотически действующему эротизированию масс с той же целью, с которой он отравляет массы и другими наркотиками вроде религии, патриотизма, национализма, - с целью отвлечения их от борьбы с эксплоататорами» [25, с. 291]. И, наконец, в-шестых, особая форма революционной борьбы - борьба в области идей, в данном случае - материалистическая борьба за научную генеономию, т. е. генеономию, основанную на материалистическом понимании истории и использовании диалектической методологии. Основной соперник материалистической генеономии - ге-неономия буржуазная, отрицающая решающую роль материальных факторов в развитии семьи. Подчеркивая важную роль борьбы с идеалистическими воззрениями, Вольфсон регулярно использует ленинский термин «воинствующий материализм», в том числе однажды на латинском языке - «materialismus militans». Материалистический подход к таким феноменам, как семья и война, предполагает их рассмотрение с точки зрения исторического развития и «привязки» к конкретным периодам. Так, в текстах Вольфсона можно обнаружить упоминания о «буржуазной морали», «христианской морали» и т. д. В подобном ракурсе моральные аспекты конкретных явлений оказываются ограниченны-ми своей эпохой, выполняя как позитивные, так и негативные с точки зрения социального развития и классовой идеологии функции.
Рассматривая проблемы семьи и брака в современном ему западном обществе («на закате капитализма»), Вольфсон начинает с констатации колоссальной роли войны в трансформациях современного капиталистического общества, в том числе в области семейно-брачных отношений, ссылаясь при этом на американского социолога Э.Р. Гроувса, которого он характеризует как «одного из наиболее значительных американских социологов, исследующих современную семью» [26, с. 323]. В целом, по мнению Вольфсона, роль войны в трансформации брачно-семейной жизни сложно переоценить: «…война постоянно вносит изменения в область половых отношений - это факт, хорошо известный всякому социологу и политэконому. Война дезорганизует семью. Она прерывает семейные нити, толкает мужчину и женщину на мимолётные связи, создает кадры сопровождающих и обслуживающих армию проституток, рождает психологию “легкого” отношения к вопросам пола, развязывает сексуальные инстинкты. Она вырывает из рядов живущих значительный процент сильных и крепких мужчин, резко нарушая взаимоотношение между мужской и женской частью населения, пре-вращает большие кадры мужчин в калек и инвалидов, перестающих жить половой жизнью, несет за собой стихийное распространение венерических болезней. Как один из многочисленных результатов сопутствующей войне экономической разрухи увеличивается армия профессиональных проституток и женщин, для которых проституция является подсобным промыслом» [27, с. 323–324]. И далее Вольфсон пишет, что «о силе этого кризиса свидетельствуют многочисленные данные, относящиеся ко всем крупнейшим капиталистическим государствам - победителям, побежденным и нейтральным» [28, с. 324], ссылаясь на ряд немецкоязычных исследователей, наиболее известным из которых сегодня является Р. Михельс. Особенно, по мнению белорусского исследователя, военный кризис отразился на семейно-брачных отношениях в потерпевшей поражение Германии, «в стране, которую буржуазия неизменно считала колыбелью семьи, ее непоколебимой опорой, хранительницей священных семейных устоев» [29, с. 324]. Но, как отмечает Вольфсон со ссылкой на немецких авторов, в том числе в первую очередь К. Маркса и Ф. Энгельса, разрушительное влияние капиталистических отношений на семейную жизнь в Германии стало проявляться задолго до военных событий: «…елейные словечки и медоточивые восхваления немецкой семьи еще задолго до войны находились в вопиющем противоречии с капиталистической действительностью, усиленным темпом разлагавшей семью и расшатывавшей ее пресловутые “основы”» [30, с. 327]. Война в данном случае, считает Вольфсон, выступила в качестве катализатора кризисных процессов. Целый ряд исследований посвящен изучению вопроса о причинах существующего кризиса. Как отмечает Вольфсон, «все эти оценки - при всем их различии - сходятся в одном: они ищут виновника обрушившихся на семью бедствий, измышляют способы борьбы с этим мнимым виновником и рассматривают весь кризис как преходящее явление. Между тем то состояние, которое переживает теперь в капиталистических странах семья, является естественным и неизбежным результатом длительного исторического процесса, начавшегося с внедрением капитализма и достигшего исключительной остроты в послевоенные годы» [31, с. 335–336]. Таким образом, по мнению Вольфсона, события Первой мировой войны лишь ускорили объективный кризис в семейно-брачной сфере, связанный с масштабными социальными и экономическими изменениями. Более того, успешное экономическое и техническое развитие лишь усиливает кризисные процессы, которые равным образом проявляются как в странах-победительницах, так и в странах, потерпевших поражение: «...брачно-семейный кризис с особой остротой ощущается в Германии и СевероАмериканских Соединенных Штатах, т. е. в странах, на протяжении послевоенного десятилетия в своем техническом прогрессе перегнавших все другие капиталистические государства, и где, следовательно, факторы дезинтеграции семьи оказались наиболее действенными. Это, конечно, не значит, что в Англии, Франции, Италии и других государствах все обстоит благополучно» [32, с. 360]. Наиболее существенным следствием военных лет Вольфсон считает радикальное изменение в экономическом положении женщины, которая в силу колоссальных военных потерь среди мужчин вынуждена все более активно включаться в сферу производства и потребления, что является важным фактором распада семьи в капиталистическом обществе. Этот распад, в свою очередь, неизбежно ведет к появлению новых форм семейно-брачных отношений, выходящих за привычные границы, принятые в классовом обществе.
Так, рассуждая об отмирании буржуазной семьи, Вольфсон связывает завершение этого процесса с установлением социалистического строя, при котором семья должна утратить привычные социально-экономические функции: «С исчезновением капиталистических отношений семья, как частно-собственническая ячейка, как аппарат наследственного консервирования собственности, теряет смысл своего существования. Все те функции, которые семья в большей или меньшей степени отправляет в предсоциалистические эпохи, при социализме атрофируются. Социалистическое общество их “отчуждает”… Социализм несет с собою отмирание семьи» [33, с. 375].
В период Гражданской войны, которая выступает здесь как грозная, но одновременно мобилизующая сила, молодые люди находились «в подчинении всеохватывающей задачи борьбы за советский строй. Воля, мысль, вся нервная организация работали в одном направлении ведущейся не на жизнь, а на смерть борьбы. Вся психика молодежи была “начеку”. Личное, эгоистическое, индивидуалистическое стушевывалось пред коллективным, общественным, классовым. Даже асоциальные “шкурнические” элементы оказывались “зараженными” этим могучим коллективистическим порывом» [34, с. 418]. После окончания войны, напротив, происходит своеобразная «демобилизация» этого волевого порыва: «Нервное напряжение потеряло свою остроту, воля начала размагничиваться. Начало выпячиваться “Я” у классово-недисциплинированных и менее устойчивых единиц, властно требовавшее “компенсации” за годы самозабвения, лишений и вынужденного аскетизма. “Самовозмещение” пошло в первую очередь по линии “пола”» [35, с. 418]. Это привело к преобладанию в молодежной среде вульгарно-материалистических представлений и сведению отношений между полами «к голой физиологической связи» [36, с. 425].
Демонстрируя на разнообразных примерах и статистических материалах проблемы в области семейных отношений, с которыми сталкивается молодое советское общество, Вольфсон завершает свое исследование следующим выводом: «Кризис семьи переходного периода есть кризис перехода к новым формам половых отношений, реализация которых будет осуществляться по мере преобразования общества в социалистическое» [37, с. 444]. Он делает несколько предположений преимущественно отрицательного характера, обосновывая их использованием материалистической методологии: в будущем брак не будет строиться на основе расчета, не будет основываться на подавлении одного пола другим, не будет с необходимостью связываться с созданием семьи, не будет контролироваться со стороны общества, будет базироваться на внутреннем чувстве и совместной склонности. Тем не менее в области брака могут сохраниться определенные аспекты, которые будут продолжать требовать общественного контроля евгенического характера: «Единственное проявление общественного контроля над браком мыслится нами лишь в евгенических целях. Социалистическое общество, вероятно, будет обеспечивать себя от потомков сифилитиков, алкоголиков и лиц, одержимых другими наследственно передаваемыми болезнями. И это будет тем возможнее, что у нас есть все основания предполагать, что ко времени социализма деторождение будет уже изъято из-под власти стихии и станет объектом сознательного регулирования со стороны людей. Мы видели выше, что современные американские социологи (имеются в виду работы американского судьи и реформатора Б. Линдси (Линдсея), инициатора введения ювенальной юстиции и практики компаньонского, или товарищеского, брака. – А.Д. ) считают это регулирование почти осуществимым уже в настоящее время. Но это, повторяю, единственная сторона брака, которой, по нашему мнению, сможет коснуться контроль социалистического общества. Во всем остальном брак будет для него частным делом» [38, с. 449–450].
Свои прогнозы о будущем брака и семьи при социализме Вольфсон завершает емкой формулировкой вывода о том, что брак будет союзом индивидуальной любви, а семья отомрет. Здесь нужно подчеркнуть, что идея отмирания семьи среди советских идеологов была достаточно распространенной в послереволюционный период [39, р. 45–46]. В последующих работах Вольфсон откажется от этого тезиса как «антимарксистского». Если же сравнивать работы Вольфсона 1920-х и 1930-х годов, то можно отметить, что в более поздних текстах тема войны в целом представлена значительно меньше.
Подведем краткие итоги. Марксистская генеономия как вариант более общего проекта марксистской социологии в БССР в 1920-е гг. развивается под существенным влиянием зарубежных концепций эволюционистской социологии семьи и брака, прежде всего работ Ф. Мюллера-Лайера. Это влияние следует рассматривать как пример более общего процесса трансфера зарубежных идей и концепций в белорусские советские социальные науки и философию. Как и в работах Мюллера-Лайера, в советском учении о семье и браке важную роль играют представления о войне, эксплицированные в понятиях «борьба» и «война». При этом развитие и переосмысление проблем войны происходит во многом за счет смещения морально-этических акцентов в советской версии генеономии. Советская генеономия отходит от рассмотрения борьбы как базовой характеристики человеческого существования, предлагая набор вариантов понимания борьбы. Так, в книге С.Я. Вольфсона по марксистской генеономии дается целый ряд значений понятия «борьба»: как фактор развития полового инстинкта у живых существ в целом; фактор эволюции семейно-брачных отношений и семейно-брачной этики; форма социальных конфликтов в несоциалистических обществах; конфликт между старыми и новыми формами человеческого общежития; конфликт между социализмом и капитализмом, который затрагивает и сферу половой жизни; форма противостояния в области идей. Война при этом понимается как один из ключевых факторов общественного разделения труда и сфера, закрепляющая доминирование одного из полов и формирующая соответствующую этику семейных и любовных отношений. Можно отметить, что в советской генеономии (как и в советском социально-философском дискурсе в целом) происходит определенная социологизация этических вопросов, рассмотрение их с позиций классовых интересов и социального экспериментирования. Подобный подход к анализу социальных явлений позволяет, например, рассуждать о закономерном отмирании семьи как о явлении исторически оправданном. Напротив, война оценивается вполне нейтрально и даже позитивно, если она способствует прогрессивному общественному развитию.
Для описания идейной борьбы активно используется военная лексика: «война», «фронт», «авангард». Отдельно стоит отметить использование понятия «воинствующий материализм», характеризующего классовое понимание научного знания и раскрывающего содержание «борьбы за научную истину» с буржуазными научными теориями.
Если же сравнивать понимание роли войны в социальной эволюции у Мюллера-Лайера и Вольфсона, то у последнего война выступает как необходимый и во многом даже позитивный для эволюции общества фактор. При анализе современного капиталистического общества (общества периода «заката капитализма») Вольфсон отмечает важную роль событий Первой мировой войны и послевоенного периода в трансформации брачно-семейной жизни. Наконец, при рассмотрении советского общества Вольфсон представляет Гражданскую войну как мобилизующую силу, пробуждающую у молодежи волевые импульсы и способствующую активизации классового и коллективистского начал. Напротив, «мобилизация» волевого начала в послевоенный период рассматривается как один из источников возникновения определенных проблем в области половой жизни.
Если характеризовать «этику войны», представленную в текстах С.Я. Вольфсона по гене-ономии, то ей присущи основные особенности общих представлений об этике, реконструированные на материале изучения этических воззрений Спинозы. Так, в его рассуждениях о специфике войны ключевую роль играют: натуралистическое и даже в большей степени социологизаторское рассмотрение войны; детерминизм в принятии войн как неизбежного фактора эволюции общества; диалектическая оценка причин войны и ее результатов; акцент на роли коллективного блага при анализе войны и ее последствий.
Таким образом, можно сделать вывод, что в 1920-е гг. в белорусской советской философии развивалась своеобразная материалистическая «этика войны», наиболее концептуально и развернуто представленная в работах по изучению семьи и брака. Результаты проведенного исследования могут быть использованы при дальнейшем анализе становления «этики войны» в белорусской интеллектуальной культуре ХХ в., а также при модернизации учебных курсов по истории белорусской философской мысли и этике, спецкурсов по философии насилия и войны.
Ссылки:
-
1. Rudling P.A. The Rise and Fall of Belarusian Nationalism, 1906–1931. Pittsburg, 2014. 436 p.
-
2. Назаров В.Н. Опыт хронологии русской этики XX века: второй период (1923–1959) // Этическая мысль. Вып. 2. М., 2001. С. 169–191.
-
3. Wood E.A. The Baba and the Comrade: Gender and Politics in Revolutionary Russia. Bloomington; Indianapolis, 2001. 318 p.
-
4. Гужалоўскі А. Замах на сям’ю: сексуальная рэвалюцыя 1920-х г. у БССР на старонках перыядычнага друку // Бела-
рускі гістарычны агляд. 2015. Т. 22, сш. 1-2. С. 89–123.
-
5. Генеономия // Философский словарь / под ред. М.М. Розенталя и П.Ф. Юдина. М., 1963. С. 93.
-
6. Бурова С.Н. Социология брака и семьи: история, теоретические основы, персоналии. Минск, 2010. 444 с.
-
7. Новік І.М. С.Я. Вальфсон і беларуская савецкая філасофія 20-х гг. ХХ ст. // Весці На-цыянальнай акадэміі навук
Беларусі. Cерыя гуманітарных навук. 2013. № 1. С. 5–9.
-
8. Дудчик А.Ю. Трансфер западноевропейского философского знания в Беларуси в 1920-е гг. (на примере курсов
диалектического материализма) // Философия и социальные науки. 2015. № 1. С. 31–35; Dudchik A. The Birth of Sociology from the Spirit of (Critique of Bourgeois) Philosophy? The Belarusian Case in the 1960s through 1980s // Stan Rzeczy. 2017. No. 13. P. 93–117.
-
9. Вольфсон С.Я. Этическое миросозерцание Спинозы: доклад на торжественном засе-дании Научного общества при БГУ, посвященном 250-летию со дня смерти Б. Спино-зы. Минск, 1927. 16 с.
-
10. Там же. С. 8.
-
11. Там же.
-
12. Deutsche Biographie: Müller-Lyer, Franz Carl [Электронный ресурс]. URL: https://www.deutsche-biog-
raphie.de/sfz66913.html (дата обращения: 18.08.2020).
-
13. Berry K. Walter Gropius’s Dammerstock and the Possibilities of an Architectural Resistance // Art and Resistance in Germany / ed. by D.A. Barnstone, E. Otto. L., 2018. P. 39–54.
-
14. Мюллер-Лиэр Ф. История культуры от первобытной эпохи до крушения капитализма: в сжатом очерке (фазы культуры) / пер. с нем. Харьков, 1924. 121 с.; Мюллер-Лиэр Ф. Социология страданий / пер. с нем. М.; Л., 1925. 269 с.
-
15. Мюллер-Лиэр Ф. Фазы любви / пер. с нем. М., 1913. 243 с.
-
16. Каценбоген С.З. Спорные вопросы генеономии // Працы Беларускага дзяржаўнага універсытэту. 1923. № 4-5. С. 282–304.
-
17. Быховский Б. Генеономические воззрения Фрейда // Под знаменем марксизма. 1926. № 9-10. С. 178–194.
-
18. Muller-Lyer F.C. Die Familie. München, 1911. 378 s.
-
19. Ibid. S. 93.
-
20.Ibid.
-
21. Вольфсон С.Я. Социология брака и семьи. Минск, 1929. 480 с.
-
22. Там же. С.31.
-
23. Там же. С.226.
-
24. Там же. С.300.
-
25. Там же. С.291.
-
26. Там же. С.323.
-
27. Там же. С. 323–324.
-
28. Там же. С.324.
-
29. Тамже.
-
30. Там же. С.327.
-
31. Там же. С. 335–336.
-
32. Там же. С.360.
-
33. Там же. С.375.
-
34. Там же. С.418.
-
35. Тамже.
-
36. Там же. С.425.
-
37. Там же. С.444.
-
38. Там же. С. 449–450.
-
39. Goldman W.Z. Women, the State and Revolution Soviet Family Policy and Social Life, 1917–1936. Cambridge, 1993. 367 p.
Редактор, переводчик: Сергейчик Людмила Ивановна
Список литературы Материалистическая "этика войны" в проекте марксистского изучения семьи и брака в белорусской советской философии в 1920-е гг
- Rudling P.A. The Rise and Fall of Belarusian Nationalism, 1906-1931. Pittsburg, 2014. 436 p.
- Назаров В.Н. Опыт хронологии русской этики XX века: второй период (1923-1959) // Этическая мысль. Вып. 2. М., 2001. С. 169-191.
- Wood E.A. The Baba and the Comrade: Gender and Politics in Revolutionary Russia. Bloomington; Indianapolis, 2001. 318 p.
- Гужалоусга А. Замах на сям'ю: сексуальная рэвалюцыя 1920-х г. у БССР на старонках перыядычнага друку // Беларуси пстарычны агляд. 2015. Т. 22, сш. 1-2. С. 89-123.
- Генеономия // Философский словарь / под ред. М.М. Розенталя и П.Ф. Юдина. М., 1963. С. 93.
- Бурова С.Н. Социология брака и семьи: история, теоретические основы, персоналии. Минск, 2010. 444 с.
- HoBiK 1.М. С.Я. Вальфсон i беларуская савецкая фiласофiя 20-х гг. ХХ ст. // Весц На-цыянальнай акадэмй навук Беларусi. Серыя гумаытарных навук. 2013. № 1. С. 5-9.
- Дудчик А.Ю. Трансфер западноевропейского философского знания в Беларуси в 1920-е гг. (на примере курсов диалектического материализма) // Философия и социальные науки. 2015. № 1. С. 31-35; Dudchik A. The Birth of Sociology from the Spirit of (Critique of Bourgeois) Philosophy? The Belarusian Case in the 1960s through 1980s // Stan Rzeczy. 2017. No. 13. P. 93-117.
- Вольфсон С.Я. Этическое миросозерцание Спинозы: доклад на торжественном засе-дании Научного общества при БГУ, посвященном 250-летию со дня смерти Б. Спино-зы. Минск, 1927. 16 с.
- Там же. С. 8.
- Там же.
- Deutsche Biographie: Müller-Lyer, Franz Carl [Электронный ресурс]. URL: https://www.deutsche-biog-raphie.de/sfz66913.html (дата обращения: 18.08.2020).
- Berry K. Walter Gropius's Dammerstock and the Possibilities of an Architectural Resistance // Art and Resistance in Germany / ed. by D.A. Barnstone, E. Otto. L., 2018. P. 39-54.
- Мюллер-Лиэр Ф. История культуры от первобытной эпохи до крушения капитализма: в сжатом очерке (фазы культуры) / пер. с нем. Харьков, 1924. 121 с.; Мюллер-Лиэр Ф. Социология страданий / пер. с нем. М.; Л., 1925. 269 с.
- Мюллер-Лиэр Ф. Фазы любви / пер. с нем. М., 1913. 243 с.
- Каценбоген С.З. Спорные вопросы генеономии // Працы Беларускага дзяржаунага унверсытэту. 1923. № 4-5. С. 282-304.
- Быховский Б. Генеономические воззрения Фрейда // Под знаменем марксизма. 1926. № 9-10. С. 178-194.
- Muller-Lyer F.C. Die Familie. München, 1911. 378 s.
- Ibid. S. 93.
- Ibid.
- Вольфсон С.Я. Социология брака и семьи. Минск, 1929. 480 с.
- Там же. С. 31.
- Там же. С. 226.
- Там же. С. 300.
- Там же. С. 291.
- Там же. С. 323.
- Там же. С. 323-324.
- Там же. С. 324.
- Там же.
- Там же. С. 327.
- Там же. С. 335-336.
- Там же. С. 360.
- Там же. С. 375.
- Там же. С. 418.
- Там же.
- Там же. С. 425.
- Там же. С. 444.
- Там же. С. 449-450.
- Goldman W.Z. Women, the State and Revolution Soviet Family Policy and Social Life, 1917-1936. Cambridge, 1993. 367 p.