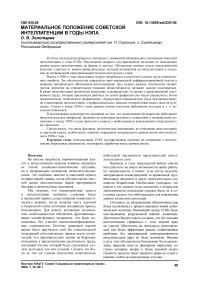Материальное положение советской интеллигенции в годы нэпа
Бесплатный доступ
В статье исследуются процессы, связанные с динамикой материального положения советской интеллигенции в годы НЭПа. Рассмотрены вопросы государственной политики по повышению уровня жизни интеллигенции, ее формы и методы. Обозначены мотивы отказа представителей властных структур от военно-принудительных методов воздействия на интеллигенцию в пользу мер по материальной заинтересованности интеллектуальных слоев. Власть в 1920-е годы испытывала острую потребность в интеллектуальном труде определенного профиля. Это обстоятельство определило ярко выраженный дифференцированный подход в вопросах материального обеспечения интеллигенции: труд нужных режиму технических специалистов, несмотря на отрицательную реакцию общественности, начинает высоко оплачиваться. В рядах интеллигенции происходит выделение «специалистов» («спецов»): представителей умственного труда, которые продолжали работать по своей профессии (это были специалисты почти исключительно технического направления). «Буржуазным специалистам» была противопоставлена гуманитарная интеллигенция, в профессиональных навыках которой новая власть пока не нуждалась. Только к концу 1920-х годов уровень жизни педагогов, работников культуры и т. п. несколько повысился. В исследовании акцентируется внимание на том, что подавляющее большинство работников интеллектуальных профессий, несмотря на некоторые различия в социальном и материальном положении, к концу 1920-х годов приходит к выводу о необходимости вынужденного сотрудничества с режимом. Сделан вывод, что среди факторов, положительно повлиявших на отношение интеллигенции к советской власти, особое место занимает повышение материального уровня жизни интеллектуалов в 1920-е годы.
Интеллигенция, нэп, государственная политика по отношению к интеллигенции, буржуазные специалисты, эгалитаризм, заработная плата, уровень жизни
Короткий адрес: https://sciup.org/147236585
IDR: 147236585 | УДК: 930.85 | DOI: 10.14529/ssh220106
Текст научной статьи Материальное положение советской интеллигенции в годы нэпа
На весьма непростые взаимоотношения власти и интеллигенции немалое влияние оказывала не только социально-политическая ситуация, но и материальное положение интеллектуальных слоев. Это особенно заметно в советский период истории нашей страны, когда обстоятельства частной жизни интеллигенции порой претерпевали быстрые и значительные изменения.
Мы помним, что взаимодействие власти и интеллигенции особенно сложным было в начальный период существования коммунистического режима, когда немалая часть научной и творческой элиты негативно восприняла приход большевиков. Для власти положение осложнялось необходимостью обеспечить функционирование хозяйственного механизма, что было невозможно без участия высококвалифицированных специалистов. Поэтому правящей партии важно было заручиться хотя бы относительной поддержкой интеллигенции, прежде всего технической, что предопределило линию на бережное отношение к представителям умственного труда, составной частью которой было стремление создать выгодные для них условия. Сделать это было не так уж сложно вследствие относительно небольшой численности представителей интеллектуального слоя.
Впрочем, в годы гражданской войны многие интеллигенты не имели возможности найти работу по специальности, а значит, и не могли получать материальное вознаграждение за привычный труд. Массовым явлением в среде интеллектуалов становится безработица. Необходимо учитывать, что власти в тот момент (если вспомнить о непростом экономическом положении страны) были не в состоянии сделать что-либо реальное для повышения уровня жизни интеллигенции.
Ситуация с ее материальным обеспечением еще более осложнилась с провозглашением новой экономической политики. Важнейшей целью НЭПа было восстановление разрушенной войной экономики. Достаточно быстро власть осознала, что без помощи интеллигенции справиться с этой задачей вряд ли удастся. Обеспечить же лояльность интеллигенции, тем более эффективно решать хозяйственные проблемы без материальной заинтересованности интеллектуалов вряд ли было возможно. Именно в силу этих обстоятельств большевики были вынуждены, нарушив один из принципов марксизма, согласно которому вопрос о более высокой оплате сложного труда не имеет никакого права на существование, пойти на определенные уступки.
Обзор литературы
Исследования, затрагивающие положение советских интеллектуалов в нэповский период, были посвящены в основном взаимоотношениям власти и интеллигенции [1–5]. Специальному анализу материальное положение отдельных категорий представителей интеллектуальных профессий было подвергнуто только в ряде статей [6–8] или же работ, посвященных материальному благосостоянию советского народа в данный временной отрезок [9–13].
Методы исследования
В качестве основных методов исследования данной темы помимо традиционных для отечественной исторической науки сравнительноисторического и хронологического методов использовались статистический метод, с помощью которого посредством обработки количественных данных можно прийти к выводам, способствующим решению поставленных задач. Большое значение имеет и историко-системный подход, позволяющий рассматривать материальное положение советской интеллигенции в данный временной промежуток как составную часть проблемы социально-экономического положения населения Советского Союза.
Результаты и дискуссия
Взаимное недоверие интеллигенции и властей в нэповский период не только не способствовало плодотворному труду буржуазных специалистов, но и негативно влияло на ситуацию с материальным обеспечением интеллектуалов, несмотря на то что последним выплачивалась высокая (по сравнению с другими категориями рабочих и служащих) заработная плата. Власть осознавала, что, несмотря на все старания, она не в состоянии привлечь на свою сторону старую интеллигенцию. Поэтому удовлетворить постоянно растущую потребность в квалифицированных кадрах режим пытался через создание новой, социалистической интеллигенции из крестьян и рабочих.
Эта стратегия вела к разделению интеллигенции по идеологическому признаку: на старую и новую. Впрочем, индифферентное, порой даже негативное отношение к власти не мешало старой интеллигенции продолжать сотрудничество с режимом. Кроме того, слабые профессиональные знания новой интеллигенции из рабочих и крестьян вынуждали руководство страны опираться в деле восстановления народного хозяйства на буржуазных специалистов, что вынуждало щедро оплачивать их труд. В. И. Ленин подчеркивал вынужденность и временность этой меры: «Мы не собираемся лишать их пока привилегированного положения», «…в этом отношении мы должны… признать известный “компромисс”» [14, с. 63–64; 15, с. 198–199].
Реализация этой политики вынудила уже в начале 1920-х годов выработать положения, ко- торые гарантировали сравнительно высокий уровень жизни специалистам, необходимым для скорейшего восстановления и дальнейшего развития экономики. Несмотря на то что власти не уставали подчеркивать их временный характер, основные принципы данной системы оплаты труда сохранились надолго. Ведь они обеспечивали лояльность пришедшей на смену старым «спецам» новой, рабоче-крестьянской интеллигенции.
Целью избранной стратегии было создание благоприятных юридических, научных и материальных условий для ученых и инженерных работников, чтобы они в своей практической деятельности теснее сплотились с рабочим классом. В итоге буржуазные специалисты были приравнены в своих правах к рабочим, а их денежные доходы были значительно увеличены. Размер жалованья «спецам», регулировавшийся многочисленными циркулярами, быстро вырос. Размер вознаграждения серьезно увеличивался за счет системы «персональных окладов» и «премий за выполнение специальных заданий». VI съезд профсоюзов (1924 год) принял шкалу оплаты труда специалистов, которая утвердила чрезвычайно высокие ставки. Еще больше повышала их доходы практика поощрения совместительства, вызванная острой нехваткой высококвалифицированных работников, особенно технического профиля [8, с. 48, 50].
Однако в первые годы НЭПа в условиях значительного обесценивания рубля даже эта сложная система оплаты труда специалистов не гарантировала высокого уровня жизни. Только после определенной стабилизации денежного обращения, к середине 1920-х годов, значительный разрыв в зарплате между квалифицированным инженером и неквалифицированным рабочим обеспечил специалистам относительное материальное благополучие. Данное обстоятельство весьма осложнило взаимоотношения интеллигенции и большинства членов правящей партии, которые нередко были представителями низших, необразованных слоев общества. Негативное отношение последних к сверхвысокому уровню доходов буржуазных специалистов приводило к неоднократным попыткам их сократить. Однако, несмотря на некоторое сокращение окладов и ограничение размеров премий в середине 1920-х годов, значительная разница в оплате труда между специалистами и рабочими продолжала сохраняться. Таким образом, несмотря на демонстративные шаги по сдерживанию доходов высококвалифицированных специалистов, можно утверждать, что власти весьма последовательно проводили линию на поддержание высокого уровня оплаты труда инженерно-технического персонала [8, с. 48].
Заметим, что власть в нэповский период обеспечивала сравнительно высокие доходы только тем категориям представителей интеллектуальных профессий определенного профиля, в труде кото-
Золотарев О. В.
рых она испытывала острую потребность, что определило четко выраженный дифференцированный подход в вопросах материального обеспечения интеллигенции. В итоге в рядах старой интеллигенции произошло выделение «специалистов» («спецов»): представителей почти исключительно инженерно-технического направления, труд которых хорошо оплачивался. Конечно, они понимали, что их относительное благополучие весьма эфемерно: власть терпит их до того времени, пока не сменит рабоче-крестьянскими «выдвиженцами».
Другой категорией старой интеллигенции были «бывшие» – гуманитарные интеллектуалы, в услугах которых новая власть особой потребности не испытывала. Их доходы были мизерны. Так, если высококвалифицированный инженернотехнический персонал на производстве получал в пять – шесть раз больше, нежели рабочий, то учителя – в два – три раза меньше пролетария. Невысоким был в 1920-е годы и уровень оплаты труда другой массовой интеллектуальной профессии – медицинских специалистов. Его, несмотря на значительное повышение окладов в декабре 1925 года, едва хватало на удовлетворение самых насущных нужд. Даже к концу десятилетия, после заметного повышения, он все же продолжал уступать доходам рабочих. Что касается ученого сословия, то его заработные платы в 1920-е годы были значительно меньше, чем до революции [9, p. 412]. Например, в начале 1920-х годов профессорско-преподавательский состав вузов получал лишь пятую часть от дореволюционного содержания. Только к концу нэповского периода их положение несколько улучшилось, и преподаватели стали зарабатывать около 40 % от дореволюционного уровня. Хотя при этом следует отметить, что обеспечение вузовских работников было все же заметно лучше, нежели обеспечение пролетариев (профессор зарабатывал почти в четыре раза больше индустриального рабочего) [16, с. 156].
Таким образом, политика властей по отношению к интеллигенции в нэповский период создала ситуацию, когда «…функции представителей интеллектуальных профессий свелись к функции носителей, прежде всего технических знаний» [17, с. 125]. А утвердившийся в 1920-е годы подход к материальному обеспечению интеллектуалов привел к расслоению старой интеллигенции по социальному признаку [4, с. 8].
Действительно, большинство представителей творческой и гуманитарной интеллигенции (в отличие от технической) фактически были отвергнуты большевистским режимом и не имели сколь-нибудь значимой материальной поддержки. Именно они больше всего страдали вследствие инфляции, прогрессивного подоходного налога и пайкового распределения продуктов питания. Нельзя забывать и о том, что приписываемое им буржуаз-
Материальное положение советской интеллигенции в годы НЭПа ное происхождение нередко вело к дискриминации при решении жилищной проблемы, при попытках обеспечить детям получение высшего образования и т. п. Впрочем, постепенно и по отношению к ним позиция режима менялась. И те представители творческого рода деятельности, что вели себя достаточно лояльно, теперь могли рассчитывать на особое отношение.
Чтобы закрепить благонадежность хотя бы части творческой интеллигенции к новому режиму, большевики пытались применить к ней ту же практику (что и к технократам) обеспечения высокого уровня жизни. Именно в рамках этой линии действовала Центральная комиссия по улучшению быта ученых (ЦЕКУБУ). Постепенно положение гуманитариев улучшалось. Так, научные работники, а вскоре и учителя стали получать «академические» пайки. С середины 1920-х годов на творческую интеллигенцию была распространена и система государственных премий, она получила доступ ко многим нематериальным благам. Улучшения коснулись и других категорий лиц умственного труда. Все эти действия должны были, по мысли властей, способствовать хотя бы относительной нейтральности интеллигенции режиму.
Особые привилегии были даны в 1920-е годы представителям умственного труда при решении ставших чрезвычайно болезненными в этот период жилищных проблем. Речь идет о предоставлении дополнительной жилплощади, которая потребна для их профессиональной деятельности, «отдельным лицам и категориям трудящихся». В первую очередь выиграла от этого техническая и творческая интеллигенция. Затем эта привилегия была распространена на научных работников, врачей, юристов и других специалистов, получающих доходы от занятий умственным трудом. В середине 20-х годов ясно наметилась и тенденция к снижению квартплаты для творческой интеллигенции [8, с. 53–54].
Конечно, многие ограничения в отношении интеллектуалов продолжали действовать. Особенно болезненными были они в образовательной сфере (прежде всего это касалось возможности получения высшего образования выходцами из интеллигентских кругов). Однако и здесь партийно-государственные структуры были вынуждены постепенно пойти на уступки. В 1925–1927 годах равные права с рабочими получили дети медицинских, научных работников, деятелей литературы и искусства. Более того, определенное количество мест в вузах было даже зарезервировано для детей «рабочей интеллигенции» [8, с. 54–55].
Впрочем, следует отметить, что все перечисленные меры, направленные на улучшение материального положения интеллектуалов (они во многом объяснялись пониманием властями жизненной важности привлечения «спецов» к со- циалистическому строительству и необходимостью хотя бы относительной лояльности гуманитарной интеллигенции), касались в основном интеллектуальных кругов столичных центров. Если же говорить о провинциальной интеллигенции, то ее положение оказывалось намного сложнее. Даже прекращение гражданской войны не принесло ей сколько-нибудь заметного облегчения. Дело в том, что ортодоксальная финансовая политика НЭПа привела к массовому закрытию учреждений культуры в провинции. Центр в значительной степени сократил их финансирование. Провинциальные же власти, с которых в первую очередь спрашивали за экономическое состояние регионов (а отнюдь не за состояние социальной сферы), в этих условиях легко жертвовали учреждениями культуры и образования [18, с. 33].
Финансовые сложности НЭПа не просто привели к значительному сокращению культурнообразовательных структур (особенно в провинции), потере работы и усилению материальных сложностей интеллигенции. Наблюдался массовый исход квалифицированных работников из слабо финансируемых местными бюджетами учреждений образования и культуры. Впрочем, к середине 20-х годов, по мере определенной стабилизации финансовой ситуации, сфера культуры все больше переводилась на содержание центрального бюджета, что не только способствовало ее сохранению, но в определенной степени помогало и усилению контроля над ее деятельностью.
Выводы
В конечном итоге можно утверждать, что новая власть после сравнительно недолгих уравнительных экспериментов была вынуждена согласиться на значительную разницу в оплате труда и уровне жизни квалифицированных и неквалифицированных работников, чему в немалой степени способствовала не только потребность в решении экономических задач, но и стремление привлечь интеллигенцию на свою сторону. И хотя уровень жизни представителей интеллектуального труда даже к концу 1920-х годов был заметно ниже, чем в дореволюционный период, он все же значительно превышал (особенно у инженернотехнической интеллигенции) материальное обеспечение рабочего класса и крестьянства. Конечно, подобное утверждение вряд ли можно отнести к некоторым отрядам рядовых представителей интеллигенции (например, учительства) и провинциальной ее части.
Несмотря на определенные трудности (особенно в регионах), меры по повышению уровня жизни интеллигенции, как и смягчение в целом политики большевистской партии по отношению к интеллектуальным кругам, оказались довольно эффективными. Конечно, режим в данном случае не скрывал своих прагматических целей – использовать силы интеллигенции для восстановления и развития экономики, просвещения рабочекрестьянской массы, формирования созидательного психологического климата. Однако правящей партии удалось наладить взаимоотношения с интеллектуалами и добиться, чтобы они работали ради развития страны [4, с. 11]. Во многом это стало возможным благодаря вниманию властей к материальным проблемам различных слоев интеллигенции.
Список литературы Материальное положение советской интеллигенции в годы нэпа
- Фицпатрик, Ш. Классы и проблемы классовой принадлежности в Советской России 20-х годов / Ш. Фицпатрик // Вопросы истории. - 1990. -№ 8. - С. 16-31.
- Fitzpatrick, S. The Cultural Front: Power and Culture in Revolutionary Russia / S. Fitzpatrick. -Ithaca, 1992. - 264 p.
- Соколова, Ф. Х. Власть и интеллигенция Европейского Севера России в годы новой экономической политики / Ф. Х. Соколова // Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. Серия: Общественные и гуманитарные науки. - 2004. - № 4 (7). -С. 225-235.
- Золотарев, О. В. НЭП, власть и интеллигенция / О. В. Золотарев // Вестник Северного (Арктического) федерального университета Серия: Гуманитарные и социальные. науки. - 2019. - № 3. -С. 5-13.
- Siegelbaum, L. H. Soviet State and Society between Revolutions, 1918-1929 / L. Siegelbaum - Cambridge : Cambridge University Press, 1992. - 300 p.
- Квакин, А. В. Русская интеллигенция и советская повседневность пореволюционной России (1917-1927 гг.) / А. В. Квакин // Интеллигенция и мир. - 2008. - № 4. - С. 7-19.
- Зезина, М. Р. Режим привилегий для научной и художественной интеллигенции / М. Р. Зезина // Режимные люди в СССР. - М. : Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2009. - С. 326-346.
- Мэтьюз, М. Становление системы привилегий в Советском государстве / М. Мэтьюз // Вопросы истории. - 1992. - № 2-3. - С. 45-61.
- Pipes, R. Russia Under the Bolshevik Regime / R. Pipes. - New York : Alfred A. Knoff, 1994. - 587 p.
- Andrle, V. A Social History of Twentieth-century Russia / V. Andrle. - London ; New York, 1994. - 304 p.
- Edele, M. Soviet Society, Social Structure, and Everyday Life: Major Frameworks Reconsidered / M. Edele // Kritika. - 2007. - Vol. 8, Is. 2. - P. 349-373.
- Осокин, Е. За фасадом «сталинского изобилия». Распределение и рынок в снабжении населения в годы индустриализации, 1927-1941 / Е. Осокин. - М. : РОССПЭН, 1999. - 271 с.
- Головин, С. А. Имущественная дифференциация доходов населения СССР в 20-30-е годы ХХ века / С. А. Головин // Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. - 2008. - № 66. - С. 177-186.
- Ленин, В. И. Речь на заседании петроградского совета рабочих и солдатских депутатов совместно с фронтовыми представителями 4 (17) ноября 1917 г. / В. И. Ленин // Полное собрание сочинений. - М., 1958-1965. - Т. 35. - С. 62-64.
- Ленин, В. И VII Московская губпарткон-ференция. 29-31 октября 1921 г. : доклад о новой экономической политике 29 октября / В. И. Ленин // Полное собрание сочинений. - М., 1958-1965. -Т. 44. - С. 193-213.
- Кирилов, С. О судьбах «образованного сословия» в России / С. Кириллов // Новый мир. -1995. - № 8. - С. 143-159.
- Байрау, Д. Интеллигенция и власть: советский опыт / Д. Байрау // Отечественная история. -1994. - № 2. - С. 122-135.
- Сибиряков, И. В. Интеллигенция Урала в условиях реформ. Исторический опыт / И. В. Сибиряков. - Челябинск, 2003. - 99 с.