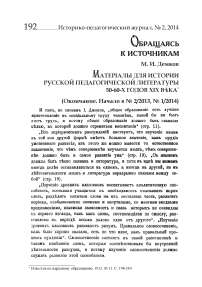Материалы для истории русской педагогической литературы 50-60-х годов XIX века (окончание)
Автор: Демков М.И.
Журнал: Историко-педагогический журнал @history-education
Рубрика: Обращаясь к источникам
Статья в выпуске: 2, 2014 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14038531
IDR: 14038531
Текст статьи Материалы для истории русской педагогической литературы 50-60-х годов XIX века (окончание)
АТЕРІАЛЫ ДЛЯ ИСТОРИИ РУССКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ50-60-Х ГОДОВ XIX ВhКА*
(Окончание. Начало в № 2/2013, № 1/2014)
И такъ, по словамъ L Джонса, „общее образована есть лучшее приготовлен!© къ с печальному труду человека, какой бы ни былъ этотъ трудъ, и потому общее образован!» должно быть главною ц^лью, къ которой должно стремиться воспиташе" (стр. 11).
„Изъ апрюрическихъ разсуждешй явствуетъ, что изучете языка въ той или другой формЪ им-Ьеть большое значеше, какъ орудие умственнаго развитая, изъ этого же можно вывести то естественное заключен!©, что чЪмъ совершеннее изучается языкъ, тймъ совершеннее должно быть и самое развит!© ума“ (стр. 19), „Оъ языкомъ должна быть тЪсно связана и литература, и хотя въ идей мы можемъ иногда долйе останавливаться на одномъ, а иногда на другой, но въ действительности языкъ н литература неразрывно связаны между со-бой“ (стр. 19).
Известия по народному образованию. 1912. № 11. С. 198-240.
„Изучеше дрсшшхь юшссиковь восиитываегь вкусь иииредствомъ переводовъ и сочияешй. Пореводъ и сочинешя ставятт» учащагося въ постоянную необходимость тщательно соображать, какъ особенности классичсскпхь языковъ могут, быть нанлучшимъ обравомъ выражены на машомъ собственном!, языкк и, паоборотъ, какъ особенности нашего языка могутъ быть переданы нанлучшимъ образомъ на латннскомъ или греческомъ лзыкЪ, свойственными этимъ языкамъ оборотами; далЬе, учащейся долженъ р-Ьшить, какъ выразить ве/к тоншя различи], существуюнця въ словахъ одного языка и ихъ из-мЬнешяхъ, словами и нзмЪнешями другого языка, безъ утраты силы и значошя, а эта задача представляеть особенный трудности и, следовательно, требуеть тонкого различешя и утончоннаго вкуса, такъ какъ 1сласснческ1е языки сильно отличаются отъ нашего собственного, какъ но своему строю, такъ и но образу выражешя“ (стр. 30). „Къ этому можно прибавить, что древя1с классики продставляютъ обилие пригодных!, темь, по поводу которыхъ можно требовать отъ учагца-гося воспроизведешя своими словами того, что онъ прюбр’Ьлъ отъ учителя, съ прибавлешомъ мыслей, почерпнутыхъ изъ чтешя или воз-никшихъ изъ собствоннаго разсуждешя ученика. Изъ этого можно видЪть, что классическое образование удовлетворяет, потребпостямъ одной изъ важныхъ отраслей воспиташя, именно научаетъ сочинять на своемъ родномъ языкЪ “ (стр. 37).
И такъ, оказывается, что изучение древпнхъ классиковъ есть чрезвычайно действительное оруд!с развит]я умствепныхъ способностей и что древше классики вполне удовлетворяют, требуемымъ услов!ямъ для занятая центрального положсшя въ нашей воспитательной систем'Ь (стр. 42). „КронЪ того, надо бы постоянно помнить, что латинскШ и греческШ языки суть сами по собЬ болЬе совершенные, что они логически точнее въ выражении мыслей, бол±о правил ьнаго грамматического строя и что ихъ грамматическая подробности легче подвести подъ обпце законы*1 (стр. 55). ВмФстЬ съ т^мъ „онп представляюсь образецъ припцпповъ языка и грамматики, принятый вскмъ образованнымъ м1ромъ“ (стр. 56). По словамъ Макса Мюллера, „латинсый языкъ даеть намъ ключъ къ испанскому, португальскому, французскому, итальянскому“. Кто пожелаотъ научиться новымъ ромапскимъ языкамъ, тотъ убедится, что онъ употребить на нихъ мен^Ье времени, если предварительно изучить латинсгай языкъ, чЬмъ если бы онъ изучалъ каждое изъ этнхъ новЪйшихъ napbniti безъ предварите л ьнаго зиашя ихъ общаго родоначальника (стр. 60). „Греческш же языкъ, послЬ латинскаго, ммйетъ, безъ со-мнЪшл, наибольшее право на наше внимате: по ясности и сил'Ь, по философской точности выражешя и грамматичоскаго строя, языкъ этотъ самый совершенный изъ вс^хъ языковъ; отъ Грещи же и Римъ заимствовалъ свою литературу; произведшая греческаго ума суть первые источники литературы и основной элементъ цивилизащи нов Ьйшей Европы; короче, Грощя, путемъ языка и литературы, стала родоначальницею умственныхъ усил!й въ поэзш, краснорЪчш, иоторш и философш и, такимъ обрааомъ, такъ сказать, царствуотъ въ умствен-номъ мхрЪ всЬхъ покол'Ьн!й и всгЬхъ временъ" (стр. 102).
Длсонсъ ссылается и на Уэволля (Whewell), на его книгу „Классическое образоваше", гд'Ь сказано: „Дронте классики составляютъ необходимую часть нашего воспитатольнаго курса, потому что они знакомятъ насъ съ умственными усилтями прошедшихъ временъ; они отпочатлЬны, такъ сказать, исторхею образованнаго wipa, и изучено ихъ сохраняетъ предашя нравственной и умственной жизни, а настоящее благородство ума заключается въ ум-Ьньи просл-Ьдить преемство мыслей. Исключить изъ нашего воспитания изучеше классиковъ, стало быть, лишить насъ опыта въ умственномъ Mipt значить д-Ьлать для насъ невозможнымъ изсл'Ьдованц] прогресса мысли образованнаго человека, значить, наконецъ, разрушить то, что можетъ быть названо аристо-кратическимъ элементомъ челов-йческаго знан!я“ (стр. 80).
32. Чтенгя о воспитати II. Юркевича. Москва 1865. Стр. 272.
По словамъ автора, это записки, который были выданы слуша-телямъ для руководства при чтеши педагопи въ учительской семинарщ военнаго ведомства.
„Предашя и обычаи, говорить Юркевичъ, дають намъ готовые одобрительные образцы для педагогической деятельности, и разумный воспитатель пользуется этимъ источникомъ иаилучшммь образомъ. Но въ каждую минуту нашей личной и обществрнной жизни предате и обычай находятся въ борьба съ новыми началами образовашя, и каясдый воспитатель, какъ и вообще человЪкъ, обыкновенно заиимаеть своею личностью двусмысленную середину между этими борющимися силами иравственнаго м!ра: только общая и строго обработанная наука о воспитан! и молсетъ сказать воспитателю, въ какомъ случай, въ какой M'!;ph и въ какомъ направлен^ онъ долженъ пользоваться каждою изъ этихъ силъ для своихъ Ц'Ьлей, по какимъ признакамъ онъ можетъ узнать, что въ предаши отжило свой вЬкъ, умерло и потеряло нравственную цЪну и съ другой стороны, что въ новомъ образованы не прочно, не зр’Ъло и необщегодно“. Ледагопя предо-храняетъ насъ отъ односторонности и неполноты, которая неизбежно связана со вс'Ьми правилами предашя и личныхъ интересовъ. Педагогъ, какъ и врачъ, нуждается въ основательной руководящей теор!и и не можеть полагаться исключительно на свои ограниченные опыты (стр. 6). „Для практика его деятельность всегда принимаешь характоръ обыкновенный, ежедневный. Наука запечатлеваешь свои требовашя велич!емъ истины. Педагопя даетъ памъ понять задачу воспиташя, какъ дело высшее и святое, какъ дело, которое было бы не достойно исполнять, имея чувства поденщика или фабричнаго работника. Если Божественное откровение ставить выше всехъ звашй зваше царя, священника и учителя, то наука о воспитан!и развиваешь и оправдываешь это повя-т!е о величш последняго звашя въ человеческихъ обществахъ и ука-зываетъ на испытанный средства и услов!я, при которыхъ действительно воспитатель будешь соответствовать своему назначение" (стр. 7).
„Въ понятти человека благовоспитанна™, невидимому, заключаются требовашя незначительный. Это имя очень скоро заслуживаешь молодой человекъ, который уважаешь общественное мнеше и условный правила прилич!я“. „Но требоваше воспитывать такъ, чтобы человекъ имелъ способность и решимость действовать согласно съ условными правилами общественна™ мнетя, съ нравами и законами приличия, господствующими въ определенное время въ разныхъ общественныхъ слояхъ или въ одномъ какомъ-нибудь круге, это требоваше должно быть признано недостаточнымъ". „Общественные нравы—это явлеше такое разнокачественное, что только о частныхъ случаяхъ можно при достаточной опытности сказать, составляюсь ли они поддержку, или задержку для нравственна™ усовершенствовашя отдельныхъ личностей. Чтобы осветить ярко слабую сторону разбираема™ здесь тре-бовашя, которое настаиваешь главнымъ образомъ на мягкости, податливости и склонности къ приспособление, какъ на высшихъ нрав-ственныхъ качествахъ, скажемъ резко, что. въ человеке должна быть и „частичка железа", что онъ долженъ владеть и способностью борьбы противъ условныхъ правилъ общественна™ мнения въ техъ случаяхъ, где этого требуешь долгъ и совесть, что действительная доблесть характера часто можешь принимать те непр!ятныя угловатыя формы, за который не даюсь имени благовоспитанна™ человека, и что дорожить общественнымъ мнешемъ всегда и безусловно есть признакъ моральной слабости, или малодушия". По Юркевичу „не общественные нравы, не уменье жить въ свете, не масса сведен!#, не счаст!е, не польза (во всемъ этомъ ныне часто видясь послЪдн!я цели воспи-тангя), но разумный и добрый человекъ, вотъ незыблемая и безспор-ная цель воспиташя, какъ ее пояималъ здравый смыслъ народовъ" (стр. 12).
Авторъ довольно подробно останавливается на чувственномъ со-зерцанш и говорить: „ось всехъ другихъ познан!# оно отличается живостью или свежестью, богатствомъ доставляемыхъ ощущетй и тесною связью съ приятными и непр$ятными чувствовашями: сравните напр. друга или врага видимаго и вспоминаемаго. Услов1я, при которыхъ происходить чувственное созерцаюе, суть: дЬйствш на наши чувства предмета, внимаше души и быстрое внезапное сравнеше наг-блюдаемаго предмета съ другими предметами того же рода, которые уже знакомы намъ“. „На чувственномъ созерцанш основана метода нагляднаго обучешя. Она соответствуеть детскому возрасту потому, что она предоставляетъ воспитаннику самому делать опыты и на-блюдешя, видеть, слышать, осязать, двигать, дотрогиваться, между тЬмъ какъ учитель своими указашями и вопросами только усиливаетъ внимаше воспитанника, направляетъ это внимаше то на матерно, то на форму предмета и сближаетъ новыя впечатлешя съ прежними, уже знакомыми. Ребенокъ чувствуетъ при этомъ самостоятельность и наслаждается самостоятельностью, что невозможно при слушаши учи-тельскихъ чтеши. Но и въ нравственномъ отношеши наглядное обучен!е ничемъ не заменимо; примЪръ сильнее действуетъ чемъ наставлеше" (стр. 42—43).
Говоря объ образовательномъ значеши аналогш, Юркевичъ даетъ рядъ ирактическихъ советовъ: 1) „не обучать детей иностраннымъ языкамъ, пока родной языкъ не усвоенъ ими надлежащимъ образомъ изъ живого образовашя. Очень раннее обучеше иностраннымъ языкамъ делаетъ мысль безразличною къ словеснымъ знакамъ, и ея художественное отнощеше къ нимъ исчезаетъ. Мысль будеть выражаться въ знакахъ удобнейшихъ и легчайшихъ, а не въ такихъ, которые имеютъ съ ней тонки, гармоничестя отношения. Слова будутъ относиться къ духу вообще, какъ полезныя средства, а не какъ дети его, рождая которыхъ онъ положилъ въ нихъ часть своего существа и часть любви своей. Но едва ли нужно доказывать, что такой разрывъ первоначальной дружбы между мыслью и словомъ можеть предрасполагать къ бездарности". Затемъ онъ советуетъ: 2) „до самыхъ обшир-ныхъ размеровъ развивать въ ученикахъ способность и искусство изящнаго чтешя. Само собой разумеется, что съ исполнешемъ этого требовашя тесно связывается симпатическое усвоеше образцовыхъ произведений словесности посредствомъ заучивашя. Думаютъ изучать отечественный языкъ посредствомъ анализовъ, при помощи которыхъ приводятся къ ясному сознашю ученика или грамматичесшя формы, находяпцяся въ изучаемомъ словесномъ произведеши, или логическое содержаше произведешя, или историчесшя обстоятельства, который отпечатлелись на немъ. Безъ сомнешя, анализъ необходимъ везде, где есть и действуетъ человеческая голова. Но все же еще никто не брался учить искусству танцеванья посредствомъ анализа танцевъ, перешедшихъ къ намъ по наследству отъ прежняхъ поколйшй. Случайно языкъ есть предметъ знан!я и анализа, но всегда и постоянно онъ есть живое и действующее искусство духа. Школа должна развить въ ученике глубокое и тонкое чувство языка—какъ бы особенную совесть, чувство, котораго нельзя заменить никакими сведетями о языке. Но это чувство образуется тогда, когда на душу действует!, словесное произведете, какъ нечто целостное, гармоническое и живое. Элементы или кусочки этого целаго, выдвигаемые анализомъ на высоту яснаго сознашя, безцветпы п безразличны; они легко могли бы войти и въ составь самой пошлой речи" (стр. 144). Далее, учитель и ученикъ непосредственно занимаются языкомъ письменнымъ. То, что со-ставляеть сущность словеснаго языка, то, что сообщаеть изучение его огромную образовательную силу, но выражается въ языке письмен-номъ и можетъ быть выражено только въ изящномъ чтети". „Образовательная сила, которой ожидаютъ отъ чтения родного языка, заключается вне языка письмеинаго, заключается въ языке воспроизводимом!, изящнымъ чтетомъ". „Итакъ заняло изящнымъ чтешемъ должно быть господствующимъ методомъ при изучеши родного языка въ школе: безъ этого метода вообще невозможно изучать словосныя произведетя какъ образцы художественной деятельности духа, для которой нетъ письменности. Слово, какъ выражеше безразличнаго представлетя о вещахъ, есть старая монета; какъ художественное дело духа, оно есть драгоценный металлъ, заново откапываемый въ глубинахъ говорящаго духа. Первая сторона дана въ письменности; вторая можетъ быть дана единственно изящнымъ чтешемъ" (стр. 145—146). '
„Формальное умственное совершенство воспитанника состоять въ сильной наклонности его къ мышление ясному, основательному, самодеятельному и въ способности его къ умственному труду. Развить эти совершенства и есть задача учителя, которую онъ исполняетъ при сообщети сведен!й. Но отсюда видно, что не количество све-дйшй, не многознате, а качество сведешй и способъ или порядокъ ихъ сообщетя имеють особенную важность при воспиташи. „Много-знаше уму не учить", говорили древше. Если ученикъ получалъ непрерывно въ течете долгаго времени сведетя совершенно опре-деленныя и ясныя, то всякая новая мысль, которая представится ему ясно, производств въ немъ глубокое недовольство: она будетъ нарушать его постоянную привычку, съ которой онъ такъ сроднился. Это качество св^тлаго и отчетливаго ума останется за нимъ даже въ томъ случа-h, если бы нйкоторыя изъ тЬхъ свЪд'йнШ, съ помощью которыхъ оно добыто, изгладились изъ памяти. Но при этомъ ученикъ находится въ счастливомъ для образов ашя положена еще въ томъ отношети, что онъ хорошо знаетъ, что знаетъ и чего не знаетъ, какими све-дешями можетъ онъ владеть спокойно и каюя сведешя нужно или пополнить или выяснить. Каждый определенный курсъ сведешй имФетъ, такъ сказать, свою азбуку, изъ которой образуются слоги и слова: въ области математики, естествознашя, истории и т. д. есть познашя основиыя и простЬйппя. Для воспиташя они имеютъ особенную важность потому, что они входить, какъ постоянные элементы, во все друпя познашя того же рода, следовательно составляютъ прочную основу для npiewa всехъ другихъ сведен!й. Кто сообщаетъ ученику сведешя готовый, отдаленный, или даже последше результаты наувъ, тотъ положительно вредить совершенству умственного развит!я своего воспитанника, который можетъ усвоить таюя сведешя не иначе, какъ въ виде простыхъ фактовъ, ни на чемъ не основанныхъ, а только заявленныхъ учителемъ“ (стр. 150—151).
яВажны также тонъ и духъ, съ какими учитель сообщаетъ ученику сведешя, они могутъ побуждать и подавлять въ ученике без-корыстную любознательность. Для одного различный сведешя имеютъ значеше денегъ, которыя хороши потому, что. съ ними можно им4ть удобство въ жизни и удовольствия; для другаго познаше имеетъ цену и само по себе, какъ внутренне светъ и какъ* истина, бевъ которой духъ человека ие наслаждается высшею и лучшею жизнью. Учитель, проникнутый первымъ убеждешемъ, можетъ сообщить ученику множество сведешй, но онъ ничего не сделаеть для того, чтобы ученикъ продолжалъ самообразоваше по выходе изъ школы, ничего не сделаеть и для того, чтобы въ самой школе развивалась и крепла прирожденная человеку любознательность. Можно принять за общ!й законъ, что мальчикъ или юноша, который со старческимъ благо-разум!емъ измеряешь свои сведешя ихъ очевидною полезностью, по-кончилъ со своимъ человеческимъ образовашемъ. Ему не идти далее и не стремиться разуыомъ въ страны неведомыя“ (стр. 156).
„Стропй, систематически порядокъ, въ какомъ учитель пере-даеть ученикамъ сведешя, но есть что-нибудь неподвижное: онъ состоять изъ определенной сети смысла. По разнымъ нитямъ этой сети ученикъ можетъ делать своимъ мышлешемъ более или менее удачные переходы, и, такимъ образомъ, онъ пытается самостоятельно и самодеятельно соединить свои иознаяй въ определенную систему. Сколько необходимо для развитая сильнаго и твердаго разума, чтобы ученикъ понималъ и усвоялъ систематичоскГй порядокъ, избранный учителемъ, столько же необходимо для развипя гибкаго и со- ныя учителем!, столько лее неооходимо для развиты гиокаго и со-образительнаго мышлешя, чтобы онъ двигался внутри этого порядка, свободно, легко, въ разныхь направлешяхъ, но всегда последовательно, логично. Система сведешй, развитая учителемъ, служить для
По мнение Юркевича, для педагогики „едва ли нужно обращаться къ опасным! метафизическим! изеледовашямъ о существе или суб-станщи духа и объ отношены духа къ субстанщямъ нервным! ". По его словаму „духъ есть существо воспитывающееся, духъ есть нечто такое, что воспитывается, можете быть воспитываемо и должно быть воспитываемо. А воспитание есть такая судьба духа, которая делаете возможнымъ какъ существоваш'е человечества такъ и его усовершеп-ствоваше". „Ничемт» такъ безспорио не определяется степень образовала семействъ, обществъ и государству какъ степенью ихъ вни-ман!я къ воспиташю и усовершенствованию подростающихъ поколе^ nil. ХрисНанство составляете величайпий повороть въ общечеловеческом! сознаны долга пещпсь о детяхъ вследствю высшихъ нрав-ственныхъ побужден^. Задачу воспиташя оно разрешило не пред-писашемъ наставлешй, но создашомъ семьи, которая, какъ союзу организуемый добродетелью, святостью и верностью, доставляете дитяти, какъ рай Адаму, все средства начинать земную жизнь".
„Воспита1не детей должно быть выражешемъ особой любви къ ниму именно той любви, которая своего не ищете (1 Кор. гл. 13, стр. 15). По убеждешямъ хрисПанскимъ воспиташо детей есть слу-жете всему человечеству и самому человечеству. Дети должны быть воспитаны такъ, чтобы они составляли честь и украшеше родителей. Но въ ихъ воснитан1и должно быть почтено все человечество, ихъ восниташе есть священный долгъ родителей— долге, определяемый высшныъ назначешемъ".
„Государство поддерживаете свое существовашо и историческое значешс сначала арм!ями, потомъ оно сознаете мощную силу капитала и заботится о развиты народнаго богатства, наконец! оно убеждается, что къ этнмъ условтямъ его силы и значешя должно присоединиться еще одно условие и при томъ самое важное и ничемь другим! незаменимое—услов!е это есть народное образоваше".
„Существеннейшая задача воспиташя въ томъ, именно, и состоите, чтобы сообщить воспитаннику светлый взгляд! на жизнь, сделать его сердце трезвымъ и мужественным! и приготовить его на жизнОн-ную борьбу, напечатлевая въ немь неизгладимыми чертами веру въ добро и въ Бога". „Требуется приобрести большой запасъ разума, добродетели, вйры, моральнаго мужества въ годы юности, чтобы стало этого капитала па всю жизнь, и особенно на то время жизни, когда предстоять только расходы, лишешя, утраты. Цель воспиташя здесь ясна и очевидна, какъ та неподдельная действительность, для которой требуется воспиташе. Но, чтб особенно важно, никогда но достигаетъ этой цели педагогическая система, которая отнимаеть у детей ихъ детство и у юношей ихъ юность, обрекая ихъ на много-заботливость и труженичество, на скупу отъ монотонной жизни и на страдашо отъ тяжести ига воспиташя. Это воспиташе вместе и не гуманное и не хриспанское" (стр. 29).
„Изследоваше зыбкаго поняНя гуманности мы начали укаэашями на вечные и. общегодные образцы человечности и кончили указашемъ на непосредственную действительность, которая и съ своей стороны должна определять высшую цель воспиташя. Въ самомъ деле высшую цель воспиташя постигаеть всестороннимъ образомъ только такой воспитатель, который одинаково строго вдумывается и въ на-значеше человЪка и въ факты его земной, изменчивой жизни. Че-ловЬкъ есть пред меть вечнаго избрашя Бож!я—это основное убеждение, и когда оно слабо, или когда оно исчезло изъ сознания воспитателя, то никаюя требовашя гуманности не охранять его отъ наклонности разсматривать воспитанника, какъ средство для какихъ-нибудь частныхъ интересовъ касты, сослов!я, общества, культуры и т. д. Стремлеше хриспанской педагогики запечатлеть личность воспитанника чертами безсмерпя, которыя суть мудрость и любовь, правда и святость, измельчаетъ до простой заботливости воспитать порядочнаго и благоразумнаго человека. Но для осуществлешя идей нужны силы: и такъ воспиташе должно усилить юный духъ, укрепить и вооружить его на разнообразную жизненную борьбу, которую выдерживать предстоитъ ему. Высшее направлеше жизни безъ соот-ветствующихъ ему силъ рождаетъ въ духе мучительную жажду Тантала. Болышя силы безъ высшаго направлешя образуютъ Антея, который делается совершенно немощенъ, когда отделяется отъ земли. Здесь мы видимъ уже, что искусство воспитали! есть вместе эстетическое и практическое“. „Воспиташе образуетъ человека такъ, чтобы онъ быль уготрванъ на всякое благое дело. Отсюда ближайшая и осязательнейшая задача воспиташя состоять въ равномерномъ развит! и всехъ силъ воспитанника. Можетъ быть было бы основательнее сказать: въ справедливомъ развили; потому что каждая изъ силъ должна быть развиваема до такой степени совершенства, на которой она соотвЬтствуетъ целостной идее человеческаго назначешя" (стр. 30). „По мере того, какъ достигается равномерное или справедливое развило всехъ силъ, воспитанникъ прюбретаетъ способность избирать лучппя цели и избирать съ свободою, которая не стеснена односторонностью воспитан1я. Судьба воспитанника зависнтъ отъ того, 1) чтб онъ знаегь, 2) чтб онъ любить и 3) чтб онъ можетъ. Поэтому учете б цели воспиташя можно сократить въ следующее вы-ражетег воспитывай такъ, чтобы воспитаниикъ, когда онъ придетъ въ зрелый возраотъ, нашелъ или засталъ самого себя 1) знающимъ доброе, 2) любящимъ доброе и 3) имеющимъ силы совершать доброе".
Останавливаясь на дисциплине, ЮркеНичъ говорить: „дисциплина и есть та школа, которая оообщаегь воспитаннику способность и любовь къ законности, порядку и благочинно. Воспитаниикъ вынуждается отказываться отъ удовольотв!й, переносить лишенья, бороться со своими склонностями и вообще делать не то, чтб ему нравится и хочется, но то, что предписывается и что установлено. Необходимость и возможность дисциплины при воспиташи видна нзъ поня-Т1я о ней. Пока раэумъ не управляеть человекомъ извнутри, до техъ поръ онъ долженъ управлять имъ извне, потому что иначе жизнь была бы предоставлена случайной игре влечешй".
Юркевичъ стоить за строгость въ воспиташи. „Строгость проти-водействуетъ всему, что можетъ изнежить или избаловать воспитанника, сделать его нравственное существо неустойчивымъ, ослабить внимаше его къ правиламъ, требовашямъ и долгу. Въ каждую минуту своей жизни человекъ занимаетъ постъ, въ какомъ-нибудь отношенш опасный; то внешшя обстоятельства, то неясныя внутрен-шя волнешя, то нужды тЪла и движеи!я фантаз1и угрожаютъ помутить красоту идеала или совершенство правила, которому мы решаемся следовать. Строгость, военный элементъ въ воспиташи, за. каляетъ воспитанника въ верности или преданности идеалу, или правилу совершенства, какъ симпатическая любовь вызываегь въ немъ непосредственную склонность къ таковой верности и преданности". Но „воспиташе строгое не иместь ничего общаго съ суровостью воспитателя и съ его грубой методой запугивать и застращивать. Такъ какъ оно против о действуетъ изнеженности во всехъ ея ви-дахъ, то оно не делаетъ детей робкими и запуганными, но положительно закаляетъ душу, делая ее бодрою, трезвою и мужественною".
Самыиъ существениымъ услов!емъ для пр!учс1пя детей къ основательному мышление Юркевичъ считастъ усвоеше ими элементар-ныхъ сведешй, потому что таюя сведешя входятъ какъ постоянный основы во все друпя познашя. „Нужно заставлять ученика обра- зовывать все сложное и отдаленное изъ простого и первоначальнагох нужно упражнять ого въ искусстве выводить и изъяснять всякую мысль изъ оя простыхъ элементовъ, или находить для нея тЬ мысли, который нредшествуютъ ей, какъ ея прочный основы".
Переходя къ значешю анализа и синтеза, Юркевичъ замЪчаеть: „Разумъ любить целое, онъ пристрастенъ къ нему, и существенней-шш его интерссъ состоитъ въ обзоръ и построеши целаго и едннаго, какъ живого выражен!я его собственной природы. Ясное и отчетливое продставлеше частей и подробностей, достигаемое аналитическими вопросами, имееть значенге только какъ средство для легчайшею и правильпейшаго обозретя и nocipoenia цЪлостнаго обзора предмета. Особенно те предметы, которые имеютъ назначеше действовать на сердце, постоянно должны быть предлагаемы сознанию ученика въ строгой гармонической связи мыслей. Сердце любить аккордь, а не отдельные тоны".
М Деле кошт»
Демков М. И. Материалы для истории русской педагогической литературы XIX века.
Педагогическая литература первой половины XIX в. М., 1911. - 60 с.