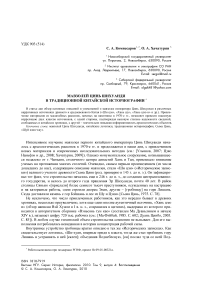Мавзолей Цинь Шихуанди в традиционной китайской историографии
Автор: Комиссаров Сергей Александрович, Хачатурян Ольга Анатольевна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Исследования
Статья в выпуске: 4 т.9, 2010 года.
Бесплатный доступ
В статье дан обзор основных описаний и упоминаний о мавзолее императора Цинь Шихуанди в различных нарративных источниках древнего и средневекового Китая («Ши цзи», «Хань шу», «Хань цзю и» и др.). Привлечение материалов из масштабных раскопок, начатых на памятнике в 1970-е гг., позволяет провести взаимную корреляцию двух классов источников, с одной стороны, подтверждая высокую степень надежности сведений, сообщаемых в китайских хрониках, с другой - значительно повышая информативность археологических объектов.
Мавзолей цинь шихуанди, китайские летописи, традиционная историография, сыма цянь, "шуй цзин чжу"
Короткий адрес: https://sciup.org/14737280
IDR: 14737280 | УДК: 903
Текст научной статьи Мавзолей Цинь Шихуанди в традиционной китайской историографии
Интенсивное изучение мавзолея первого китайского императора Цинь Шихуанди началось с археологических раскопок в 1970-е гг. и продолжается в наши дни, с привлечением новых материалов и современных исследовательских методик (см.: [Ульянов, 2007; Цзяо Наньфэн и др., 2008; Хачатурян, 2009]). Однако монументальное сооружение, возвышавшееся недалеко от г. Чанъаня, столичного центра династий Хань и Тан, привлекало внимание ученых на протяжении многих столетий. Очевидно, самым первым произведением (из числа дошедших до нас), содержащим описание мавзолея, стали «Ши цзи» («Исторические записки») великого ученого древности Сыма Цяня (род. примерно в 145 г. до н. э.). Он зафиксировал тот факт, что строительство началось еще в 246 г. до н. э., до создания централизованного государства, и велось до второго года правления Эр Шихуанди, почти 40 лет. В район столицы Сяньян «[прислали] более семисот тысяч преступников, осужденных на кастрацию и на каторжные работы, одни строили дворец Эпан, другие – [гробницу] на горе Лишань. Сюда доставляли камень с гор Бэйшань и лес из Шу и Цзин» [Сыма Цянь, 1975. С. 78].
Не исключено, что число привлеченных работников, как это нередко бывает в древних хрониках, несколько преувеличено, хотя еще один вполне аутентичный источник, «Хань цзю и» (обзор написан Вэй Хуном в I в. н. э., сохранился в цитатах), выдержка из которого приводится в авторитетном сборнике «Вэньсянь тун као» (составлен Ма Дуаньлинем в начале XIV в.), называет цифру 720 тыс. рабочих (см.: [Ма Фэйбай, 1985. С. 602; Дуань Цинбо, 2005. С. 85]). В любом случае гигантский объем строительства сомнения не вызывает. Для его выполнения потребовалась невиданная в истории концентрация рабочей силы.
Внутреннее устройство гробницы кратко описано в тех же «Исторических записках». Как свидетельствует летопись, «Ши-хуан, впервые придя к власти, тогда же стал пробивать гору Лишань и устраивать в ней [склеп]; объединив Поднебесную, [он] послал туда со всей Под-
Работа выполнена при поддержке РГНФ, проект № 09-01-00321а.
ISSN 1818-7919
Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2010. Том 9, выпуск 4: Востоковедение © С. А. Комиссаров, О. А. Хачатурян, 2010
небесной свыше семисот тысяч преступников. Они углубились до третьих вод, залили [стены] бронзой и спустили вниз саркофаг. Склеп наполнили привезенные и опущенные туда [копии] дворцов, [фигуры] чиновников всех рангов, редкие вещи и необыкновенные драгоценности. Мастерам приказали сделать луки-самострелы, чтобы, установленные там, они стреляли в тех, кто попытается прорыть ход и пробраться в усыпальницу. Из ртути сделали большие и малые реки и моря, причем ртуть самопроизвольно переливалась в них. На потолке изобразили картину неба, на полу – очертания земли. Светильники наполнили жиром жэнь-юев в расчете на то, что огонь долго не потухнет» [Сыма Цянь, 1975. С. 87].
О могиле писал также известный ханьский литератор Лю Сян (77–6 гг. до н. э.), который утверждал: «С древности никого не хоронили с такой роскошью, как Цинь Шихуанди». В «Хоу Хань шу», составленной Фань Е (398–445 гг.), в главе «Цзисы чжи» («О жертвоприношениях») упоминаются наружные постройки возле могилы. В сочинении «Сань фу гуши» (создано Чжао Ци при династии Восточная Хань) уточняется, что внутри могилы Первого императора располагались сосны и кипарисы, а также другие деревья, вырезанные из нефрита и камня; утки и журавли, а также другие животные, сделанные из золота и серебра. В раннесредневековом географическом памятнике «Сань фу хуанту» (составлен не позднее эпохи Северных и Южных династий, вероятно, в переходный период между династиями Лян и Чэнь, т. е. в середине V в.) упоминаются каменные скульптуры единорогов- цилиней , стоявшие на вершине холма (см.: [Ян Куань, 1956. С. 106–108]).
Возможно, столь роскошное оформление должно было символизировать острова блаженных, где так мечтал очутиться покойный император, описание которых дается в трактате «Ле-цзы»: «Там все башни и террасы – из золота и нефрита, все птицы и звери – из белого шелка, деревья – из жемчуга и белых кораллов растут кущами, у цветов и плодов чудесный аромат и вкус… Жили там все бессмертные, мудрые. Сколько их там за день и за ночь друг к другу летало, нельзя и сосчитать» [Мудрецы Китая, 1994. С. 60].
В некоторых сочинениях древности и раннего средневековья были указаны размеры очень крупной могильной насыпи: 115 м в высоту и 2 076 м в обхвате (по периметру), что значительно отличается от современных размеров. Есть и еще более внушительные цифры. Например, в энциклопедии «Хуан лань» (составленной под руководством Лю Шао по поручению императора Цао Пи при династии Вэй в 223 г. и сохранившейся в отрывках), которая цитируется в примечаниях к «Историческим запискам», указаны соответственно размеры в 50 чжанов и более 5 ли (см.: [Li Xueqin, 1985. P. 252]). Значение этих традиционных мер существенно изменялись во времени. При династии Цинь 1 ли = 497,7 м, а 1 чжан = 2,765 м [Кроль, Романовский, 1982. С. 223–224], т. е. высота кургана достигала 138,25 м, а его периметр превышал 2 488,5 м. Однако современные обмеры показали, что реальные размеры составляют: на плоскости 350 X 345 м (соответственно, периметр 1 390 м), а по вертикали – 52,5 м (см., например: [Цзяо Наньфэн и др., 2008. С. 112]). Столь значительное уменьшение насыпи с течением времени вряд ли можно объяснить воздействием природных факторов. Один из вариантов объяснения этих различий предложил известный археолог Дуань Цинбо. Он считает, что на самом деле надмогильный курган просто не успели закончить из-за отвлечения рабочих на другие стройки, а также из-за начавшихся антиправительственных выступлений, в конечном счете положивших конец Циньской империи. Указанные выше цифры авторы брали из официальных документов или чертежей, которые они не потрудились сверить с реальной ситуацией (см.: [Chen Xia, 2007]). Подобное объяснение вполне правдоподобно, поскольку оно учитывает начетничество в официальной науке традиционного Китая.
В классическом сочинении «Шуй цзин чжу» («Канон вод с примечаниями»), составленном Ли Даоюанем (ум. в 527 г.), в разделе «Река Вэй», сказано: «Шихуан строил мавзолей и брал землю, в результате площадку выровняли и углубили. Вода накапливалась в пруду, который назывался “рыбный пруд”. Это в 5 ли к северо-востоку от могилы Цинь Шихуана, и он достигает 4 ли в окружности». Далее там же сказано, что «когда Сян Юй вступил в Дунгуань, то он вскрыл [могилу]; 300 тыс. человек за 30 дней не могли переместить все сокровища, которые были внутри. Затем пришли воры и разбойники [из мест] к востоку от Дунгуань, чтобы выплавлять медь из хранилищ; пастухи пришли туда, чтобы пасти овец. Пожар продолжался 90 дней без перерыва» (цит. по: [Li Xueqin, 1985. P. 253]).
В уже упоминавшуюся выше энциклопедию «Хуан лань» включен рассказ о том, как в 220 г. шайка удальцов, пришедшая из Гуандуна (с юга Китая), вторглась в захоронение и похитила оттуда ртуть, заполнявшую «реки и моря». Ртуть пользовалась высоким спросом у алхимиков, которые применяли ее для изготовления «пилюль бессмертия». Кроме того, она помогала предохранять тела от разложения; по мнению историка Го Чжикуня, в подземном дворце с помощью этого металла могли сохранить и тело императора Цинь Шихуанди (см.: [Chen Xia, 2007]). Проведенное в 1981 г. обследование показало, что в могильном кургане отмечается чрезвычайно высокое содержание ртути (до 1 500 ppb), причем на других участках оно оставалось в пределах нормы [Чан Юн, Ли Тун, 1983. С. 662–663]. По сведениям летописей эпохи Пяти династий, военачальник Вэнь Тао (907–960 гг.) еще раз ограбил мавзолей, чтобы получить средства для выплаты жалованья своим солдатам. Действительно, при обследовании могилы было выявлено две грабительских траншеи, возможно, средневековых; однако, как сообщали китайские археологи, эти лазы не достигли могилы [Burns, 1985].
Обращение к письменным источникам помогает реконструировать внешний облик и назначение различных объектов, выявленных археологами в составе обширного «погребального парка» вокруг самой гробницы. Так, в северо-западной части «внутреннего города» (района, наиболее близко прилежащего к могильному кургану и огороженного стеной) в 1977 г. раскопали четыре сильно разрушенные постройки, которые связаны между собой дорожками, вымощенными речной галькой и зеленым камнем. Общая площадь застройки составила 670 X 250 м. Стены возводились из хорошо просеянной утрамбованной земли, пол в некоторых помещениях также вымощен зеленым камнем или выложен кирпичом [Чжао Канминь, 1979]. Выводы о функциональном использовании этих построек были сделаны на основании летописи «Хань шу» («История (Ранней) Хань», глава «Биография Вэй Сюаньчэна») и географического сочинения «Сань фу хуанту», в которых говорится о создании в пределах погребального парка специального дворца для банкетов; в комментарии Янь Шигу к «Истории Хань» специально подчеркивается, что этот дворец располагался рядом с внутренними покоями гробницы и использовался не для официальных целей, а для отдыха и пиров. В 53 м к северо-западу от кургана в 1979 г. выявили остатки прямоугольного зала (62 X 57 м), окруженного по периметру галереей. Для интерпретации этой находки были привлечены сведения из произведения Цай Юна (133–192 гг.) «Ду дуань» (дошло до наших дней в цитатах в других сборниках), в котором говорится, что в древности не устраивали жертвоприношений на могиле, только Цинь Шихуан ввел погребальные внутренние покои ( цинь ), которые устраивались сбоку могилы; при Хань не было изменений, поэтому постройки на могиле называются «внутренние покои», их назначение – хранение одежды и головных уборов покойного, которые он носил при жизни (см.: [Юань Чжунъи, 1988. С. 135]).
В 1977–1978 гг. между двумя стенами в западной стороне выявили три ряда из 31 ямы, в двух крайних рядах – терракотовые фигурки прислуги, сидящей на коленях; в центральном ряду – керамические гробы с костями животных, керамические котлы и миски, бронзовые ошейники. Благодаря сопоставлению с письменными источниками данный район определили как «дворцовый зверинец» Например, в «Хань цзю и» описываются парки циньских и ханьских правителей, в которых под началом особых чиновников разводили диковинных зверей для охоты; возможно, фрагмент такого парка был воспроизведен и в окрестностях гробницы (см.: [Краткий отчет..., 1982]).
Своеобразным свидетельством общественного интереса к мавзолею являются стихи, в том числе написанные выдающимися китайскими поэтами династии Тан (Ван Вэй, Ли Бо, Ду Му). В частности, в стихотворении Ван Вэя «Проезжая мимо могилы Первого императора» написано: «Древняя могила превратилась в зеленый холм, угрюмый дворец подобен пурпурной платформе» 1. Данную строчку можно трактовать как доказательство того факта, что в середине VIII в. еще сохранялись постройки дворцового типа в рамках погребального парка. Рассуждения о гробнице Цинь Шихуанди, в основном повторявшие сведения более ранних сочинений, включались также в состав средневековых энциклопедий и географических опи- саний, например, в «Тайпин юй лань» (составлена Ли Фаном в 977 г.) или в «Чанъань чжи» (наиболее раннее из дошедших до наших дней краеведческих описаний-чжи, составленное Сун Миньцю в 1076 г.) [Ма Фэйбай, 1985. С. 602].
Все эти материалы оказались более чем востребованы после начала крупномасштабных археологических раскопок на памятнике, оказав существенную помощь при реконструкции и интерпретации его объектов. Следует также специально подчеркнуть высокую степень надежности сведений, приводимых в китайских летописях, авторов которых можно упрекнуть разве что в некоторой лапидарности, ни никак не наоборот. Особенно это справедливо по отношению к «Ши цзи» Сыма Цяня. Когда раскопки на мавзолее только начинались, некоторые скептики считали его описание своего рода художественным преувеличением [Rudolph, 1975. P. 269]. Однако результаты пока превосходят все самые смелые ожидания. Два иероглифа в тексте «Ши цзи» [Сыма Цянь, 1982. С. 265], «все чиновники» (^ш ), обернулись целой терракотовой армией, в которой уже насчитывают не менее 8 000 фигур. И можно лишь предвкушать, какие богатства подразумевали целых четыре иероглифа: «редкие вещи и необыкновенные драгоценности» (^St6). Взаимная корреляция письменных и вещественных памятников существенно укрепляет и обогащает источниковедческую базу по изучению истории Древнего Китая.
QIN SHIHUANGDI’S TOMB IN THE TRADITIONAL CHINESE HISTORYOGRAPHY