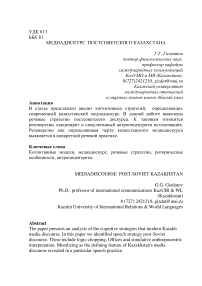Медиа-дискурс постсоветского Казахстана
Автор: Гиздатов Г.Г.
Журнал: Медиа. Информация. Коммуникация @mic-iej
Рубрика: Язык как средство коммуникации
Статья в выпуске: 11, 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье представлен анализ когнитивных стратегий, определяющих современный казахстанский медиадискурс. В данной работе выявлены речевые стратегии постсоветского дискурса. К таковым относятся резонерство, канцелярит и симулятивный антропоцентризм истолкования. Резонерство как определяющая черта казахстанского медиадискурса выявляется в конкретной речевой практике.
Когнитивные модели, медиадискурс, речевые стратегии, риторические особенности, антропоцентризм
Короткий адрес: https://sciup.org/147218177
IDR: 147218177 | УДК: 81.1
Текст научной статьи Медиа-дискурс постсоветского Казахстана
The paper presents an analysis of the cognitive strategies that modern Kazakh media discourse. In this paper we identified speech strategy post-Soviet discourse. These include logic-chopping, Offices and simulative anthropocentric interpretation. Moralizing as the defining feature of Kazakhstan's media discourse revealed in a particular speech practice.
Tags
Cognitive models, media discourse, speech strategies, rhetorical features anthropocentrism.
Разговор о состоянии и развитии медийной и речевой культуры невозможны вне общего анализа культуры конкретной страны конкретного времени. Что тогда есть в казахстанском медиадискурсе как конкретная когнитивная стратегия?
В психологической парадигме важно понятие «когнитивное состояние носителя языка», вне которого мы не можем рассматривать любые модели представления знаний, в том числе выраженные в медиадискурсе. Заметим, что подобный аспект исследования свойственен и социальной теории П.Бурдье, в которой использование языка приравнивается использованию концепций: «Среда, ассоциируемая с определенным классом условий существования, производит habitus, то есть систему прочных, приобретенных предрасположенностей, структурированных структур, предназначенных для функционирования в качестве структурированных структур, то есть в качестве принципов, которые порождают и организуют практику и предлставления» [2, c.17-18].
Речевая «продукция», выраженная медийно - типичное воплощение казахстанского общественного дискурса. Единственное и реальное коммуникационное изобретение для всех времен и народов - прием позиционирования (создание понятного клиентам образа) – работает с неизбежными оговорками и в казахстанской социальной практике. Уточним последнее словами обывателя: то, что я понимаю, это я принимаю. Этот прием не может не влиять на язык и стиль любого медийного продукта, реализованного на телевидении, газетных и журнальных текстах, блог-постах в новых медиа. Безусловно, в современных казахстанских реалиях смешалось все. Сохраняются остатки советского речевого стиля. Вновь знакомая советская симулятивность и ее новое казахстанское воплощение, в котором означающие так же далеки от реальности, как и прежние советско-интернационалистические. Но на смену этому приходит и нечто новое. В любом ракладе внешне ориентированный человек сложился и в нашем обществе. В современной ситуации «персонализации» (информация, которая лично меня не касается, мне не нужна) и пресыщения вербальной информацией выигрывает тот, кто одновременно предсказуем и оригинален. При этом отечественные речевые «выкрики» по своей установке, как правило, монологичны. В телевизионных и медийных «текстах», в том числе и в интернет-медиа, трудно обнаружить желание казахстанских специалистов по коммуникации видеть своих клиентов (слушателей, читателей) как равноценных партнеров по общению, живыми и действующими субъектами; они/мы для них больше «сосуды», которые нужно наполнить своим содержанием.
В современном казахстанском медиадискурсе, также как и в прошлом веке, относительно ко всем его конкретным проявлениям наиболее очевидна следующая когнитивная модель - антропоцентризм истолкования. «Я - схемы» (в терминологии Л. Хьелла и Д.Зиглера [4] во многом обеспечивают быстроту принятия решения, воспоминания и реконструкции, оценку и отрицание того, что не очень подходит под «я-схемы».
Пожалуй, наиболее вычисляемо следующее: в казахстанском варианте медиадискурса нет «мифов», нет культурологических стереотипов. В первую очередь в языковой практике казахстанского постсоветского дискурса очевидны процессы обеднения и стандартизации языков. Язык (в этом случае неважно - казахский или русский, татарский или уйгурский) в Казахстане перестает быть феноменом культуры и выступает лишь как средство фиксации и передачи информации. В современном варианте «казахстанского слова» вновь, также как и в недавние и уже забываемые советские годы, обнаруживаемы лишь речевые штампы, когда все верно, нет ничего неопределенного, расплывчатого, недоговоренного.
Первое и самое явное: тяга к общепринятым стереотипам, стандартность и тусклость языка. По этой причине, в языке большинства официальных русскоязычных и казахских СМИ Казахстана преобладает исключительно книжная лексика, столь отличающая язык советского времени. В казахстанском публицистическом дискурсе налицо второе «пришествие» канцелярита. Это плохо хотя бы потому, что отупляет сознание. Все обозначенное присутствует как на республиканском телеэкране, так в государственных «посылах» и в местечковой социальной рекламе, казахстанской газетно-журнальной публицистике. Во всем этом нет «идеального» события, а есть лишь массовые, повторяющиеся образы. Таковым и является в большинстве случаев современный язык казахстанской публицистики и теледискурса.
Самые последние образчики, адресованные от государства населению, звучат так: «молодежный кадровый резерв», «фактор культуры в эпоху кризиса», «прорывные проекты», «программы на развитие потенциала молодежи» и пр. Проблема в том, что дальше за этими громоздкими словесными клише ничего не стоит и они ничего не пробуждают в сознании тех, кому они адресованы.
Как правило, минимизация понятий в казахстанском официальном медиадискурсе дополняется бесконечным повторением и апелляцией к чувством слушателей, зрителей. Когнитивные структуры сохраняются в сознании, если они трансформируются. Сошлемся в этом ряду на феномен семантической сатиации: многократное повторение одного и того же слова или группы слов приводит к субъективному ощущению утраты смысла этих слов. Действительно, любое осознанное содержание должно непрерывно изменяться, иначе оно «ускользнет» из сознания.
Налицо также в официальном медиадискурсе явление из когнитивной сферы, получившее в патопсихологии, название «резонерство». В характеристику этого явления входят: слабость суждений, многоречивость, претенциозно-оценочная позиция, многозначительность. Ряд примеров, подтверждающих резонерство как отличающую черту казахстанского дискурса, может быть приведен и из научного стиля. Таковыми являются и примеры словесных конструкций из «Типовой учебной программы» для журналистов (Алматы 2007) по курсу «Основы публицистического творчества»: «Этот предмет развивает в журналисте коммуникативную роль и изучает формам диалога, полемики, идеям публицистики, оценочному мышлению, выборке фактов»; «Мастерство - это правильная методика владения терминами, а также обучение подачи действительности».
Конечно, можно отнести приведенные примеры только к речевым погрешностям их авторов. Но подавляющее большинство научных и публицистических текстов с неизбежной закономерностью будут отличаться резонерством, канцеляритом и симулятивным антропоцентризмом истолкования.
Другая особенность наших официальных медиапрородуктов - плагиат всего увиденного и услышанного на Западе, подмеченного в российской практике. Например, как наши телегуру от экономики и финансов умеют говорить (или пытаются это делать) с телезрителем-потребителем? Законодатель деловой моды в казахстанском телеэфире - канал Хабар. Любая из телепередач на казахском или русском языках, будь то «Итоговый выпуск новостей», «Дневник индустриализации», «Капитал элiппесi» и другие - это всегда подражание стилистике и очевидным теледеталям РБК. Принцип построения почивших и ныне здравствующих деловых телепередач всегда был един: бравый тон, быстрая смена телекартинок, визуальное подкрепление пафосных утверждений обязательным набором цифр, графиками и диаграммами. Совершенно не смущаясь, об одном и том же в одной и той же передаче могут говорить несколько раз. В свою очередь на российском телеканале приглашенные эксперты не просто умны, а профессионально критичны. А что в нашем случае? Взамен всему названному и одновременно блистательно отсутствующему - толика чего-то слегка похожего на аналитику и скучнейший официозный пафос, которому уже мало кто поверит.
В современном казахстанском дискурсе идеально зафиксирована центральная черта всего постсоветского дискурса - его «сниженность» и «пластмассовость». Качества языка, которые можно вычислять в написанном и произнесенном кем-то. Для «пользователя» казахстанского слова очевидны постсоветские социальные шаблоны языка и мысли.
Автор книги «Русский язык на грани нервного срыва» М.Кронгауз, анализируя российские реалии, замечает: «После перестройки мы пережили как минимум три словесные войны: бандитскую, профессиональную и гламурную^три периода, три моды» [3, с.132]. Но эти порицаемые сейчас многими «моды» обогатили русский язык в России. Казахстан они благополучно миновали, хотя элементы компьютерной лексики и гламурного «щебетания» все же можно встретить и в казахстанской практике.
Пожалуй, именно по этой причине в казахстанском молодежном сленге оказывается более популярным слово «грамотный» (толковый) как неполная замена российского эквивалента «правильный»). Показательны в российской речевой культуре слова-лидеры последних лет: «правильный», «пафосно», «жесть» (за каждым из слов - протестные жизненные установки). В казахстанском молодежном дискурсе пока не задаются подобные стандарты и стереотипы социального поведения. Последние казахстанские речевые образчики ближе всего к провинциальному брюзжанию по поводу всего окружающего. Самые типичные слова-клише следующие: цивильно (там все хорошо, но только не дома), беспонтовый (простой или же бестолковый), нечто (как высшая оценка чего-либо) -популярные в 90-е года слова в российской молодежной среде: «И вообще, там (в Лондоне, Париже, Блумингтоне) все так цивильно».
Не обнаруживается самое важное в молодежном социолекте Казахстана - продуманное следование определенной идеологии. В конечном счете, казахстанский молодежный дискурс, в том числе выраженный в новых медиа, не есть феномен постмодерновой культуры (как оно зафиксировано во всех иных странах), он большей частью болезненно спокоен и глубоко провинциален и он же вне этнических и культурологических стереотипов.
Слова уже становятся скорее фикцией, но никак не событием. Быть может, поэтому в последнее время в казахстанской медиальной культуре, также, как и в российской последних пяти лет, наблюдаемы риторические принципы и приемы манипулирования массовой аудиторией (рекламные тексты, пропагандистские компании и т.п.) с суггестивными принципами речевой терапии. К таковым относится, во-первых, упрощение смысла. Действительно потребительская или избирающая кого-либо масса избавлена от лишних усилий. По отношению к публичному речевому поведению в Казахстане происходит упрощение смысла. В лексике обличителя-антиглобалиста это принято обозначать как «оболванивание болванов». Стандартность образа - стандартность построения мысли и речи. При этом все правильно и нет ничего расплывчатого. Пожалуй, в принципе невозможны в нашем случае так называемые «противоречивые языковые структуры». Наподобие следующих: «Невыносимая легкость бытия» (название кинофильма), «Я отомщу Украине любовью» (фраза
С.Параджанова). Игра с размытым смыслом при упрощении смысла просто немыслима и недопускаема сознательно.
В большинстве казахстанских около-политических текстах, адресованных потребителям, избирателям, слушателям, читателям и иной публике, налицо принципиальная безадресность. По-прежнему недопустимы в дискурсе правящей партии, за редким исключением речевых образчиков от Ермухамета Ертысбаева и Нурлана Еримбетова , хоть как-то артикулированные отступления от существующего шаблона мысли и слова. Но умозаключения иных казахстанских чиновников и политиков страшат хотя бы тем, что разлагают здравый смысл исключительным формализмом мышления и «восточным» резонерством как общей стратегией. Возможно, порой взгляды и речи этих двух ярко состоявшихся медийных лиц кажутся наигранными. Но только по отношению к ним вы обнаружите явно проговариваемые взгляды и столь же рьяно отстаиваемые установки «персонажей» нашего и без того скудного политического рынка. Именно в этом случае мы сталкиваемся с подобием публичного обсуждения проблем, а не ни к чему не обязывающими разговорами вокруг и около. Истина всегда устанавливается в условиях столкновения двух противоборствующих сторон, спора, борьбы мнений, именно этот политический дискурс двух партийных спикеров создает эту призрачную иллюзию.
Из чего, например, складывается речевая динамика в любом казахстанском молодежном и взрослом ток-шоу на телевидении? Что и как говорят уважаемые дебатеры?
Начинающие ораторы элементарно комкают начало и конец слов, проглатывают окончания. Лексика их бедна и невыразительна. В ряде случаев это исключительно газетная публицистика или выхваченная незадолго до выступления околонаучная терминология. Почему «около»? Ораторы не всегда понимают значения слов (экономических, юридических, политических терминов), коими они оперируют.
Тусклая аргументация в ток-шоу «обогащена» вульгарной манерой спора. В риторике это понятие включает в себя следующее: отсутствуют переходы и связи мыслей; не выявляется главное в предмете рассуждения; главенствует излишняя категоричность; используются популистские аргументы к личности. Для любого социолога и политолога, да и для обывателя тоже, подобная аудитория, которую мы можем наблюдать в казахстанских ток-шоу, это реальная молодежь, а не тот, кислотный суррогат которой нам предлагают либо в музыкальном телеэфире или глянцево-парадных репортажах официозных программ.
Любой общественный сдвиг потрясает язык, но что «изменилось» в казахстанском риторическом проявлении в традиционных и новых медиа, в том числе и в его молодежном исполнении?
Вразумительный ответ на этот вопрос пока затруднителен. C той же долей вероятности вместо молодежных дебатеров можно подставить чиновников, депутатов, а выводы будут относится и к ним. Добавим от себя, в любой культуре типичной реакцией на абсурд всегда является смех. Именно это и было, и присутствует в должном избытке в молодежной речевой культуре, а в наше время в российском молодежном дискурсе наиболее явно выражено в языковом пародировании в «албанском языке» или «языке падонков», это то, что можно отнести к протестной культуре. В весьма актуальной работе Ольга Анищенко, конечно, порой умильна в своих выводах: «Если социолект квнщиков представляет субкультуру молодых людей с уверенностью смотрящих в будущее, то жаргоны новейших молодежных неформальных группировок готов и эмо свидетельствуют о пессимизме и депрессии его представителей» [1, с.112]. Пожалуй, только в этом случае с ней трудно согласиться и не только потому, что «обидно» за готов. Нынешние квн-щики (и российские, и казахстанские) благополучно переродились в нечто прямо противоположное протестному. Постсоветскому пространству свое понимание жизни и речи в ней с недавних 90-х годов тотально навязал КВН, с размахом выродившийся в поп-культуру. В России это коммерчески состоявшиеся «Камеди Клаб» и «Наша Раша», в Казахстане -«Кыз кылыгы» и «Наша К2АША». Априори отнести все это к проявлениям наступающей мещанской культуры было бы слишком просто. Современные речевые квн-приколы, как правило, одновременно криминальны и экспрессивны. Этот фрагмент молодежного социолекта большей частью является только скрытой или явной агрессией (политической, этнической, сексуальной).
Что все-таки свойственно казахстанскому медиадискурсу: речевой вандализм или риторический баланс?
Казахстанский постсоветский дискурс складывается из трех неравных составных: западная модель риторики, восточное (мусульманское) ораторское искусство и советская речевая манера. Причудливое соединение, но оно оказалось жизнеспособным .
У нас речевая манера, выраженная медиально, не служит маркером социального статуса человека, в отличии, например, от марки автомобиля. Язык массовой коммуникации сиюминутен и мимолетен, однако только он создает свой мир, который кажется «публике» реальностью.
По всей видимости, утверждение «границы моего языка - это границы моего мира» справедливо во всех случаях, когда человек говорит и пишет. Откуда же статичность казахстанского речевого мышления? Чем это обусловлено ?
Язык связан с постижением действительности. Именно диалога по исходному условию и не хватает казахстанским речевым образчикам.
Замечу, диалогичность может присутствовать даже в одной фразе, брошенной на митинге: «Бабы, не рожайте коммунистов».
Замечу, что диалогичность по содержанию является главенствующей в российском речевом идеале. Именно это качество отсутствует в западном «варианте» риторики, который, естественно, не может абстрагироваться от западного же типа культуры с приматом индивидуализации, соревновательности, рационализма.
Казахстанский медиадискурс складывается на наших глазах. По-прежнему он отражение наследия советской империи, но он уже имеет отличия от нынешнего российского дискурса.
Список литературы Медиа-дискурс постсоветского Казахстана
- Анищенко О.А. Генезис и функционирование молодежного социолекта в русском языке национального периода. - М.: "Флинта", "Наука", 2010.
- Бурдье. П. Структура habitus, практика // Современная социальная теория. - Новосибирск: Изд-во Новосибирского ун-та, 1995.
- Кронгауз М. Русский язык на грани нервного срыва. - М., 2008.
- Хьелл Л., Зиглер Д. Теория личности (основные положения, исследование и применение). - СПб.: Питер Пресс, 1997.