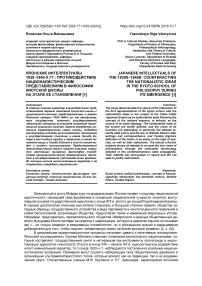Медиа в современной художественной коммуникации
Автор: Бараш Любовь Александровна
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 10, 2018 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена исследованию роли медиа в постмодернистской художественной коммуникации. Рассматриваются специфика постмодернистского субъекта в трактовке французских постструктуралистов и те изменения, которым подвергается субъект в результате медиаповорота во второй половине ХХ в. Анализируется влияние цифровых технологий на характер субъектности современного человека, вступающего в художественную коммуникацию. В центре внимания автора - особенности художественной коммуникации эпохи медиа: перемещение акцента с взаимоотношений «художник - зритель» на взаимоотношения «художник - медиум». Устанавливается различие понятий «субъект», «медиасубъект», «коммуникант». Ставится вопрос о наличии субъектности в медиальном художественном сообщении. Раскрываются роль и особенности интерактивности художественной коммуникации при посредстве медиа, а также роль ее антипода - интерпассивности.
Субъект, медиасубъект, коммуникант, медиареальность, художественная коммуникация, интерактивность, интерпассивность
Короткий адрес: https://sciup.org/149133681
IDR: 149133681 | УДК: 7.01:316.772 | DOI: 10.24158/fik.2018.10.8
Текст научной статьи Медиа в современной художественной коммуникации
Язовская Ольга Валерьевна
В дальнейшем модернизационные процессы начинают давать и негативные последствия. Японский исследователь Окуяма Митиаки отмечает появление религиозного национализма, который составляют государственный синто и нитирэнизм как инструменты пропаганды и индок-тринации идеологии кокутай [3]. И если в конце XIX – начале ХХ в. идеологическое воздействие носит номинальный характер, то с конца 1920-х гг. наблюдается постепенное усиление националистических воззрений. Примером могут служить набирающие силу общественные движения и организации ультрамилитаристского толка, которые влияют как на правящие, так и на академические круги. Отечественные ученые М.И. Крупянко и Л.Г. Арешидзе, характеризуя японский национализм периода Интербеллум, приводят ряд националистических организаций и движений, предпринимавших активные действия вплоть до попыток государственного переворота («Школа любви к родной земле», «Реставрация Сёва», «Кокухонся»). В начале Второй мировой войны подобные организации приобрели официальный статус и стали значимым звеном в государственном управлении. Так, с 1938 г. были отменены все политические партии и создана единая националистическая партия «Ассоциация помощи трону» [4, с. 84–104]. Из-за этого интеллектуальные круги оказываются под сильным давлением государства.
Непростое взаимоотношение с государственной идеологией характерно и для представителей наиболее крупного философского направления – Киотской школы, основателями которой считаются Нисида Китаро (1870–1945) и Танабэ Хадзимэ (1885–1962), оба долгое время проработавшие в Киотском университете. Название школы предложил ученик Нисида Китаро, философ марксистского толка Тосака Дзюн (1900–1945), критиковавший философские воззрения учителя [5, р. 4]. В общем виде, согласно японскому ученому Такэда Ацуси, Киотскую школу можно определить как «интеллектуальную сеть, в центре которой находились Нисида и Танабэ и которая была сформирована теми, кто был связан с ними в личном и научном плане» [6, с. 234–235]. Американский исследователь Джон Маральдо формулирует ряд критериев, в соответствии с которыми ученых можно отнести к Киотской школе: связь с Нисида Китаро и Киотским университетом; отделение японской и восточной интеллектуальной традиции от европейской; обращение к понятию Абсолютного ничто; философское осмысление буддизма и религии в целом; определенная позиция в отношении марксизма, национального государства и Тихоокеанского театра военных действий [7, с. 33– 38]. Так, например, японский мыслитель Оохаси Рёсукэ, описывая первое поколение школы и воззрения ее основателей, уточняет, что Нисида Китаро и Танабэ Хадзимэ противостояли друг другу в своих взглядах. Они оба развивали понятие Абсолютного ничто в философском ключе. В результате их изыскания охватывали такой круг вопросов, как бытие и ничто, искусство и мораль, общество, государство и история. И если Нисида пытался понять историю как самоопределение Абсолютного ничто, то Танабэ измышлял Абсолютное ничто как диалектический принцип экзистенциальной практики, на основе которого выстраивается философия истории [8, S. 22–30].
За неоднозначность позиций в послевоенное время за школой закрепились ярлыки философии тотальной войны и этнонациональной философии. В большей степени это коснулось трудов Нисида Китаро и Танабэ Хадзимэ как основателей школы, отмечает Кен Наката Стеффенсен [9, р. 65–66]. Он также приводит позицию японского политолога Ооцука Кацура, утверждающего, что ряд идей представителей Киотской школы были неверно поняты и переиначены в духе националистической пропаганды. Так, идея Абсолютного ничто ассоциировалась с Японской империей, подчеркивая ее значимость, а идея исторического мира стала пониматься как творческое действие, способствовавшее мобилизации масс и укреплению морального духа. Критика европоцентризма была принята как поддержка проекта Великой восточноазиатской сферы сопроцве-тания [10]. Другой исследователь Киотской школы Дэвид Уильямс полагает, что для ее представителей «политика означает ни исследование политических институтов, ни изучение политической философии, а нечто гораздо более узкое и менее научное: этическая критика японской войны с точки зрения союзников» [11, p. 154]. В период усиления национализма представители школы были вынуждены встать на позицию антисистемного сотрудничества, писать между строк, чтобы избежать прямой конфронтации с властями.
Сами представители первого поколения старались не демонстрировать политические взгляды в своих философских изысканиях. Так, Нисида Китаро крайне мало упоминает свою политическую позицию и отношение к войне в программных произведениях, но обращается к этой теме в поздних работах и письмах. В книге «Проблемы японской культуры» 1940 г., характеризующей понятие японского духа, проблемы взаимодействия восточной и западной культур, а также значимости японской культуры, он писал: «На мой взгляд, главное, что мы должны стараться избегать, заключается в том, чтобы превратить Японию в субъект. <…> Чтобы занять позицию в качестве одного субъекта по отношению к другим и тем самым отрицать других или пытаться свести их к себе. Ведь все это не что иное, как империализм» [12, т. 12, с. 344, 349]. Так он показал свое отрицательное отношение к империализму и колониальной политике, которую начала перенимать Япония, опираясь на западные образцы сильного государства. Далее он предостерегает относительно последствий войн: «Когда одна нация обладает огромной силой, мир может быть сохранен на некоторое время. Но этот мир стал возможен только порабощением других народов. Мало того, что это приводит к человеческому декадансу, но также невозможно постоянно удерживать такую власть. По мере того как другие народы восстают против нее, у нее нет другого выбора, кроме как попасть в страдания войны. И это может закончиться разрушением человеческой культуры» [13]. В этом смысле война понимается как трагедия всего человечества, и если те, кто прошел через войну, не смогут возродиться и открыться творчеству, то это может привести к разрушению основ культуры.
В мае 1943 г. лидеры японской армии обратились к Нисида Китаро с просьбой сформулировать основные положения о роли Японии в Восточной Азии. Эта просьба предваряла Великую Восточноазиатскую конференцию (Токийскую конференцию) 5–6 ноября 1943 г. в Токио, главной целью которой было утверждение роли Японии как лидера азиатских стран, способного освободить Азию от колониализма Запада. Нисида решил пойти навстречу и составил текст под названием «Принципы нового мирового порядка», но вложил в него свои представления о развитии страны. Японский ученый Уэда Сидзутэру, характеризуя этот текст, отмечает, что содержательно он дает представление об отношении Нисида к войне и современной исторической ситуации. Каждую эпоху, в каждый век перед миром ставится своя задача: в XVIII в. состоялось провозглашение личности, в XIX в. появились государства-нации, а XX век должен объединить нации в их разрозненном историческом развитии в единый мир. Этому, согласно Нисида, должно было способствовать появление сфер сопроцветания для географически близких и культурнородственных регионов [14, р. 87–88]. Тем самым, согласно Уэда Сидзутэру, Нисида ни в коем случае не оправдывает притязания Японии на мировое господство, а напротив, «для него “Восточная Азия” была всего лишь одним конкретным географическим разделом и “сферой совместного процветания”, не более чем единой формой множественной реальности» [15].
Другая исследовательница Юса Митико полагает необоснованным называть Нисида Ки-таро националистом, так как это противоречит его позиции в письмах. Она приводит следующую цитату Нисида из письма Хидакэ Дайсиро от 13 октября 1935 г.: «Как вы знаете, мы попали в фашизм. Если кто-то глубоко и самоотверженно думает о будущем нашей страны, то не будет нападать на нынешнюю ситуацию, но примет ее, прилагая усилия, чтобы можно было постепенно вернуть ее в нормальное состояние» [16, р. 114]. Нисида описал здесь свою стратегию взаимодействия с установившимся режимом: не выступать его ярым противником, но стараться продвигать свои идеи через труды и учеников. Продолжая анализ переписки, Юса приводит цитату из письма к Дайсэцу Т. Судзуки от 11 мая 1945 г., где философ противится тоталитаризму и поддерживает тенденцию глобального развития мира: «Сегодня многие люди говорят, что тоталитаризм, которому поклоняются власти, является путем развития, но я нахожу такую идею полностью старомодной и устаревшей. Направление, которое нам нужно принять, – то, которое отменяет переход к тоталитаризму, это так называемый новый глобализм. Допустим мы это или нет, но мир уже движется к нему» [17]. В этом высказывании заложена идея Нисиды о развитии истории и миссии, которой должен послужить ХХ век, – миссии по глобализации мира и единению разрозненных государств. Юса Митико полагает, что главной целью обращения философа к теме национализма было дать альтернативный взгляд на развитие Японии без пропаганды и авторитаризма, но с сохранением культурной идентичности и самобытности.
Что касается второго представителя первого поколения Киотской школы, Танабэ Хадзимэ, то здесь мы сталкиваемся с несколько иным восприятием политической ситуации 1930–1940-х гг. и взаимодействием с ней. Как отмечает американский исследователь Джеймс Хейзинг, этот период был для Танабэ весьма плодотворным. Он написал свою концепцию логики видов, а к 1937 г. сформулировал теорию расово-унифицированного общества, понимаемую как «…специ-фический субстрат, который опосредует связь между отдельными людьми и универсальные идеалы человеческого сообщества» [18, р. 255]. Через два года в стране был наложен запрет на свободу самовыражения, что стало серьезным ограничением для интеллектуальных кругов, но Танабэ, напротив, выступил с поддержкой властей и провозгласил божественный статус японской нации. Это привело к тому, что за три месяца до конца войны философ был заклеймен как нацист и поборник режима. Хейзинг отмечает, что после войны Танабэ предпринимал попытки реабилитироваться и настаивал на ином понимании его идей, полагая, что его концепцию нации «нужно поставить… в более широкий контекст моральной ответственности» [19].
Дж. Хейзинг приводит целый ряд обвинений в отношении философии Танабэ Хадзимэ, которые появились практически сразу после выхода в свет его работ. Для самого Танабэ обвинения в тоталитаризме были тяжелым бременем, заставлявшим уже с первых выпусков эссе по логике видов вносить необходимую ясность: «Мое мнение, которое на первый взгляд кажется не более чем крайним национализмом, никоим образом не является непосредственно иррациональным тоталитаризмом или расизмом. Скорее это похоже на самопожертвование-в-самореализации или единство-в-свободе, целью которого является создание нации в форме субъективной реализации целого через спонтанное сотрудничество каждого из ее членов» [20].
Познакомившись с немецкой классической философией и вдохновившись идеями Г.В.Ф. Гегеля, Танабэ Хадзимэ создает свое понимание нации как основу восточной этики: «Можно сказать, что моя философия государства обладает структурой, которая радикализирует диалектическую истину христианства, освобождая ее как бы от мифов и помещая нацию на место Христа… Такое сравнение, я думаю, помогает лучше объяснить, что я имею в виду, утверждая, что наша нация является высшим архетипом существования и что, как союз объективного духа и абсолютного духа, она проявляет Абсолют как воплощение Будды» [21]. Тем самым представления о национальном, на наш взгляд, скорее следует понимать как коллективность, лежащую в основе восточных культур, которую Танабэ возводит в рамках философии истории в Абсолют, что уже является аргументом против предъявленных обвинений.
В своем эссе «Мораль нации» 1941 г. он еще больше формализует концепцию и выходит за рамки описания только японской нации. Он приводит следующие характеристики нации: «Извне она состоит во взаимном сотрудничестве и взаимном уважении среди разных стран, объединенных на уровне рода; изнутри исполняет желания каждого человека; и внутри, и снаружи осуществляет посредничество и сотрудничество и дает любовь к личности» [22]. Согласно данному высказыванию, абсолютность нации становится возможной только посредством сосуществования с другими народами.
Представители первого поколения Киотской школы были вынуждены взращивать свои взгляды в довольно сложный исторический период. Это стало причиной для ряда трудностей и недопонимания, а впоследствии обвинений и возложения ответственности за укрепление националистических идеалов. Исходя из представленных фрагментов текстов и писем, мы можем наблюдать ошибочность обвинений в адрес философов, которые стремились найти свой путь с учетом тех жестких условий цензуры и давления, в которых они оказались. Отчасти это стало причиной замалчивания политической ситуации в текстах Нисида Китаро, но его негодование нашло выход в личной переписке и поздних работах. Он болезненно воспринимал империализм, колониализм и сопутствующие им войны и полагал, что задачей ХХ в. становится объединение наций под крышей одного глобального мира с формированием ряда региональных сфер сопро-цветания. Что касается Танабэ Хадзимэ, то его философские воззрения отчасти в большей степени были подвержены влиянию государственной идеологии, но при более детальном рассмотрении за понятием нации скрывается представление о сотрудничестве с другими странами и гуманистический идеал, выраженный через любовь к личности.
Мы можем сказать, что противодействие националистическим представлениям среди первого поколения Киотской школы было выражено в попытке сосуществования в рамках государственной идеологии под большим давлением милитаризма, но с сохранением и продвижением своих идей, облеченных в необходимую терминологию.
Ссылки и примечания:
Список литературы Медиа в современной художественной коммуникации
- Автономова Н.С. Деррида и грамматология // Деррида Ж. О грамматологии. М., 2000. С. 7-107.
- Деррида Ж. Сила и значение // Деррида Ж. Письмо и различие / пер. с фр. Д.Ю. Кралечкина. М., 2007. 495 с.
- Фуко М. Слова и вещи: археология гуманитарных наук / пер. с фр. Н.С. Автономовой. М., 1977. 487 с.
- Фуко М. Герменевтика субъекта / пер. с фр. А.Г. Погоняйло. СПб., 2007. 677 с.
- Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. Избранные эссе. М., 1996. 240 с.
- Вирильо П. Машина зрения / пер. с фр. А.В. Шестакова. СПб., 2004. 140 с.
- Савчук В.В. Медиафилософия. Приступ реальности. СПб., 2014. 350 с.
- Маклюэн Г.М. Понимание медиа: внешние расширения человека / пер. с англ. В. Николаева. М., 2014. 464 с.
- Гройс Б. Медиум становится посланием // Неприкосновенный запас. 2003. № 6 (32).
- Маньковская Н.Б. «Париж со змеями»: введение в эстетику постмодернизма. М., 1995. 220 с.
- Вайбель П. Искусство и архитектура в эпоху киберпространства // Художественный журнал Moscow Art Magazine. 1997. № 16.
- Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию / пер. с итал. В.Г. Резник и А.Г. Погоняйло. СПб., 2006. 544 с.
- Лейпсон Л. Современная музыка: опыт осмысления // Музыкальная академия. 2014. № 4. С. 48-56.
- Маньковская Н.Б. От модернизма к постпостмодернизму via постмодернизм // Коллаж-2. М., 1999. С. 22-25.
- Жижек С. Интерпассивность. Желание: влечение. Мультикультурализм. М., 2005. 156 с.