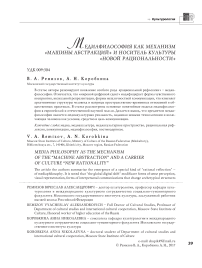Медиафилософия как механизм "машины абстракций" и носитель культуры "новой рациональности"
Автор: Ремизов Вячеслав Александрович, Коробкина Анна Николаевна
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Культурология
Статья в выпуске: 1 (75), 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье авторы резюмируют появление особого рода «рациональной рефлексии» - медиафилософии. Отмечается, что «мировой цифровой сдвиг» модифицирует формы чувственного восприятия, визуальной репрезентации, формы межличностной коммуникации, что изменяет архетипичные структуры человека и матрицы пространственно-временных отношений в общественных практиках. В статье рассмотрены основные понятийные модели медиафилософии в европейской и отечественной научной мысли. Делается вывод, что предметом медиафилософии является медиакультурная реальность, заданная новыми технологиями и включающая человека как условие, средство и цель коммуникации.
Медиа, медиакультура, медиакультурное пространство, рациональная рефлексия, коммуникация, медиафилософия, постмодернизм
Короткий адрес: https://sciup.org/144161069
IDR: 144161069 | УДК: 009:304
Текст научной статьи Медиафилософия как механизм "машины абстракций" и носитель культуры "новой рациональности"
Современность обусловлена тенденциями становления и развития информационного общества, что выражается в идентификации информационно-коммуникативных взаимодействий. Это привнесло в социальную среду медийные средства и способствовало созданию нового типа культуры – медиакультуры [6, с. 85]. Она связана с медиасредой и представляет собой пространство множества взаимодействий, включающих в себя прессу, телевидение, кино, радио, Интернет и пр.
Разноаспектные исследования медиа в воспроизводстве, саморегуляции и само-проектировании социума во времени и пространстве приобретают сегодня всё большее значение. Это непосредственно связано с технократическим фактором – развитием цифровых средств и практик информационного взаимодействия. Они превратили массмедиа во включённое звено эволюции социальных форм жизни. Так, исследователь современной цивилизационной динамики М. В. Силантьева отмечает, что культуры «... уходят со сцены мировой истории» совсем не потому, что их технологии недостаточно развиты или у них нет социального «запаса прочности», а потому, что исчерпан «“запас прочности души” данной культуры [8, с. 175]». В то же время развитие цифрового семиозиса сделало очевидным, что любое средство, играющее роль медиума в обществе, обладает способностью порождать свои структурные и смысловые пространства.
Цифровые гаджеты стали множиться современными технологиями неограниченно и формировать самые новые, неожиданные и сложные пространственновременные и организационно-коммуникативные альянсы. Это позволило сформировать открытое поле «мирового виртуального амфитеатра» (Л. В. Нургалеева), позволяющего с удалённых «трибун» (мониторов компьютеров, сотовых телефонов, коммуникаторов, телеэкранов и т.д.) наблюдать за конкурентной борьбой образов, идей, знаков, символов, ритуало-графики, нормотворчества и включаться в неё при необходимости без промедления.
Современные медиасредства всесто-ронни в своём порождении семиосферы. Растущая мощь медиа привела к тому, что они превратились в одно из важнейших-средств конструирования социокультурной реальности и её массовых образов. Однако, несмотря на то, что цифровые пространства современной культуры развёрнуты для творческого самовыражения, свободных замыслов, коммуникационных игр, личностной самопрезентации, гибкого достраивания ускользающих «убежищ смысла», понимание роли медиа в создании «новой рациональности» и развитии рефлексивных форм культуры пока остаётся нераскрытым [9, с. 237].
Поскольку мировоззренческая картина мира, её образ неразрывны с субъектом её конструирования, то ясно, что секреты современной социальной онтологии кроются в цифровых посредниках её конструирования.
Поток разнообразных форм знаковых интерпретантов в цифровой культуре является беспрецедентным и выражается в многообразии презентационных, имитационных, фантазийных моделей цифровой мультимодальной среды. Это, соответственно, ведёт к изменению матриц социальных репрезентаций, выражающих понимание особенностей организации пространственно-временных отношений в культуре.
Однако «цифровой сдвиг» связан не только с модификацией форм чувственного восприятия, визуальной репрезентацией, формами коммуникации и сетевого взаимодействия, но сказывается и на антропологическом сдвиге – изменении глубинных архетипических структур человека. Известно, что эти априорные структуры предзадают многообразие проектов виртуализации, и каждая из них в той или иной степени связана с проекциями матриц пространственно-временных отношений (топологические, проекционные, координационные аспекты) на сознание современного человека.
Как полагают сегодня психологи и антропологи, программы преодоления ограничений, наложенных телесностью человека, принимают форму религиозного поклонения «идолам» цифровой коммуникации, порождающим виртуальные проекции современных цифровых грёз. Указанные коммуникационные, визуальные и антропологические сдвиги порождают онтологическую и гносеологическую ситуацию, подрывающую внешний реализм традиционной философии.
Всё это – совершенно новое в культурном осмыслении пространства реальности. Однако и современный онтологический и гносеологический скептицизм, или агностицизм, порождаются определённой ситуацией социального бытия, в которой цифровая коммуникация приобрела субстанциальное и самодовлеющее значение. Для экспликации этой ситуации необходимы не просто определённые формы сознания, но и формы рефлексивного самосознания. Такой формой выступает сегодня медиафилософия. Данная форма сознания связана непосредственно с ме-диакультурным пространством.
Один из зачинателей теории медиа в отечественной философии В. В. Савчук, соглашаясь с мнением декана философского факультета Санкт Петербургского университета Ю. Н. Солонина, отмечает, что философская рефлексия актуальных процессов радикально запаздывает [7].
Он же считает, что впервые термин «медиафилософия» ввёл немецкий исследователь Рудольф Фитц в заглавии работы «Медиафилософия. Музыка, язык и письмо Фридриха Ницше» (1992). В том же году этот термин использует Юрген Хабермас.
Тема медиафилософии сегодня активно обсуждается в Германии. Так, заведующий кафедрой теории изображения Йенского университета, президент немецкого общества эстетики Ламберт Визинг в 2005 году представил шесть тезисов о сущности медиафилософии.
Все эти позиции являются, в свою очередь, итогом дискуссий на данную тему, прошедших в рамках известных семинаров в Веймаре.
Первая позиция определяет медиафилософию как реакцию на «изменения жизненного мира [2]».
Вторая позиция характерна для Рос-лера, который считает, что медиафилософия строится на мысли о том, что философия якобы преимущественно оперирует понятиями и отсюда медиафилософия выступает производной от понятия «медиа». При этом Рослер отталкивается от Аристотеля с его вневременными дефинициями.
Третья точка зрения расширяет так называемую концепцию «лингвистического поворота» до медиального. Данный подход утверждает, что функционально язык аналитической философии и язык медиа – конгруэнтны. Это хорошо представлено в монографии М. Фогеля «Медиа как условия мыслей» [18]. Он считает, что центральной смыслообразующей задачей медиафилософии является «выделе- ние языка медиа» среди других языковых форм.
Четвёртая позиция видит медиафилософию как вид дискурса для медиаисследований и медиапрактики. В книге «Медиафилософия. Введение» Р. Марг-райтер высказывает мысль о том, что медиафилософия может быть рассмотрена как основополагающий культурологический дискурс [15].
Всё это вполне закономерно приводит к выводу о том, что медиафилософию можно рассматривать как научную теорию исследований не только медиапрактик, но и медиакультурного пространства.
Данный вывод совпадает с позицией зальцбургского медиаисследователя Ш. Вебера, который в работе “Under Construction” («Заключение об эмпирическом понимании медиаэпистемологии»)
подчёркивает, что «медиафилософия подразумевает работу с философскими основаниями медиатеории и теории коммуникации [19]».
Пятая – радикальная – позиция понимания медиафилософии в ракурсе анализа медиакультурного пространства представлена в работах датского профессора М. Сандеботе [см.: 16; 17]. Он утверждает, что медиафилософия является философской областью консультирования других исследователей, особенно – медиапрактиков. К медиафилософии же – как самостоятельной теоретической дисциплине – он относится скептически, утверждая, что её как таковой не существует.
Негативное отношение присутствует и в работах Ф. Киттлера, но более определённо выражено в статье Е. Эспозито «Слепота медиа и слепота философии», где он отчётливо заявляет, что медиафилософии нет [13; 14]. То, как она представля- ется в мыслях, следует искать в психологии и социологии. Другой автор (В. Флюссер) выдвигает версию о «фотографической» природе медиафилософии и о том, что её основная функция – трансляция практики медиа на «другой язык» [11].
Очевидно, что из шести представленных подходов к медиафилософии наибольший интерес вызывают именно те из них, в которых медиафилософия не рассматривается как академическая дисциплина. Для многих современных западных философов рассуждения о медиафилософии носят пока прикладной характер. И даже некоторые из них выражают враждебность по отношению к «университетской философии».
Прикладной взгляд вполне можно считать скорее позитивным. Он исходит из того, что пространство медиа делает чита-
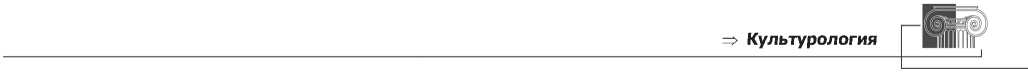
емым, слышимым и видимым как особенное, интерсубъективно действующее тождество. Совершенно ясно, что вне медиапространства мы бы имели дело только с тем, что непосредственно есть. Однако отметим и то, что медиа дают возможность человеку преодолеть свою психофизическую невозможность восприятия и осмысления целого ряда проявлений «виртуальной бытийности», которые не связаны с обонянием, осязанием и т.п. И это имеет большой культурологический смысл.
По причине существования медиа человек живёт не только в физической природе, но и в мире культуры. С данной позиции главной задачей медиафилософии является изучение медиа как единственного средства, которое может освободить человека от «диктата физического».
Исходя из этого и переосмысливая позиции немецких учёных, российский исследователь медиапространства М. Степанов трактует медиа как «машину абстракций» [10, с. 210], а наше знание о реальности – «и есть сама реальность». Такова позиция М. Степанова.
Для становления медиафилософии в нашей стране очень много и на протяжении многих лет сделал В. В. Савчук. Картину новаций современности, как он отмечает, дополняет широкое внедрение в наш язык таких лексических новообразований, как «медиареальность», «медиасфера», «медиаобразование», «медиаискусство» и «медиакультура», «медиапространство», «медиаиндустрия», «медиасубъект». При этом В. В. Савчук часто подчёркивает, что средства коммуникации – вне нас, а медиа – внутри нас. Они и порождают медиафилософию [7, с. 39].
Исследования показывают, что медиафилософия своим возникновением обя- зана фундаментальным поворотам в философии и культуре XX века: онтологическому, лингвистическому, антропологическому и иконическому.
Предметом медиафилософии является медиареальность, заданная новыми технологиями и включающая человека как условие, средство и цель коммуникации.
Дальнейший анализ показывает: поскольку медиа являются средствами коммуникационного процесса, совершенно естественно возникает искушение согласиться с позицией, что, сами того не подозревая, мы являемся агентами хитрости аутопоэзиса и саморазвития медиа и что медиафилософия неизбежна так же, как в своё время были неизбежны метафизика, гносеология, философия науки и техники, философия искусства, политики и права. Она – адекватный и своевременный ответ на вызовы современности. Кроме того, справедливо отметить претензию медиа на роль «четвёртой власти». Сверх того, в ситуации решительной компьютеризации и интернетизации, предпринимаемой в настоящее время руководством страны, возникает исключительная возможность исследовать влияние новых медиа на образ жизни, мировоззрение и сознание больших масс людей, становящихся интернет-пользователями и тем самым втягиваемых в медиакультурное пространство [5, с. 75].
Однако это только одна сторона культурной коммуникативной картины. Современное медиакультурное пространство определяет и сам процесс общения, и фактическое содержание духовных феноменов.
Известнейший польско-американский философ-политолог З. Бжезинский придерживается позиции, что общественное сознание и структурно, и содержательно определено техническими средствами информации. Печать формирует взгляд на мир; телевидение манипулирует, создаёт мозаичный облик картины мира, его культуры. Однако при этом Бжезинский не проводит различия между массовой коммуникацией как процессом, как одной из форм общения людей, и теми средствами, с помощью которых этот процесс реализуется. Особенности, таким образом, расплываются в специфике технических аспектов коммутации информации (печати, телевидения) [12, p. 40].
Такое понимание общения, конечно, искажает суть коммуникаций как разновидности социального общения людей, как подлинно духовных, культурных процессов. Продолжая данную мысль, отметим, что сегодня в либеральном, постмодернистском сознании западных теоретиков (таких как 3. Шрам, О. Ларсен, О. Хаэра и другие) смешивается не только техническое и личностное, но и «индустриальное» и индивидуальное сознание, этнонацио-нальное и глобальное, глобальное и региональное. Всё это объявляется единой продукцией Всемирной сети.
Конечно, роль СМИ в «индустриализации сознания» людей нельзя недооценивать и в нашей стране. Авторы работы «Философия культуры» П. С. Гуревич и Н. Н. Палеева выделяют следующие «механизмы» индустрии сознания: механизм проекции, механизм идентификации, механизм сублимации [4].
Известно, что 3. Фрейд под механизмом сублимации понимал переключение психологической энергии из одного состояния в другое. Поясняя, Т. Адорно отмечал, что психическое напряжение от неудовлетворённости желания может стать побудительным импульсом фантазии, творчества, ибо «красивая жизнь» нужна обывателю, чтобы отвлечься от трудностей реальности. Многие люди мучительно переживают накопившиеся раздражения, боль, досаду. В потоке массовой культуры им «на выручку» предлагаются сюжеты расправы, мести, справедливого воздаяния. «Напряжённость» через это демпфируется и получает ложную направленность. Если поведение человека детерминировано неконтролируемыми секторами психики, то манипулятор, минуя порог сознательности, может способствовать пробуждению стихийно складывающихся, в том числе и агрессивных, аффектаций.
Сущностью этого механизма является то, что человек, столкнувшийся с неразрешимыми вопросами, коллизиями и явлениями, просто не в состоянии осознать назначение и смысл бытия и нуждается в системе позиционной коррекции, что позволит ему отождествлять себя с каким-то общепризнанным образцом – с таким, как герой-«браток»; борец за справедливость; «совестливый»; ищущий правду человек; преступник из кинофильма В. Шукшина «Калина красная» и т.д.
Подводя итоги, отметим следующее. Во-первых, медиафилософия с философско-проективной точки зрения есть логическое продолжение тенденции ноосфе-рогенеза, её концептуализация и объективация. Во-вторых, медиафилософия есть плоть от плоти продукт информационного общества. Современный этап этого общества – постиндустриальное общество. Культура этой цивилизации – постмодерн – нашла своё соответствующее осмысление в философии постмодерна. Поэтому логично предположить, что философия постмодерна есть рефлексия над медийными структурами. Это подмечено мно- гими отечественными авторами, например В. А. Емелиным, В. П. Гриценко [3, с. 210]. В-третьих, изложенные позиции недо- статочно принимают во внимание изменения в ментальной культуре, связанные с системой коммуникации информационнокомпьютерных технологий. Это объясняет замедленные изменения оценок не только семиотической, но и гносеологической и онтологической ситуации.
Наконец, следует отметить, что медиафилософия является методологическим инструментарием анализа такого феномена, как медиакультурное пространство.
Вместе с тем в первых трёх рассматриваемых позициях недостаточно учитывается то, что методология и теория постмодерна есть результат смешения семиотических, синергетических, постмодернистских и некоторых других категорий.
Центральное место здесь занимает диада: «культура – текст».
Текст и его различные формы имеют существенное гносеологическое значение. Благодаря своей «объёмности» и многомерности, текст (гипертекст, интертекст) совместим с таким современным методо- логическим веянием, как междисциплинарный подход. Гипертекст в форме гипермедиа способен в одинаковой мере использовать как лево-, так и правополушарное мышление, совмещая несовместимое (с точки зрения классической гносеологии). Наконец, дополняясь виртуальной реальностью, гипертекст превращает семантику виртуальных миров в норму логического мышления. Такова схематика механизма современного медиакультурного пространства как медиафилософского феномена.
Список литературы Медиафилософия как механизм "машины абстракций" и носитель культуры "новой рациональности"
- Бачило И.Л. Важнейший шаг в признании легитимности информационного права // Информационное общество. 2000. № 6. С. 58-60.
- Визинг Л. Шесть ответов на вопрос «Что такое медиафилософия?» [Электронный ресурс] / перевод с немецкого Дарьи Колесниковой // Исследовательский Центр медиафилософии: [веб-сайт]. Электрон. дан. URL: http://mediaphilosophy.ru/biblioteca/articles/vizing_mediaphil
- Гриценко В.П. Социальная семиотика. Екатеринбург: Институт международных связей, 2006.
- Гуревич П.С., Палеева Н.Н. Философия культуры: монография. Москва: Канон+, 2014. 424 с.
- Ковалев А.А. Медиареальность как феномен современной культуры // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2010. № 6. С. 70-74.